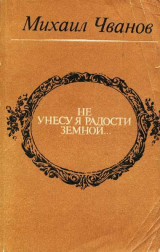
Текст книги "Не унесу я радости земной..."
Автор книги: Михаил Чванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Салават остался верен Пугачеву и в самую трагическую для того пору – в период подавления восстания, когда, почуяв конец, один за другим его стали предавать яицкие казаки, когда башкирские старшины, искавшие в восстании собственных выгод, начали чуть ли не толпами являться к карателям с повинной.
С помощью Салавата пробившись у Верхних Кигов сквозь заслоны карательных отрядов Михельсона, Пугачев, поставив перед Салаватом новую задачу: прикрывать его со стороны Уфы, устремился на север, где ему уже прокладывал дорогу «фельдмаршал» Белобородов, кстати, в прусском походе служивший в отряде Михельсона. Вот что об этом бое писал известный дворянский исследователь Пугачевского восстания Н. Ф. Дубровин:
«Имея при себе значительный обоз с ранеными, больными и артиллерию, Михельсон сознавал, что угнаться за мятежниками ему невозможно… Двигаясь прямым путем через Симский завод на село Богородское и далее на город Уфу, Михельсон надеялся в последнем пункте укомплектоваться лошадьми и боевыми припасами, в которых ощущал великий недостаток».
Салават же, помимо того, что прикрывать Пугачева со стороны Уфы, должен был всячески поддерживать слухи, – чтобы сбить с толку карателей, – что Пугачев со всеми войсками вместе с ним идет на Уфу. Этому поверил даже мудрый Михельсон и предпринял некоторые меры по обороне города. Благодаря этим слухам каратели на некоторое время потеряли Пугачева из поля зрения. Белобородов стремительным ударом занял Красноуфимск, что открывало Пугачеву беспрепятственный путь на Осу.
Салават тем временем боем взял Бирск. Но в Бирске он долго не задержался. Дезориентировав противника, он торопился к Осе, куда вот-вот должен был подойти Пугачев. Тот подошел к Осе 18 июня и сразу же начался штурм крепости.
Первый приступ был неудачен. Во время второго применили предложенный Салаватом метод: обложили стены соломой и подожгли. Так Салават брал Бирск.
Двадцать второго июня Оса пала. В этом бою Салават снова был ранен – в ногу. Но путь на Казань был открыт, и Пугачев устремился в свой отчаянный поход на правобережье Волги, чтобы затем идти на Москву. А Салават, как он позднее сам говорил на допросе, был отпущен домой «для излечения». На самом же деле он был оставлен Пугачевым в Башкирии для того, чтобы сковывать действия карателей, основные силы которых в это время находились еще там.
Поэтому с уходом Пугачева из Башкирии восстание в ней не прекратилось, на что надеялись каратели. Повстанцы даже попытались взять Уфу, как только из нее, поняв уловку Салавата, в погоню за Пугачевым ушел Михельсон. Командование карательными силами вынуждено было отправить в Уфу войска, во главе которых был поставлен князь Голицын.
В начале августа Юлай разогнал башкирских старшин Сибирской дороги, собравшихся «для принесения подданнического повиновения». Многие из башкирских старшин, прежде участвовавших в восстании, теперь стремились загладить свою вину перед правительством поимкой Салавата. Например, полковник Кожин в конце августа сообщал уфимскому воеводе, что старшина Алибай Мурзагулов, «теперь обратившись в прежнее повиновение, с наряженными им башкирцами до двухсот человек намерение имеет итти для поимки известного злодейского начальника Салавата».
Салават обосновался в родных местах – в деревне Ерал недалеко от Симского завода. Он снова попытался взять штурмом Катавский завод, теперь уже хорошо укрепленный и имеющий гарнизон. Салават стремился взять его без кровопролития. Он мог бы, как он это сделал под Бирском и Осой, поджечь заводские стены соломой и ворваться вовнутрь, но он осадил завод и стал выжидать, надеясь на мирный исход.
Особый интерес представляет обращение Салавата и Юлая в Катавский завод, отправленное 10 сентября 1774 года:
«Если к нам в плен попадает ваш человек, мы его не убиваем и не причиняем ему увечья. Если же наш человек попадает к, вам в плен, вы его арестовываете, а некоторых убиваете. Если бы в наших сердцах была злоба против вас, мы могли бы при желании захватывать в плен и убивать большее число ваших людей, чем вы. Но, поскольку в наших сердцах отсутствует злоба к вам, мы их не трогаем. Нам с вами, башкирам и русским, нельзя жить в несогласии и разорять друг друга…»
Карателей больше всего поражало то, что Салават не прекратил борьбы даже тогда, когда Пугачев был схвачен. Например, один из «верных» старшин Кулей Балтачев впоследствии показывал:
«Когда уже злодей Пугач был пойман и находился под караулом, а потом и все тамошние селения пришли уже в должное повиновение, то и тогда юный Салават от произведения своего злодейства не отказался, а чинил… разорения столь громкие, что имя его, Салавата, в тамошних местах везде слышно было, а посему для поимки его и посланы были военные команды, с которыми он неоднократно сражался».
А вот что писал по этому поводу Н. Ф. Дубровин:
«С поимкой Пугачева мятеж сразу настолько утих, что большинство считало спокойствие в краю восстановленным окончательно. Надежды эти однако ж оправдались лишь частично. Салават и его отец Юлай не покорялись…»
Салават действовал не только в районе Катавскаго завода. Он появлялся и на Осинской дороге. Например, в середине сентября его трех тысячный отряд сосредоточился в междуречье Таныпа и Бири. Салават, видимо, намеревался пойти на Ачитскую крепость и на Кунгур.
Поэтому в район его действия срочно был направлен карательный отряд под командованием подполковника Рылеева. Салават, который в это время находился в Ельдяцкой крепости, немедленно же вышел ему навстречу. 18 сентября около деревни Тимошкиной (в двенадцати километрах от села Бураево) произошел первый бой.
Разработанный Салаватом план нападения удивил Рылеева. Он писал в Уфимскую провинциальную канцелярию:
«Дерзкий их прожект столь был сделан с их злодейскими мыслями против вверенных мне войск вреден, которых я от такого вероломного народа никак не воображал, однако ныне видел в настоящем деле».
Второе сражение произошло 22 сентября в междуречье Бири и Таныпа. Сражение было жестоким. Рылееву удалось прорваться в Ельдяцкую крепость, но там он оказался отрезанным от Уфы.
Салават же, держа в окружении Ельдяцкую крепость, сурово расправился с башкирскими старшинами, которые сотрудничали с карателями. Но в октябре его положение стало очень тяжелым. Поимка Пугачева развязала руки карателям.
Но Салават, несмотря ни на что, был полон решимости продолжать борьбу. Как впоследствии показывал в Уфимской провинциальной канцелярии башкир Таир Юрляков, Салават дал слово «до самой погибели находиться в беспокойствие и не покоряться».
Главнокомандующий карательными силами граф Панин 18 октября послал к башкирам специальное увещание, в котором содержалось требование, чтобы «главного между башкирским народом теперь возмутителя Салаватку с сыном, поймав, отдали ближайшему из подчиненных мне войск военачальнику».
Выдержка из этого увещания любопытна тем, что в сознании высоких царских чиновников никак не вязалось, что Салавату всего 22 года. И Панин невольно поменял Салавата местами с отцом: то есть он считал Салавата умудренным опытом чуть ли не старцем, а Юлая – его сыном.
Но надежд на поимку Салавата было мало. Поэтому глава секретной комиссии, которая вела следствие о Крестьянской войне, временщик Екатерины граф Потемкин 29 октября вынужден был обратиться с, письмом к самому… Салавату. Вот текст его:
«Башкирскому старшине Салавату Юлаеву. С крайним прискорбием извещаю я, что ты до сего времени в злобе и ослеплении погружаешься, будучи увлеченным прельщением известного всем злодея, изменника и самозванца Пугачева, который ныне со всеми главными его сообщниками пойман и содержится в тяжелых оковах и примет скоро мучительную за все злодейства казнь. И для этого, истинным сожалением побуждая сделать тебе в последний раз сие увещание: покайся, познай вину свою и приди с повиновением. Я, будучи уполномочен всемилостивейшего ее величества доверенностью уверяю тебя, что получишь тотчас прощение. Но если укоснешь еще за сим увещанием, то никакой пощады не ожидай».
Разумеется, что Салават не явился с повинной. Он продолжал осаду Катавского завода, пока в конце октября ее не сняли войска под командованием подполковника Аршеневского.
Отряд Салавата быстро распадался. Кольцо карателей сжималось все плотнее. Подходила зима. Многие крестьяне не сеяли хлеба, не косили, поэтому очень трудно стало с продовольствием. Многие стали являться с повинной. Даже отец Салавата стал подумывать о сдаче правительственным войскам и вступил в осторожные переговоры, что кончилось выдачей его «верными» старшинами командиру одного из карательных отрядов коллежскому советнику Тимашеву.
Салават с верными друзьями скрывался в окрестностях родной деревни – по преданию, в пещере на берегу Юрюзани около деревни Идрисово и в пещере-провале около Калмакларово. Он намеревался, «не имея уже другого средства к избавлению, с тем, что как скоро услышит о приближении войска, уйти прямо лесами и горами в киргисцы, чему все его товарищи согласны были».
По преданию, была попытка схватить его, когда он однажды ночью приходил к семье. Салават смог отбиться. Его теснили как раз вот к этой самой красной скале, на которой мы сейчас стояли. Тогда он прыгнул с нее в холодную Юрюзань…
Километрах в пяти отсюда, где Нися – еще совсем небольшой ручей, стоит татарское село Насибаш. В окрестностях Насибаша и другого татарского села Лаклы, которое стоит уже на берегу Ая, где когда-то произошел один из самых ожесточенных боев Пугачева и Салавата с Михельсоном, – самые соловьиные места. Один из долов так и называется: Соловьиное горло. Кому не знакомы горькие и суровые стихи фронтового поэта Михаила Львова.
В юности, перелистывая один из сборников Львова, я наткнулся на такие строки:
Жил я в детстве когда-то
На земле Салавата —
Соловьиного края,
В переливах курая,
За Лаклами, у Ая,
Там, где реки сливались,
Где луга заливались,
Где вовсю заливались
Соловьи Салавата.
Там Уральские горы.
Там такое есть место —
«Соловьиное горло».
Соловьям там аж тесно,
В «Горле» – детские горны.
Оказалось, что Михаил Львов – литературный псевдоним Рафката Давлетовича Маликова, родившегося в Насибаше в 1917 году. Оставшись круглым сиротой, он рано покинул родную деревню. Окончил в Златоусте семилетнюю школу, в Миассе – педагогический техникум. В 1941 году с Уральским добровольческим танковым корпусом ушел на фронт. Дорога в Литературный институт имени Горького, в большую поэзию лежала через раскаленные люки горящих танков, через поверженный Берлин.
Солдат Рафкат Маликов тоже не вернулся в родной порт. И причиной тому, наверное, были не только наши необыкновенные рассветы. Но есть у поэта такие строки:
Это мной не забыто.
О, крестьянские мамы,
От болезней и бедствий
Ваши древние средства
Нас спасли.
Как я мало
Спел вам песен – за детство.
Благодарного слова
Не сказал вам покамест.
Я приеду к вам снова,
Я еще не на пенсии,
Это мне рановато.
Поучусь у вас песне,
Соловьи Салавата.
…Вдруг какой-то приглушенный звук, похожий на далекий пушечный выстрел. Удивленно прислушиваюсь.
Еще…
Может быть, это водопад на Нисе? Вроде бы нет.
Наконец догадываюсь: тронулся лед. По ржавому каменистому склону скорее поднимаюсь на скалу: внизу стремительно и бесшумно проносились льдины, иногда налетали друг на друга, на торчащие из воды каменные глыбы, когда-то отвалившиеся от скалы, и с большим опозданием долетал до меня странный звук, похожий на приглушенный вздох.
Незаметно подкрались блеклые сумерки. Желтые костры краснотала в осевшем снегу. Бреду назад затопленными лугами, расплескивая тяжелыми болотными сапогами разбухшие прошлогодние листья цвета старой жести. Большое и красное солнце в холодной воде. В черных полях – бесшумные пожары, от них, цепляясь за метлы полыни на межах, тянется по низинам сладковатый синий дым. Это перед севом жгут остожья.
Ночью, оглохнув от тишины, выйдешь из крошечной деревянной гостиницы в низкие, словно шуршащие звезды, – и шепчут что-то, и бормочут, и плачут, и смеются ручьи. И даже во сне до самого утра шумят потоки воды.
„Правительствующему Сенату предлагаю…“
Сейчас, наверно, уже мало кто, кроме литературоведов, знает, что выдающийся русский поэт Гавриил Романович Державин в последние годы своей жизни написал либретто оперы, которую назвал «Рудокопы». Местом действия оперы Державин избрал… Впрочем, предоставим слово самому поэту: «Театр представляет Рифейский хребет, или Уральские горы, во всем природном их ужасном великолепии…». А со временем Гавриил Романович даже собирался поставить на эту тему балет: «После оперы, если рассудиться, может быть, следующий приличный балет».
Но сцены опера не увидела – в силу своей художественной слабости, чем, впрочем, грешили и другие драматические произведения Державина последних дет его жизни. Либретто оперы было опубликовано в девятитомном собрании сочинений прошлого века и больше не издавалось.
В четвертом номере журнала «Уральский следопыт» за 1972 год была опубликована статья «Пермские подземелья и опера «Рудокопы». Автор ее, А. Никитин, утверждал, что либретто оперы «Рудокопы» написано «на основе города Перми», ее медных рудников. Основанием для такого утверждения ему послужила вот эта строчка из либретто Державина: «Действие происходит частично на заводе, частично в руднике Златогоровом, в Перми», хотя, если посмотреть на карту XVIII и даже XIX веков – Пермью в те времена называли целую географическую страну без определенных границ – чуть ли не весь Урал, в том числе и Башкирию, и даже дальше на восток.
Впрочем, это отметил в комментарии к статье А. Никитина и свердловский ученый кандидат исторических наук А. Г. Козлов: «То, что, по словам автора либретто, «действие происходит в Перми», еще не дает оснований говорить о городе с этим именем. Надо помнить, что в городе Перми в те годы находился центр горного управления края, а территориальное понятие «Урал» еще не было в широком употреблении. В данном случае слово «в Перми» можно понимать и как «в Пермском крае», «на Урале». В документах тех лет такое встречается часто».
Что касается пермских рудников, на материале которых, по мнению А. Никитина, Державин написал либретто к опере, А. Г. Козлов уточняет: «К началу XIX века в Перми был лишь оставленный казенный Егошинский завод и не было действующих рудников», А дальше замечает, что «Г. Р. Державин хотя на Урале и не бывал, но знал его не только по рассказам. Державину приходилось дважды официально разбирать семейные конфликты уральских горнозаводчиков. В конце XVIII века он как сенатор занимался «затяжным делом» В. А. Всеволжского, владельца Пожевских заводов, а в 1800–1804 годах, в качестве опекуна Н. А. Котовской, расследовал сложный конфликт совладельцев Сысертских заводов… Располагая этими данными, поэт мог использовать их в определенной мере и при создании либретто «Рудокопы».
Но только ли по материалам этих заводов имел Державин представление о горнозаводском деле Урала?
Однажды, перелистывая один из выпусков «Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии», я наткнулся на оглавление пятого выпуска за 1899 год. Под пунктом шестым читаю: «Из неизданных произведений Державина».
В фондах Республиканской библиотеки вышеупомянутого выпуска сборника не оказалось. Пришлось прибегнуть к услугам сотрудников межбиблиотечного абонемента.
– Пошлем загсам в Москву, в Историческую библиотеку, – успокоили они меня.
Через две недели звонят: «Для вас пришла книга. Приходите. Дать домой не сможем – единственный экземпляр».
Поспешно листаю пожелтевшие от времени страницы. Наконец нахожу: «Из неизданных произведений Г. Р. Державина».
Примечание издателя: «В архиве Оренбургской ученой архивной комиссии хранится дело 1797 года под следующим заглавием: «По рапорту Оренбургской казенной палаты о рассмотрении бергколлегией состояния казенного Вознесенского медеплавильного завода». В этом деле есть предложение Правительствующему Сенату за собственноручною подписью Державина».
Выходит, что Гавриил Романович Державин был знаком с уральским горнозаводским делом не только по материалам Пожевских и Сысертских заводов, но и по материалам бывшего Вознесенского медеплавильного завода. А находился этот завод в горной Башкирии, на территории нынешнего Бурзянского района, на месте впадения речки Иргизлы в Белую. В этом удивительно живописном месте примерно в девяти километрах от широко известной Каповой пещеры лежит теперь село Иргизлы, в котором наряду с другими организациями обосновалась контора Прибельского филиала Башкирского государственного заповедника.
Какое же отношение мог иметь к Вознесенскому медеплавильному заводу, затерянному в далеких и глухих бурзянских лесах, сенатор Г. Р. Державин? А если мог, то чем вызвано появление его «Предложения», иначе говоря, почему «действительный тайный советник и кавалер Гавриил Романович Державин объявил, что он на продажу помянутого завода не согласен и о том подаст свое мнение?»
История Вознесенского медеплавильного завода начинается с 1753 года: «Действительный камергер и кавалер граф Сивере в бергколлегии просил позволения о построении в Уфимском уезде, на речке Елане да на речке Кузя, медеплавильных заводов, что ему коллегия и позволила, предписав Оренбургской губернской канцелярии отвесть под заводы места и лесов на 60 лет, в платеже же ва оные и на земли иметь ему со владельцами договор».
Граф Сивере обещал выплавлять по пять тысяч пудов меди в год, но леса уральские в те времена были малолюдны. И потому он «за неимением вольных людей, просил, чтобы приписать к оному заводу крестьян из Казанской губернии, каковых по указу Сената на представление (коллегии последовавшему, и приписано годных к работе 1000 душ, да в тех же селениях за сею припискою осталось негодных 1319 душ». Обратите внимание, как в тогдашние времена – если выразиться современным языком – было просто с организованным набором рабочих на новостройки: взяли да приписали 2319 душ, не спросив ни одну из них на это согласия, к находившемуся где-то у черта на рогах заводу. А находились эти села от него ни мало ни много на расстоянии от 539 до 588 верст. И не было тогда еще не только поездов, но даже приличных дорог, и потянулись переселенцы в далекий путь на скрипучих телегах.
Но в 1755 году поверенный графа Сиверса оренбургский купец Гордиевский доносил коллегии, что на вышеуказанных местах «за возмущением башкирцев заводов строить неудобно» (в этом году в Башкирии вспыхнуло восстание, вошедшее в историю как восстание под руководством Батырши), а потому просил разрешения о построении завода на вновь приисканном месте на речке Иргизле.
В действие завод был пущен в 1756 году. Сколько меди выплавлялось на нем в первые годы – неизвестно. Ведомость выплавки металла сохранилась лишь с 1760 года, из которой видно, что в 1760 году было выплавлено 5091 пуд ж 16 фунтов меди, в 1761–5503 нуда, то есть граф Сивере успешно справлялся со своим обязательством. Но в 1762 году выплавка металла почему-то резко сократилась, может быть, в связи с одним из новых башкирских волнений – в этот год было выплавлено всего 2985 пудов меди. Но в следующие годы снова наблюдается рост: в 1763–3990, в 1764–4800 пудов меди.
В 1765 году подзалетевший в крупные долги граф Сивере – кстати, так ни разу и не побывавший на заводе, – вынужден был сдать его в казну за имеющиеся за ним долги в сумме 111261 рубль 70 копеек. Так Вознесенский медеплавильный стал единственным на Южном Урале заводом, принадлежащим казне. Надо сказать, что сделал Сивере это вовремя. События надвигались очень неспокойные. Стоило 1 ноября 1773 года появиться в окрестностях Иргизлов отряду повстанцев «работного человека» соседнего Кана-Никольского завода Ивана Лаврентьева, как приписные крестьяне и казенные мастеровые Вознесенского медеплавильного завода присоединились к восстанию. У заводской конторы Иван Лаврентьев «закричал вслух: слушайте, народ, государь Петр Федорович, приняв царство, жалует вас вольностью и освобождает ото всех работ». «А как оне крестьяне оною работою были недовольны, потому-то Лаврентьев со товарищами своими выбрали годных в службу Пугачева множество», – показывал потом один из работных в следственной комиссии. Впрочем, волнения на заводе начались значительно раньше, еще в сентябре, при первых известиях о вспыхнувшем на Яике восстании – еще в те дни на мятежную реку с завода бежала группа крестьян.
Яик! Река, давшая России столько великих бунтарей. Она теперь зовется Уралом. Так после подавления Пугачевского восстания приказала переименовать ее Екатерина И, чтобы ничто больше не напоминало ей о страшном времени.
Так, может, стоит вернуть реке ее истинное, исторически сложившееся имя? Ведь в народе ее так и продолжают звать – Яик!
Восставшие захватили пушку и весь порох. Сто семьдесят человек отправились в главную армию Пугачева под Оренбургом. Тридцать человек из них были выделены в отряд атамана Давыдова, действовавший в районе Бугульмы, а вольнонаемный работник завода Яков Калугин стал секретарем его штаба. Присоединился к восстанию даже горный чиновник «бергешворен» Соколов, замещавший управляющего заводом Гальбрехта. Впрочем «присоединился к восстанию» – не совсем точно, берг-гешворен Соколов фактически руководил восстанием на заводе. Он сжег все конторские книги и уверял, что Пугачев «истинный государь», он агитировал заводских крестьян добровольно записываться в войско «государя», по его инициативе был закован и отправлен в Берду пытавшийся разубедить крестьян начальник охраны завода поручик Савва Орлов, а «тутошний заводской поп» Петр Ильин привел крестьян к присяге. Позже, в Берде, Соколов получил чин есаула, его избрали начальником завода, и он вернулся на него для охраны от правительственных войск.
Вознесенцы активно поддерживали армию Пугачева и в очень тяжелую для него весну 1774 года. Завод был для него, по сути дела, одной из надежных опорных тыловых баз. Но в конце мая этого года завод был сожжен внезапно налетевшим башкирским повстанческим отрядом. Башкиры и раньше смотрели на уральские заводы как на зло, с искоренением которого падет и все другое зло: заводы бесцеремонно строились на исконной башкирской земле, они были опорными пунктами царской администрации, – но Пугачев, который даровал им величайшие свободы, строжайше запретил жечь заводы.
Теперь же, когда Пугачев терпел одно поражение за другим и уходил все дальше от башкирских земель, снова стали проявляться антизаводские тенденции. Тем не менее Вознесенский завод, как и некоторые другие заводы Южного Урала, был сожжен по прямому указу Пугачева, который немногим ранее сам сжег Белорецкий завод. Приказ этот был обусловлен тем, что теперь заводы, попадая в руки карательных войск, становились их опорными базами…
После подавления восстания встал вопрос о судьбе сожженного завода. Рассмотрев этот вопрос, бергколлегия, ведавшая тогда всем заводским делом России, как теперь говорят, вошла с предложением в Правительствующий Сенат о продаже завода частным лицам, так как от восстановления его казна понесет большие убытки. Никто вроде бы не сомневался в исходе дела, но неожиданно оно зашло в тупик,
Почему?
А потому, что «при подписании протокола о продаже частным лицам состоящего в пусте Оренбургской губернии Вознесенского медеплавильного завода действительный тайный советник и кавалер Гавриил Романович Державин объявил, что он на продажу помянутого завода не согласен и о том подаст свое мнение». Такая запись была сделана 2 сентября 1802 года в журнале Правительствующего Сената по первому департаменту.
Так вот это «Мнение», одна только вытяжка из которого составила у меня почти пятнадцать страниц машинописного текста, и есть вышеназванное неизданное произведение Державина.
В чем же суть этого «Мнения»?
Что смутило тайного советника и кавалера Гавриила Романовича Державина в решении бергколлегии о продаже завода?
Его смутил, во-первых, тот факт, что «завод сей лежит в Оренбургской губернии на том же самом кряже Уральских гор, где заведены и действуют с великим прибытком 130 казенных и частных металлических заводов; пространное местоположение оного, заключающее в себе земли и лесов в 2122 квадратных версты, окружается в недалеком расстоянии заводами Авзяно-Петровскими Губина, Воскресенским Пашкова и Преображенским Гусятникова, столь по своему изобилию и богатству в рудах и в других потребностях знаменитыми».
Но еще больше его смутило другое. То, что когда встал вопрос о продаже завода – потому что возобновление его, якобы, вызовет большие убытки, – «первая к торгу явилась ближняя тем рудникам и заводу заводчица Пашкова, возводя – оному цену с 89-ю отысканными рудниками и с ненайденными 448-ю до 16600 рублей, а после о том также через Сенат вошла в торг ближняя Пашковой заводчица Казицкая и наддала сверх первой 3400 рублей. При том поверенный Пашковой и еще объявил желание торговаться». Скоро цена возросла до 35200 рублей, Гавриил Романович Державин был не только первым поэтом своего времени, но и, как мы увидим из его «Мнения», дотошным и принципиальным чиновником. Впрочем, он всегда со свойственной ему прямотой и резкостью боролся со взяточничеством и лихоимством. Это не всегда нравилось его непосредственным начальникам, как не нравилась им и его независимость по отношению к вышестоящим. Как известно, его губернаторство в Тамбове закончилось отставкой и преданием суду, недолго удержался он и в должности секретаря Екатерины И, утверждавшей впоследствии, что Державин «не только грубил при докладах, но и бранился». Павел I подверг его опале «за непристойный ответ», Гавриил Романович Державин усмотрел в представлении бергколлегии хитрость, или, как он осторожно выразился, «обнаруживается одна умозрительность в расчетах бергколлегии». Но для того, чтобы доказать это, он вынужден был вникнуть в мельчайшие подробности дела, или, как оц сам писал, «то за нужное я почел войти во всю подробность сего небезважного дела и изобразить Правительствующему Сенату вкратце на благорассмотрение».
Державин рассмотрел вопрос в четырех аспектах: «ПЕРВОЕ, историческое сего завода происхождение, ВТОРОЕ, разноречие для осмотру его посланных чиновников и чиновников самых мест, управляющих сею частью, а из того ТРЕТЬЕ, замечания мои о невыгодности продать оный в частные руки, и, наконец, ЧЕТВЕРТОЕ, способы восстановить для пользы казенной».
Что же удалось выяснить Державину?
Как я уже говорил, в 1777 году Вознесенский завод был сожжен восставшими, и в 1777 году Сенат приказал бергколлегии «освидетельствовать наперед заводское место, леса, рудники и качество руды, и ежели будет прибыток, сделав смету, во что возобновление встанет и в какое время издержки окупятся, представить мнение».
Бергколлегия поручила это сделать существовавшей тогда Канцелярии Главного заводского правления, а та в свою очередь послала на далекий таежный завод обер-штенфелвалтера Аистова. Долго ли, коротко ли был на заводе Аистов, неизвестно, но бергколлегия получила от него такое донесение: «Строение сгнило, леса невыгодны, воды недостаточно, выплавка меди станет дороже продажной цены. И вообще от возобновления того завода пользы никакой не будет». И Аистов предлагал как можно скорее избавиться от него. Как? Да продать его в частные руки.
Но неужели такие уж дураки частные заводовладельцы, если наперегонки стремятся заполучить, и за немалые деньги, заведомо убыточный завод? Державин справедливо заметил тут неувязку. Скорее всего уральские заводчики крупно сунули Аистову в лапу.
Но так как в это время завод поступил в управление Уфимской казенной палаты, то бергколлегия поручила рассмотреть это дело ей.
Палата «через своего советника горных дел Ушакова, а потом и асессора Вонявина начала чинить осмотры и отыскивания вознесенских рудников».
Долго ли, коротко ли чинили они осмотры, опять-таки неизвестно, но надо полагать, что Ушаков и Вонявин тоже получили в лапу, потому что докладывали: «Хотя лесов и достаточно, но возка угля так затруднительна, места заводские на таких горах, косогорах и стремнинах, что наверх не только с возом, но и пешком с немалым трудом всходить должно». Державина не могло не возмутить такое наглое утверждение, и он пишет: «И это, невзирая на то, что сей завод углем действовал во время Сиверса 5, а во время казенное – 8, а всего 13 лет, и те же приписные крестьяне его свободно возили, почему и оказывается из того скользкое его Ушакова наблюдение».
Что же было дальше?
В то время, как посылаемые на завод чиновники один за другим докладывали о невыгодности восстановления завода, частные предприниматели грызлись между собой из-за него в цене. А тут еще поступила просьба о непродаже завода от бывшего поверенного графа Сиверса купца Гордиевского. Он брал на себя обязательство за небольшую ссуду из казны восстановить завод и утверждал, что он будет прибыточным. Тогда Сенат в 1787 году предписал разобраться в этом деле оренбургскому генерал-губернатору барону Игельстрому. Но, как пишет Державин, «означенный генерал-губернатор, не приступая к какому-либо оснавательному исследованию о том заводе, потребовал от той же Уфимской казенной палаты сведений, которая ему ответствовала то же, что от продажи не отступает».
«Бедный» Сенат уже не знал, что делать. Никому нельзя было верить. Ни на кого нельзя было положиться. В это время в Екатеринбурге (ныне Свердловск) была вновь организована так называемая Канцелярия Главного заводов правления. Может быть, в ней чиновники еще не успели развратиться? И Сенат предписал канцелярии, «дабы она через надежного обер-офицера опытами удостоверилась как о числе, так и о благонадежности всех рудников, этому заводу принадлежавших, равно о лесах и землях, о – состоянии заводского строения, чего возобновление его стоить будет, от меди будет ли прибыль и прочее».
Канцелярия Главного заводов правления отправила в бурзянские леса толкового горного специалиста Полозова. И через некоторое время с его слов в Сенат было доложено, что «Вознесенский завод в 1797 году осматривая и оказалось, строения хотя в великой ветхости, но лесов однако ж довольное количество, и руды, взятые с семи рудников, достаточного содержания».
Первого июня 1801 года после «точнейшего тех рудников расследования» он добавлял, «что из числа рудников, считавшихся принадлежавшими Вознесенскому заводу, Синзянский не есть выработан, как Уфимская палата выше писала, но еще он оказывает и большее изобилие руды, нежели в нем было. По сему и можно судить, не подработался ли кто из заводчиков под оный его отвод для вынутья руд в течение продолжительной его запустелости. А с прочих же рудников, хотя не со всех, но со многих употребленные расходы с прибылью вознаградятся».








