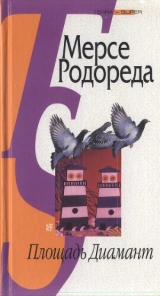
Текст книги "Площадь Диамант"
Автор книги: Мерсе Родореда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Сели обедать, и Кимет сразу спросил, где соль. Мать вскинула голову, будто ее кто иголкой кольнул. Я, говорит, все солю, как положено. А Кимет – свое, соли мало, соли мало. Тогда соседка вмешалась: по-моему, говорит, соли в самый раз – ни много, ни мало. А Кимет уперся – преснятина, никакого вкуса.
Тогда его мать встала, вся вытянулась стрункой, пошла на кухню и принесла солонку – такой кролик фарфоровый, и соль сыплется из дырок в ушках. Поставила этого кролика на стол и процедила – вот, пожалуйста. А Кимет, нет чтобы посолить, понес вдруг, что все люди из соли и что это повелось с той поры, когда одна женщина ослушалась своего мужа и оглянулась назад, хотя он строго-настрого запретил оглядываться, и велел идти за ним и смотреть только вперед[17]. Мать одернула Кимета – ешь и молчи, а он вдруг к соседке – прав или не прав был тот муж, который запретил жене оглядываться? Соседка сидит чинно, ест так аккуратненько, я, говорит, в этом мало разбираюсь.
И тут Кимет как крикнет: вот дьявол… Крикнул «вот дьявол!», помолчал, а потом взял фарфорового кролика и давай трясти. И матери – ну где, где тут соль! Все утро на бантики убила, а что соли нет, так это пусть? Тут я вступилась за мать и сказала, что лично мне соли вполне достаточно. А соседка возьми и скажи, что она вообще не выносит, когда пересолено. Кимет точно ждал: а-а-а, теперь мне все ясно, одно дело готовить без соли, чтобы соседке угодить, а другое – морочить голову родному сыну, что все посолено. И насыпал столько соли в тарелку, что мать даже перекрестилась. Потом, наконец, поставил солонку на стол и, снова здорово, мол, все знают, что дьявол… Мать ему – хватит, уже голова кругом, а он точно оглох – кто придумал диабетиков – дьявол, кто же еще на такие козни способен? Ведь не зря у людей все соленое, пот, слезы…
И мне – вот лизни руку, увидишь, какого она вкуса. И пошел, и пошел про дьявола, а соседка так осторожненько ему – ну вы, как маленький, в дьявола верите. Кимет никакого на нее внимания, несет про дьявола, и делай что хочешь. Но мать не выдержала и повысила голос: ну хватит, замолчи! Словом, мы обедаем, уже половину всего съели, а Кимет ни к чему не притронулся, так и сидел. А потом снова: дьявол – это тень самого Бога, он везде, в растениях, в камне, в горе, в домах, на земле, под землей. Дьявол кем хочешь обернется, даже огромной черной мухой с синим и красным отливом. Эта муха летает по помойкам и свалкам и питается там всякой падалью и гнилью. При этих словах Кимет отодвинул от себя тарелку, ничего, говорит, есть не буду, кроме сладкого.
На Пасху он пришел обедать к нам и подарил отцу гаванскую сигару. А я принесла торт – полено, «цыганская рука» называется. За обедом Кимет только и говорил про то, какое дерево на что годится. А когда мы пили кофе, спросил меня потихоньку: как лучше, уйти сейчас или немного попозже. Я сказала – мне все равно. Но жена моего отца сказала, что молодежь должна веселиться, а не сидеть дома, в общем, в три часа мы ушли. На улице жарища, солнце печет, куда деваться? Ну, мы и пошли к себе на квартиру обдирать обои. Там застали Синто и Матеу, они рассматривали два больших рулона обоев, которые принес Синто. И Синто сказал, что знает одного мастера, который оклеит комнаты бесплатно, если Кимет достанет ему ножки для стола, новые, потому что старые источил жучок, да так, что стол вот-вот рухнет. И дети, как никого из взрослых нет, нарочно раскачивают этот несчастный стол, чтобы он поскорее развалился. Кимет с Синто сразу договорились.
Когда столовая была оклеена, на одной стене справа выступило пятно. Мы позвали того парня, который клеил, и он сказал, что не по его вине, пятно выступило позже, и дело, наверное, в самой стене, может там что лопнуло. Но Кимет уперся – пятно было с самого начала и надо было учесть, что там сырость. Матеу предложил сходить к соседям, может, говорит, у них с той стороны раковина, и тогда ничего не поделаешь. Все трое отправились к соседям, а те в крик: причем здесь мы, если на вашей стене пятно, в общем, дали адрес своего хозяина. Ихний хозяин сказал, что пришлет человека посмотреть, что за пятно, но никто и не подумал прийти, потом явился сам и сказал, раз мы попортили стену, нам самим и платить за ремонт, или пусть разбирается наш хозяин. Кимет сказал, что мы не обязаны. А наш хозяин и слушать не стал, я, говорит, заранее знал, что ваша возня добром не кончится, так что умываю руки. Кимет прямо взбесился, а Синто сказал, что по справедливости за ремонт надо платить пополам. Но соседский хозяин – ни в какую. Разбирайтесь, говорит, со своим хозяином.
– Раз это пятно из-за вашей сырости, с какой стати нам идти к нашему хозяину? И соседский хозяин сказал, что если мы думаем, что сырость с ихней стороны, то он в два счета докажет, что с их стеной все в порядке. Развернулся и ушел, а мы еще долго не могли успокоиться. И чего, собственно, было волноваться, доказывать, спорить, бегать туда-сюда из-за такой мелочи, такой ерунды – взяли потом и поставили к этой стене шкаф, и делов…
Каждое воскресенье мы ходили в «Монументаль» выпить вина и поесть чего-нибудь вкусного. И вот как-то раз к нам подходит человек в желтой рубашке и предлагает купить фотографии какой-то актрисы. Она, говорит, была королевой Парижа, а я – ее импресарио, эту, говорит, актрису любили короли и принцы, а теперь она совсем одинокая, всеми забытая и распродает вещи, чтобы свести концы с концами. Кимет послушал и послал его куда подальше. Когда мы вышли на улицу, Кимет велел мне идти домой, а сам собрался к одному сеньору, который решил подновить три спальных гарнитура. Я несколько раз прошлась по нашей Главной улице, все витрины разглядывала. Особенно ту, в хозяйственном магазине, где куклы выставлены. И какие-то нахалы увязались за мной и несут чего-ничего, а один, чернявый, подошел ко мне совсем близко и говорит – ну чудо, язык проглотишь. Будто я – пирожок к бульону. Мне даже совестно стало… Отец мой прав, не зря он говорил, что я уродилась слишком серьезная, строгая. А я, если по совести, вообще не знала, зачем родилась и зачем живу на этом свете.
VI
Кимет все говорил, что пора познакомить меня с мосеном[18] Жоаном. И вот по дороге к нему он вдруг сказал, что за квартиру мы будем платить пополам. Ничего себе! Вроде, мы – просто друзья-приятели, и все… Дома из-за этого вышел скандал, потому что все мои деньги, которые оставались от тех, что его жена брала за питание, были у отца. Потом отец уступил, ладно, говорит, пусть пока платят пополам. И все-таки, как это Кимет сказал мне насчет денег, когда мы с ним шли к мосену Жоану?
Мосен Жоан, он точно весь из мушиного крыла, то есть не он, а его одеяние: черного цвета, но поблекшего, почти серого. Встретил он нас замечательно, а говорил – ну просто святой! Кимет ему чуть ли не с ходу – свадьба что? Прошла, и нету, и чем меньше денег уйдет, тем лучше. Если бы все это провернуть за пять минут, а не за десять – было бы здорово. Мосен Жоан, – он Кимета знал еще мальчишкой, – уперся ладонями в колени, подался вперед и посмотрел на него глазами уже затуманенными, в которых вся старость, все его годы скопились. Нет, говорит, ты не прав, дорогой. Супружество – это на всю жизнь, и тут надобно соблюсти все, что положено. Вот ты, говорит, в воскресенье стараешься одеться наряднее. А свадьба – это как великое воскресенье, и нужно, чтобы все честь по чести, торжественно. Если у нас не будет ни к чему почтения, значит, мы, хуже дикарей… А ты же, по-моему, не дикарь, а христианин. Кимет голову опустил, слушает, собрался было что-то сказать, но мосен Жоан остановил его рукой.
– Я вас обвенчаю, но главное – не спешите. Теперешняя молодежь куда-то спешит, жить торопится, вроде в ней бес засел. А чтобы жизнь была прожита по-настоящему, нельзя все делать впопыхах, наскоро. Невеста твоя захочет, думаю, пойти в церковь в белом длинном платье, а не в простом, пусть даже новом. Почему? Чтобы все видели, что она – невеста. Девушки, в них трепет чистоты… и на всех свадьбах, на всех венчаниях, которые у меня на памяти, все невесты были в белом.
Когда мы вышли на улицу, Кимет сказал: я его уважаю, он очень человек хороший.
Из дому я только и взяла, что односпальную кровать, больше у меня ничего не было. Синто подарил нам лампу в столовую, железную, с малиновой бахромой. Эта лампа висела на трех железных цепях, и они сходились в железный цветок с тремя лепестками. Я была в длинном белом платье, а Кимет весь в черном. Даже ученик его пришел и вся семья Синто – три сестры и два брата с женами. Мой отец тоже пришел, он должен был вести меня к алтарю. А мать Кимета была в черном парчовом платье, оно даже похрустывало. Джульета надела пепельное, кружевное, с розовым бантом. Да все очень нарядные! А жена Матеу, ее звали Грисельда, в самый последний момент осталась дома, плохо себя почувствовала, и Матеу сказал: это у нее бывает, не обижайтесь. В церкви мы были очень долго, и мосен Жоан говорил красиво. Про Адама и Еву, про яблоко и змея, про то, что женщина сделана из ребра мужчины и что Адам, проснувшись, увидел ее – она спала рядом, – и очень удивился, потому что Господь Бог ничего не сказал ему заранее. Еще мосен Жоан говорил про рай, какие там дивные ручьи и луга с мягкой травкой и голубыми цветами, а Ева, оказывается, как проснулась, сорвала голубой цветок и подула на него. Лепестки поплыли по воздуху, а потом упали, и Адам рассердился, что она зря загубила цветок. Адам – отец всем людям, и желал им добра. А все кончилось огненным мечом… Разве что добром кончается, тихонько сказала сеньора Энрикета, и я подумала, что бы сделал мосен Жоан, увидев ее картину, где лангусты с диковинными головами вылезают из бездны и забивают всех насмерть своими хвостами. Гости уверяли, что мосен Жоан никогда не говорил такой красивой проповеди, а ученик Кимета сказал, что когда венчалась его сестра, мосен Жоан тоже говорил и про рай и про Адама с Евой, и про ангела и про огненный меч… все в точности, только цветы, говорил, в раю желтенькие, а вода в ручьях по утрам – голубая, а вечером – розовая.
Нас записали в церковную книгу, а потом мы все поехали прямо на Монтжуик[19], чтобы погулять на свежем воздухе перед банкетом. После этой прогулки, когда гости стали пробовать разные закуски, мы с Киметом пошли фотографироваться. Нас снимали по-всякому. Сначала Кимет стоял, а я сидела, потом я стояла, а Кимет сидел. Потом фотограф усадил нас обоих, чуть вполоборота, потом велел смотреть друг на друга, а то говорит, получатся, что вы чем-то расстроены. Еще он снял так: мы оба стоим боком, и я опираюсь на столик с тремя ножками, очень шаткий. И на самой последней фотографии – мы сидим на скамейке, а позади нас дерево из картона и крашеного тюля. Когда мы, наконец, пришли в Монументаль, все в один голос – куда вы пропали, куда вы пропали, но Кимет с усмешечкой: это же художественная фотография, такое наскоро не делают. И надо же, к нашему приходу на столе ничего не осталось – ни маслин, ни анчоусов. Кимет сперва ничего: шут с ними, нет так нет, а потом разворчался, сейчас возьму и скажу всей этой братии, что у них совести никакой. Мы сидим за столом, а он пристает к Синто, ну куда девались маслины, куда…
А Матеу – ни слова, смотрит на меня и усмехается. Потом перегнулся ко мне сзади, между нами мой отец сидел – и говорит: с ним не соскучишься. Мы ели очень вкусные вещи и после танцевали под разные пластинки. Отец тоже со мной танцевал. Сначала я была в фате, потом сняла, чтобы не мешала, и отдала сеньоре Энрикете. Танцую, а сама юбку придерживаю, боюсь, наступят на подол. Матеу пригласил меня на вальс. Как он вел, Господи, как мы с ним кружились! Я – точно пушинка, будто в жизни только и знала, что вальсы танцевать. У меня все лицо горело. И с учеником Кимета – я его мало знала, – тоже пошла танцевать. Кимет над ним подтрунивает, подкалывает, а тот – хоть бы что, никакого внимания. В самый разгар танцев из соседнего зала приходят какие-то мужчины и спрашивают, нельзя ли к нам. Солидные, всем уже под сорок. Сначала четверо, а потом еще двое. У нас, говорят, друг выписался из больницы после операции, аппендицит у него был, вот тот, самый молодой, и мы, значит, собрались отметить. А что у него шнурочек от уха, так это он глуховат, но операция прошла очень удачно, сами видите. Мы узнали, что у вас свадьба, и подумали – нельзя ли присоединиться к молодежи, где молодежь, там и веселье. И все шестеро давай меня поздравлять, где ваш жених, спрашивают. Каждый подарил Кимету по сигаре, а со мной танцевали все по очереди, ну так весело, кругом смех… А официант, который напитки разносил, увидел, что эти сеньоры к нам перешли, и сразу спросил разрешения станцевать один раз с невестой, со мной, значит. У меня, говорит, такой обычай – мне это на счастье. И если, говорит, вы не против, я запишу ваше имя в книжечку, где у меня все невесты, с которыми я танцевал. Записал мое имя и показывает всем эту книжечку, а в ней – страниц семь с именами. Он был какой-то долговязый, хилый, щеки впалые, во рту один-единственный зуб, а волосы зачесаны на одну сторону, чтобы лысину прикрыть. Я попросила поставить вальс и пошла с ним танцевать, а Кимет нарочно выбрал самый быстрый пасодобль. Мы с этим официантом – точно две стрелки, он где-то наверху, а я внизу, один смех, но все кругом рады. На самой середине танца Кимет вдруг крикнул, что хватит, он сам будет танцевать со мной, я, говорит, с ней так и познакомился, взял и пригласил на пасодобль. Официант сразу подвел меня к Кимету и стал приглаживать волосы, но они еще больше в разные стороны разлетались. Сеньоры, у которых друг после операции, стоят в дверях – все в черном и белые гвоздики в петлицах. Я танцую, а глазом на них, они прямо как с того света! И Кимет мне в самое ухо: думают, я дурачок, не на того напали, сюда бы еще мосена Жоана с проповедью. И как раз музыка кончилась. Нам все хлопали. У меня сердце – молоточком, дух захватило и радости во мне через край. Когда все подошло к концу, мне захотелось, чтобы день этот еще не наступил, чтобы все началось сначала, ведь так красиво…
VII
Мы уже были женаты два месяца и неделю. Мать Кимета подарила нам перину, а сеньора Энрикета – старинное ажурное покрывало, связанное крючком, с выпуклыми цветочками. На перине по синему полю блестящие завитки, как перышки. Кровать была высокая из светлого дерева, ножки и обе спинки столбиками – в ряд, а столбики из полированных шариков, поставленных друг на друга. Под эту кровать легко мог человек залезть. Я на себе это испытала в тот день, когда надела новое платье, сама сшила: коричневое с кремовым воротничком, очень красивым, юбка вся в складку, а спереди на позолоченных пуговичках. Это было после ужина, Кимет сидел под железной лампой, чертежи делал для мебели. От этой лампы всегда был круг на столе. Ну, я пошла, надела платье и молчком, – пусть удивится! – выхожу в столовую. Кимет даже головы не поднял:
– Ты чем занята, тебя не слышно? – спрашивает.
А потом глянул на меня снизу вверх, и тень от малиновой бахромы пол-лица ему закрыла; я, кстати сказать, давно просила подвесить лампу повыше, а то темновато. Стою, жду, а он уставился и ни слова, мне прямо не по себе. Смотрит, смотрит, глаза в тени сделались совсем маленькими, точно провалились, и, когда уже стало совсем невмоготу, он вдруг вскочил, руки вытянул, пальцы растопырил и на меня, ну – зверь. И воет: у-ууу-ууу-у. Я от него по коридору, он за мной: у-ууу-ууу-у. Я – в спальню, но он меня догнал, повалил на пол и давай заталкивать под кровать. Затолкнул, а сам прыгнул на кровать, и как я высунусь, он меня по голове – вот тебе, кричит, вот тебе, вот тебе! Я и так и сяк, хочу вылезти, а он прямо по голове: попалась, вот тебе! И не один раз проделывал такое.
Однажды я увидела в магазине чашечки для шоколада, очень красивые, и купила шесть штук – беленькие, круглые. А Кимет обозлился: на что, интересно, нам эти чашки?
Тут как раз приходит Синто и с порога, даже не поздоровавшись, давай рассказывать, что у Матеу есть один приятель, который знает одного сеньора, который хочет обновить всю мебель, и велел прийти завтра в час дня на улицу Бельтран, где у него дом – трехэтажный, так что оправдаешь все расходы на свадьбу. Только ему надо поскорее и работать придется вечерами. Кимет записал адрес, а потом открывает кухонный шкаф и с усмешкой: полюбуйся, на что мы тратим деньги. Ни я, ни она не пьем шоколада, а вот – пожалуйста, ни времени не жалко, ничего… Синто улыбнулся, взял чашечку и сделал вид, будто пьет, а потом осторожно поставил на место. В общем, все ясно – шоколад не про меня, и я кругом виновата.
На деньги, что заплатил сеньор с улицы Бельтран, Кимет купил подержанный мотоцикл. Хозяин этого мотоцикла насмерть разбился и нашли его только на другой день. А мотоцикл кому-то еще потом достался. Мы на этом мотоцикле носились молнией, от нас все – врассыпную, и куры и люди.
– Держись крепче, сейчас мы покажем класс.
Где я больше всего боялась, так это на поворотах, мотоцикл совсем заваливался набок, но потом снова выпрямлялся.
– Разве ты могла до знакомства со мной представить, что будешь отмахивать на мотоцикле столько километров?
У меня, бывало, все лицо стянет, сделается как деревянное, из глаз слезы. Я прижмусь щекой к спине Кимета, а сама думаю: ну все – домой нам не вернуться.
– Сегодня поедешь со мной к морю.
Мы обедали в Бадалоне и оттуда никуда не поехали, поздно уже было, засиделись. Море будто вовсе не из воды: серое какое-то, печальное, оттого, что небо в тучах. И вспухло, поднялось – это рыбы тяжело дышали, злились; когда рыбы злятся, море пухнет, даже вскипает, пузырьками идет и пеной. И вот мы сидим пьем кофе, а Кимет точно ножом в спину: бедная, бедная Мария…
У меня вдруг кровь пошла носом, и никак не остановить. Я приложила к переносице монетку, потом ключ от входной двери к затылку. Ничего не помогало. Официант отвел меня к умывальнику и стал лить воду на голову. Когда я вернулась, вижу – Кимет сидит злой, с поджатыми губами, даже нос у него посинел с досады:
– От меня не дождется чаевых, вот посмотришь! С какой стати, говорит, официант пошел с тобой?
А я спрашиваю: почему же ты сам не пошел? И он мне – не маленькая, обошлась бы и без провожатых. Когда Кимет сел на мотоцикл, снова здорово – знала бы Мария, что такое сто лошадиных сил!
Меня это очень задевало. Я нутром чувствовала, когда ему взбредет сказать про бедную Марию, потому что он перед этим делался какой-то смурной, непонятный… Скажет «бедная Мария», увидит, как я переживаю, и затаится, молчит, будто его вообще нет, а сам ничуть не волнуется, я-то знала.
У меня эта Мария из головы не шла. Стираю, глажу, а сама думаю: может, у Марии лучше бы получилось; мою посуду, а в мыслях: Мария вымыла бы скорее. Стелю постель: Мария мигом бы справилась… Так вот и думала о ней без конца. Чашечки для шоколада убрала с глаз. Как, бывало, вспомню, что купила, не спросясь у Кимета, так сердце екнет, а мать Кимета каждый раз: ну, какие новости?
Кимет стоит – руки по швам, ладони вывернет и ни слова. Плечами пожмет и все. Но я слышала его голос, внутри спрятанный, слышала, как он этим голосом нутряным говорит – не моя вина. Мать его на меня посмотрит, и глаза у нее стекленеют. Может, ест мало? Потрогает мои руки: да нет, не худая.
Значит она обманщица, говорит Кимет, а сам то на нее поглядит, то на меня. Его мать, как к ней придем, обязательно скажет: обед вам сготовила на славу. А Кимет всегда говорил: моя мать готовит, как никто, правда? Мы садились на мотоцикл – трр-трр… И как молния. Дома, когда я раздевалась, наперед знала – раз воскресенье, значит, скажет: пойдем, заделаем ребеночка. Наутро вскочит рывком, сбросит простыню и не поглядит, что я раскрытая. Выйдет на галерею и дышит глубоко, громко. Мылся с шумом, фыркает, ворчит, а в столовую входил – пел. И еще была у него привычка чесать ноги о ножки стула. Я долго не видела его мастерской, и вот однажды позвал – приходи. Краска там со стеклянной двери вся слезла, на стеклах пыли – с улицы не видно, что внутри, а внутри – что на улице. Я ему – давай вымою стекла, а он – не лезь, здесь я хозяин. Зато инструменты у него в мастерской были как на подбор, красивые и две банки с клеем столярным, из одной клей стекал по наружной стенке большими каплями, как слезы. Я притронулась к палочке, которая торчала из банки, а он меня шлеп по руке: не тронь!
А ученик, будто его в первый раз вижу: познакомьтесь, Коломета, моя супруга. Ученик, физиономия хитрющая, протянул мне руку, неживую, как плеть. Андреу, к вашим услугам…
Кимет с самого начала – Коломета, Коломета, только так и звал. А его мать – ну, какие новости? И однажды, когда я сказала, что меня тошнит, если тарелка с верхом, да еще попросила отлить, она сразу – наконец-то! Тут же повела меня в спальню. Там стояла темная кровать, накрытая покрывалом с красными розами, и на четырех шишечках по банту – синий, сиреневый, желтый и морковного цвета. Она велела мне лечь и давай слушать, что у меня внутри, как врачи делают, потом в столовой – нет, пока еще ничего не скажу. И Кимет, стряхивая пепел с сигары прямо на пол: я так и думал.
VIII
Наконец-то он сделал это кресло. А сколько вечеров убил на него, чертил и чертил, спать ложился, когда я уже спала. Разбудит, бывало, и скажет – самое трудное, чтобы было равновесие. В воскресенье, если погода плохая, и мы оставались дома, только и разговору, что о кресле, что с Синто, что с Матеу. Кресло это получилось чудное: то ли кресло, то ли качалка, то ли стул, а сколько работы! На Майорке именно такие делают, похвастался. Все из дерева и чуть-чуть покачивалось. Велел сшить подушки такого же цвета, как бахрома на абажуре. Две, говорит, одну на сиденье, а другую под голову. Сидеть в этом кресле никому не дозволял – только сам.
– Это мужское кресло.
А мне оно и ни к чему. Кимет велел протирать его каждую субботу до блеска, чтобы дерево играло. Сядет, ногу на ногу положит и курит. Когда дым выпускал, глаза закрыты, вот-вот и сам растает. Я про все это рассказывала сеньоре Энрикете.
– А что плохого? Пусть лучше так время проводит, чем с ума сходить со своим мотоциклом.
Она мне посоветовала, чтобы я не очень доверялась свекрови, и чтобы Кимет поменьше знал, что у меня на душе. Раз, говорит, у него такой тяжелый характер, пусть знает не все, не к чему прицепиться будет. А я сказала, что мне все равно нравится его мать, надо же бедняжка, у нее повсюду бантики, очень красивые. Но сеньора Энрикета – фырк: бантики для отвода глаз, чтобы все думали, что она деликатная, к людям добрая. Но ты, говорит, всегда показывай, что ее любишь, да и Кимету лучше, чтоб у вас с ней хорошие отношения…
Если в дождь по воскресеньям Синто с Матеу к нам не приходили, Кимет, еще не стемнеет, тащил меня в кровать – медового цвета с шариками. За ужином непременно скажет – сегодня ребеночка заделаем.
А у меня от этого искры в глазах, такая боль. Сеньоре Энрикете с самого начала до смерти хотелось узнать про нашу первую ночь. Но я, по правде, боялась признаться, что не было у нас ночи, то есть была, но целую неделю подряд. А я, по правде, толком не могла разглядеть Кимета, ни когда он первый раз стал раздеваться, ни потом. Забилась, помню, в угол, шевельнуться боюсь, он смотрел-смотрел и говорит: если робеешь при мне раздеваться, могу и выйти, а то давай я первый разденусь, и ничего такого – сама поймешь. Голова у него была совсем круглая, а волосы густые-густые. И блестят точно лаковые.
Причесывался он всегда наспех. Махнет расческой по волосам и пригладит рукой. А нет расчески – причесывался пятерней. Растопырит пальцы и быстро водит по волосам, точно одна рука другую торопит. Когда забывал причесаться, волосы у него лезли на лоб, крутой вроде, но низенький. Брови тоже густые, еще чернее волос, а под ними глазки, маленькие, блестящие, как у мыши. Уголки глаз всегда почему-то влажные, будто масленые, это его очень красило. Нос не так чтоб широкий, но и не узкий, и кверху, слава Богу, не задирался. Щеки полноватые, летом слегка розовые, а зимой румяные. Уши точно приклеены с двух сторон, чуть оттопыренные. Губы всегда красные, припухлые, и нижняя немного выпячивалась. Когда говорил или смеялся, все зубы видно в ряд, они очень глубоко в деснах сидели. На шее ни жилочки. А в носу, который, как я уже говорила, был не широкий и не узкий, в каждой ноздре волосы метелочкой, чтобы ни холод, ни пыль не попадали. А вот на ногах сзади синие вздутые вены, точно змеи. И весь он был вытянутый в струнку, длинный. Грудь – высокая, бедра узкие. Ноги тоже длинные, чуть тонковатые, и ступни плоские. Босиком ступал только на пятки. Ладная фигура, это да, вот я и сказала ему, что ладная, а он обернулся не сразу и спросил: ты так считаешь?
Я в ту первую ночь забилась в угол – все внутри екает от страха. Кимет разделся, лег в постель и смотрит на меня – мол, ну раздевайся. И чуть живая я стала раздеваться. Как боялась этой минуты – не рассказать. Ведь не зря люди говорят, что дорога тут усыпана розами, а обратный путь – одни слезы. И заманивают туда девушек обманной радостью… Я еще девочкой слышала, что в первую ночь после свадьбы девушку могут разорвать на части. Вот и страшилась, что меня разорвут и я умру. Бывало же, от этого умирали… Самое трудное – первая ночь. Если сразу не получится, медсестра разрезает там ножом или бутылочным стеклом и потом женщины всю жизнь болеют. На ногах не могут подолгу стоять, устают. Мужчины, которые знают про это, уступают женщинам место в трамвае, когда много народу, а кто не знает – сидят себе преспокойно. В общем, я не выдержала и расплакалась, а Кимет высунул голову из-под простыни и спрашивает: что с тобой? И я ему, мол, боюсь, что ты меня разорвешь насмерть. Он засмеялся, да, говорит, было такое с королевой Бустаманте, ее мужу лень было самому, и на первый раз заставил этим заняться своего коня, а тот всю разворотил королеву, и она, бедная, померла. Сеньоре Энрикете я не могла рассказать про нашу первую брачную ночь, потому что когда мы пришли после свадьбы домой, Кимет послал меня за продуктами в лавку, потом закрыл дверь на задвижку, ну и эта брачная ночь у нас была целую неделю. Вот про королеву Бустаманте я сеньоре Энрикете рассказала, и она – знаю, знаю, не приведи Господь! Да мой собственный муж надо мной такое выделывал – страшно вспомнить! Он-то, оказывается, привязывал ее к кровати за руки и за ноги, точно распятую, потому как она от него вырывалась. Теперь на его могиле мальвы цветут, и уж не одно лето их дождь поливает. Когда сеньора Энрикета принималась выпытывать у меня насчет первой ночи, я сразу переводила разговор на что-нибудь другое, к примеру, на кресло-качалку, и она отвлекалась. Или на историю с ключами.
IX
Как-то раз мы с Киметом и Синто засиделись в кафе «Монументаль», да еще гуляли потом до двух ночи. Пришли домой и на тебе – ключ от входной двери пропал, значит, в дом не войти. Кимет сказал, что ключ отдал мне, и я его сразу положила в сумочку. Синто – он у нас дома ужинал, – сказал, что вроде видел, как Кимет снял ключ с гвоздя за дверью и сунул в карман. Кимет обыскал все карманы, может, где дырка? Я сказала, что, наверное, ему показалось, Кимет никакого ключа не брал. Тогда Кимет говорит, что вроде бы он велел снять ключ Синто, а тот забыл напрочь про это, ну и потерял. Потом оба решили, что если кто и взял ключ, так это, конечно, я, но они точно не могут сказать, когда, в какой момент, потому что не видели. Синто сразу: звоните на второй этаж. Но Кимет не стал, и правильно: этих жильцов со второго этажа лучше не трогать. В общем, стоим, голову ломаем, и вдруг Кимет: ладно, спасибо, что мастерская есть, пошли за инструментом.
Они ушли, а я осталась на всякий случай: может, ночной сторож подойдет, у него ключи запасные. Мы этого сторожа обыскались, за угол ходили, в ладоши хлопали – запропастился куда-то, и нет его. Я с усталости села на ступеньку, прислонилась головой к двери и увидела кусочек неба между домами. Дул легкий ветерок, и по небу, очень темному, бежали тучи. У меня глаза слипались, я боялась, как бы не заснуть. А спать хотелось до смерти – ночь, ветерок, все тучи спешат куда-то в одну сторону. Меня клонит в сон, но я креплюсь. Не хватало еще заснуть и со ступеньки свалиться, а потом меня бы в таком виде нашли Кимет с Синто! Наконец, слышу шаги по мостовой, сперва далеко, потом все ближе, ближе…
Пока Кимет сверлил дырку над замочной скважиной, Синто весь извелся: нельзя, нельзя, будут неприятности. А Кимет – да заделаю я эту дырку, не заводись, нам главное в дом попасть! Он загнул проволоку крючком, просунул в дырку и подцепил задвижку. В общем, открыли дверь, и в этот самый момент из-за угла вышел ночной сторож. Мы – раз! – и внутрь, а Синто убежал. И надо же, поднялись к себе, смотрим – ключ, как висел, так и висит на своем месте за дверью. Наутро Кимет заделал отверстие кусочком пробки; не знаю, может, кто что и заметил, но разговоров насчет этого никаких. Сеньора Энрикета слушала, слушала и спрашивает: значит, ключ не потерялся? А я ей – какая разница? Ведь переживали, думали, что потерялся, значит, все равно, что потерять.
И вот снова наш главный праздник. Кимет тогда говорил, что мы пойдем на площадь Диамант и будем танцевать «Вальс с букетом», а вместо этого просидели в четырех стенах, и Кимет был злющий – провозился с мебелью у какого-то клиента-еврея, и тот заплатил ему меньше, чем договаривались. Ну а на ком сорвать зло? На мне, на ком… Кимет, если не в настроении, цепляется ко всему. Коломета, ты спишь на ходу! Коломета, ты что, совсем сдурела? Коломета – туда, Коломета – сюда… Тебе, Коломета, все без разницы. А сам по комнате взад – вперед, как в клетке. Потом выдвинул все ящики в шкафу, в комоде и давай бросать вещи на пол. Я спрашиваю, ты что-то ищешь, а он хоть бы слово. Еще больше взбесился, что у меня в голосе никакой злости, что мне, мол, все равно, как у них там получилось с клиентом. А я просто не хотела скандала в такой день и решила – пусть сидит один. Причесалась и в дверях говорю: из-за твоего крика у меня горло пересохло, пойду схожу за лимонадом. Он как-то сразу притих. На улице веселье, девушки все нарядные, красивые. С балкона на меня бросили конфетти, и несколько цветных кружочков попало мне в волосы – а я не стала их вынимать, пусть. Домой принесла две бутылки лимонада, смотрю – Кимет – дремлет в своем кресле. На улицах, стало быть, у людей веселье, а я с пола белье подбираю и по ящикам раскладываю. Вечером пошли в гости к его матери.








