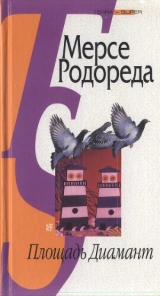
Текст книги "Площадь Диамант"
Автор книги: Мерсе Родореда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Детей я решила отводить к сеньоре Энрикете, потому что это не жизнь, а каторга. Она приняла детей как родных и девочку привязывала шарфом к стульчику. Надо было, говорит, с первого дня приводить ко мне. Я ей не велела давать детям соленые орешки, а им тоже наказала, чтобы не просили, потому что они дома ничего не ели, что ни дай. Но из нашей затеи ничего не вышло. Мальчик сидел скучный, обиженный и часами тянул – хочу домой, хочу домой. Не хочу на улицу, хочу домой! Ну и куда деваться – снова оставляла их дома, да и, по правде, пока они сидели без меня, все как-то обходилось.
Но однажды вхожу и слышу шум, будто птицы крыльями хлопают. Посмотрела, вроде ничего: мальчик стоит на галерее спиной к свету и тянет ручки через плечо Риты. Тихо стоят, не шелохнутся. Я – то, как приду – скорей за дела, обед готовить, то, се, ну и мне ни к чему, не придала значения. И еще дети взяли привычку играть викой, выкладывали из нее на полу дорожки, цветы, звездочки.
У нас уже было десять пар голубей. И вот как-то раз Кимету случилось работать у одного человека, который жил рядом с моими хозяевами. В один из дней он зашел за мной, и я познакомила его с сеньорой. По дороге домой я занесла в лавку список продуктов, который сеньора дала. Выхожу из лавки, а Кимет – он меня на улице ждал – говорит: вот дурында, не могла раньше сказать, какая здесь вика замечательная, нигде такой не видел. И тут же вспомнил, что когда мы еще не были женаты, он эту лавку приметил. Велел купить целых пять кило. Отпускал мне сам хозяин, чем-то на Пере похож, на повара: высокий, волосы аккуратно причесаны, а лицо в оспинах, но не глубоких. Моя сеньора всегда про него говорила, что он – порядочный, не обвешивает, цены нормальные и с разговорами не лезет.
XXI
С каждым днем я уставала все больше. Приду домой, дети спят. Я на полу одеяло стелила, и они на нем засыпали оба, как ангелочки. А тут прихожу, они и не думают спать, моя Рита, такая кроха – хи, хи, хи. Смотрят друг на друга, и мальчик ей пальцем – тсс! А Рита снова – хи, хи, хи… Решила я дознаться, что они затеяли. И вот однажды примчалась домой пораньше, летела по улицам как угорелая. К двери подошла тихонько, не дышу и осторожно ключом поворачиваю, точно вор какой. Открыла и – Бог мой! Голуби все как есть по галерее и по гостиной разгуливают. А детей нет. Три голубя заметили меня – и на балкон, дверь настежь открыта, на полу только тень мелькнула, и перышки остались. А четверо сразу на галерею, быстро-быстро лапками переступают, спешат, подпрыгивают, крылья приспустили. Но с галереи смотрят как ни в чем не бывало. Я спугнула, они тут же улетели.
Потом, конечно, бросилась детей искать, всюду облазила, даже под кроватями. И кто бы знал! В темной комнате, вот где нашла. Мы туда Антони закрывали совсем маленького, чтобы хоть часок поспать. Рита, значит, сидит на полу, и в подоле у нее голубка, а у Антони на коленях три голубя, вику клюют прямо с руки. Я к детям – вы что тут делаете! Голуби испугались, тычутся в стены, а мальчик обхватил ручонками голову и заревел. Как я намучилась, пока всех голубей повыгнала, слов нет… Выходит, голуби эти давно уже хозяйничали в доме! Из галереи они набивались в гостиную, а оттуда через балкон возвращались к себе в голубятню. Я-то, глупая, радовалась, дети у меня послушные, а они сидели тихо, боялись голубей спугнуть, и те к ним попривыкли. Но Кимет ничуть не расстроился, наоборот, – смеялся. Наша голубятня, говорит, как большое сердце, кровь оттуда идет кругом по всему телу, а потом снова в сердце – в голубятню. Нам бы, сказал, побольше развести голубей, хлопот с ними немного, живут и живут Божьей милостью… Голуби, когда взмывали вверх, ну точно косая волна, и гребень из белых молний, из крыльев то есть. Прежде чем нырнуть к себе в голубятню, они обязательно долбили бортик, штукатурку клевали. От этого повсюду выбоины и голый кирпич. Антони, бывало, залезет в середину стаи, и малышка за ним, а голуби хоть бы что, одни расступаются, другие семенят за детьми. Кимет сказал: надо бы кормушки внизу поставить, в темной комнате, раз голуби привыкли к ней. А дети только сядут на пол – птицы вокруг них, сами в руки даются. А потом Кимет сказал своему Матеу, что хорошо бы сделать для голубей гнезда в темной комнате, она как раз под терратом. Надо, говорит, пробить отверстие в потолке, приладить крышку, вроде люка, и лестницу из реек от пола до потолка. Вот и будет самый короткий путь из квартиры на голубятню. Матеу засомневался: вдруг хозяин запретит. Но Кимет сказал – хозяину незачем все знать, да и жаловаться не на что, голуби у нас чистые, главное поставить дело, чтобы толк был, а смотреть за ними приставлю Коломету и детей. Я ему – это дурь, но он фыркнул на меня, мол, женщинам только дай власть, все сразу рухнет. Мол, кто-кто, а он знает, чем надо заниматься. И настоял на своем. Матеу, добрая душа, пробил отверстие и обещал, раз Кимету загорелось, принести со стройки лестницу, он присмотрел одну, только надо снять две-три рейки, а то длинновата. Кимет, он, конечно, поставил внизу гнезда, а голубей закрыл, пусть, говорит, привыкают выходить по лестнице, нечего гулять по всей квартире. Голуби сначала жили в полной тьме. Кимет крышку не открывал. Ее из досок сбили и сверху поднимали за кольцо, а снизу толкали головой или плечом. Я, бывало, начну убирать эту комнату, свет зажгу, а голуби, несчастные, сидят как слепые, хоть бы шевельнулись. Синто увидел, весь зашелся от злости, рот совсем набок поехал.
– Эти птицы – самые настоящие каторжники!
И вот голуби хоть взаперти, а яйца положили и голубят высидели. И когда голубята оперились, Кимет поднял крышку, а мы через решетку смотрели, как голуби поднимаются по перекладинам. Кимет радовался как дитя. Доведем, сказал, до восьми десятков, и можно кончать с мастерской, а пока что пора и участок за городом подыскивать. Матеу нам домик поставит, найдет у себя материал. С работы приходил как чумной, сядет ужинать и не видит, что в тарелке, лишь бы поскорее поесть – и за расчеты. Сидит под нашей лампой с красной бахромой, прикидывает, пишет на старом картоне, чтобы бумагу не переводить. Столько-то пар, столько-то птенцов, столько-то корма, столько-то дрока на гнезда. Верное дело! А голуби, скажу, маялись на этой лестнице дня два или три, пока сообразили, как им выбираться. И когда поднялись на террат, верхние их чуть не заклевали. Понятное дело – они чужие! Самый злющий был первый, тот, что с подбитым крылом. Когда попривыкли друг к другу, то верхние полезли вниз – разнюхать, что там.
Строиться решили где-нибудь на высоком холме Барселоны. А голубям поставить голубятню в виде башенки с винтовой лестницей, крытой до самого верху, и чтоб у каждого гнезда – оконце. А под крышей островерхой думали сделать площадку, откуда голуби станут летать на Тибидабо[30] и даже дальше. Кимет размечтался. Голуби, говорил, меня прославят. Вот построим дом, и прощай мастерская, стану выводить новые породы, а там, глядишь, и премию дадут, как лучшему голубеводу, а! Но чтобы совсем бросить свою работу – это нет. Гордился, что краснодеревщик. Скажу нашему Матеу, пусть построит мне сарай, и там буду держать весь инструмент. Начну мебель делать, только не по заказу, а своим друзьям, заказчики это одно, а работа – другое. Попадаются, правда, замечательные люди, говорил, но чаще такие паскуды, что руки опускаются. Как придут Синто с Матеу, так у них планы всякие. Только вот однажды сеньора Энрикета сказала, что мой Кимет раздаривает голубей направо-налево, чуть не каждая третья пара – в подарок, а ты, дурочка, надрываешься…
XXII
У меня в ушах все время курлыканье голубиное. И выматывалась я до полусмерти, столько от них грязи. Вся пропахла этими голубями. Куда ни глянь – голуби, и на террате и в квартире. Даже во сне снились. Кто я – вроде девочки с голубями! Вот сделаем фонтан, и посередине наша Коломета с голубкой в руках. Это все Синто шутил. Я, бывало, иду к хозяевам, а за спиной шум крыльев слышу – лезет в голову, мучает, точно муха навозная. Иной раз сеньора что-то спросит, а я молчу. Она даже удивлялась: вы что, не слышите?
И на – скажи ей, что слышу я одних голубей, что от моих рук несет серой и викой, которую я в кормушки насыпаю. И скажи ей, что если вдруг побьется насиженное яйцо, от него такая вонь, зажимай нос, не зажимай – никакого спасения! И поди скажи, что не знаешь, куда деться от криков птенцов, которые просят есть, как оголтелые, и вместо перьев у них желтые колышки на лиловом теле. И что скоро я совсем сдурею от их курлыканья, потому что они лазают по всему дому, и если я оставляю дверь открытой в темную комнату – голубятню, они у меня разбредутся кто куда, повылезут все на балкон, как полоумные. И что все началось с того дня, как я пошла к ним работать, и до того измучилась, что не хватило духу вовремя сказать Кимету, что нет и нет. Да и какой толк говорить, что мне и пожаловаться некому, что я со своими бедами всем чужая, что стоит слово произнести о себе самой, Кимет сразу про свою ногу заводит. И что мои дети – как два цветка заброшенных, а в доме, где раньше все блестело, теперь хуже, чем на скотном дворе. И что вечером, когда я укладываю детей спать и тычу им пальцем в животик – дзинь, дзинь, – чтобы рассмешить, мне вслед это окаянное курлыканье, а в нос бьет запах мокрых перьев. Я знала, что вся насквозь – и волосы, и кожа, и платье – пропахла голубями. Как останусь одна, принюхиваюсь и принюхиваюсь к рукам. А причесываюсь – к волосам. Не представляю, как могла выдержать такое, ведь все до тошноты пахло голубями. Сеньора Энрикета не стерпела, вмешалась: у тебя, говорит, характера нет, я бы давно покончила с этим, да вообще не допустила бы. Свекровь – мы с ней виделись редко, она, считай, на глазах состарилась, ей к нам собраться – целая история, а у меня в воскресенье ни минутки, чтобы ее проведать. А тут она взяла и приехала, голубей захотела посмотреть. Мол, Кимет с детьми ее почти не навещает – это она пожаловалась, – а как приедет, так рассказы про одних голубей, про то, как разбогатеет на них, и мальчик тоже только о голубях, что голуби за ним ходят повсюду и что они с Ритой играют с ними, как с братиками и сестричками. Когда она услышала, что голуби курлычут в маленькой комнате, так и ахнула. Это, говорит, только мой сын мог до такого додуматься! Ей и в голову не приходило, что у нас голуби прямо в доме. Я ее уговорила подняться на террат, и, когда она посмотрела вниз в люк, у нее голова закружилась.
– Может, и правда, у Кимета выйдет что дельное?
Увидела, что в поилках сера, и сказала, что ее дают курам, а у голубей печень разбухает от этой серы. И пока она рассуждала, голуби по террату разгуливали туда-сюда, летали, садились, расхаживали по бортику и долбили его клювами. Ну, господа-хозяева. И в небо поднимались, будто свет и тень крыльями играют. И летали прямо над нашими головами. Тень от них пятнами ложилась нам на лица. Свекровь махала руками, как мельница, чтобы голубей отогнать, а те – хоть бы хны. Самцы кружатся возле самочек: клювик кверху, клювик вперед, клювик вниз, хвост опахалом и крыльями по земле, по земле. То к гнезду, то обратно, и вику клюют, и воду пьют с серой, и никакая печень у них не раздувается. Потом у свекрови прошла голова, и ей захотелось поглядеть, как голубки сидят в гнездах. А голубки – они очень горячие, когда сидят на яйцах, – смотрят стеклянными глазами, у всех клювы наготове, темные с красным наростом, и две дырочки вместо носа. Так и клюнут… Дутыши – важные, на королей похожи, монахи, как шары из перьев, а те, у которых хвосты веером, разозлились, наверно, и побросали гнезда.
Я хотела показать ей яйца. Давайте посмотрим, говорю. А она – нет, могут гнезда бросить. Голубки очень ревнивые, с характером и чужих не любят.
XXIII
Ровно через неделю после того мать Кимета умерла. Утром, чуть свет, прибежала ее соседка и сказала. Я отвела детей к сеньоре Энрикете: делайте, что хотите, а сама пошла с Киметом к свекрови. Подходим – на двери большой черный бант. И ветер, уже осенний, шевелит его концы. В спальне, где она лежала, собрались три ее соседки. Они поснимали банты со всех шишечек на кровати и с креста – тоже. И одели ее. На ней было черное платье со стоячим кружевным воротничком, и в нем тоненькие пластиночки, чтобы лучше держался, по подолу атласная отделка. А в ногах – большой венок из листьев и веток, без единого цветочка.
Одна из соседок глянула в нашу сторону и говорит: вы не удивляйтесь, она хотела, чтобы без цветов. А сама все перебирает пальцами, длинными и тонкими. У меня, говорит, сын – садовник, и мы с вашей матерью условились: если она умрет раньше меня, он сделает ей венок из одних листьев. У покойницы из головы не выходило, чтобы без цветов, …без цветов. Цветы, говорила, для молоденьких. А умри я первой, она, по нашему уговору, положила бы мне венок из обыкновенных цветов, какие бы цвели на то время, только не из каких там особенных, а что подешевле. Зачем зря бросаться деньгами? Но вообще-то, венок из одних листьев все равно что обед в праздник без сладкого. И вот поди-ка – она первая!
А Кимет слушал-слушал и спрашивает: как же мне быть, раз уже есть венок?
– Хотите – давайте пополам, будет от нас двоих.
Тут в разговор вступила другая соседка, голос у нее сиплый – если б у моей подруги был свой интерес, она бы сразу сказала, мол, купите еще один венок у моего сына, потому что венки можно везти в отдельной машине. Когда хоронят по первому разряду, всегда едет вторая машина с венками, которые в первую не поместились.
– Сын у меня, вот подруга знает, большой мастер по венкам. Он всякие делает, из искусственных цветов тоже. – И еще она сказала, что ее сын умеет делать венки из цветных стеклышек, они на всю жизнь. И из бисера. Он из бисера делает камелии, розы, синие ирисы, маргаритки… и цветы, и листья из стекла, и букеты. Проволока, на которую нанизывают бисер, не ржавеет ни от дождя, ни от ветра, а на кладбище он всегда сырой – от покойников. Третья соседка сказала печальным голосом: ваша матушка хотела венок из одних листьев. Без ничего, самый простой. И еще сказала, что такой смерти каждый позавидует: умерла, как святая, и сейчас похожа на девочку. Эта третья. В переднике, скрестила руки и смотрела на покойницу не отрываясь.
Мать Кимета лежала на покрывале с красными розами, будто восковая. Без туфель, в одних чулках, сколотых большой английской булавкой, чтобы ноги были вместе. Кимету отдали золотую цепочку и кольцо – с покойницы сняли. И та, у которой сын садовник, сказала, что у матери Кимета дня за три, за четыре до смерти совсем плохо стало с головой, все жаловалась: так же плохо, как тогда от голубей. И что она напугалась и не выходила на улицу, упасть боялась. Соседка все говорила, говорила, а потом провела рукой по ее волосам раза два или три. Правда, спрашивает, у нее хорошая прическа? И сказала, что вечером, по всему было видно, что она совсем плоха, даже к ним постучала, и они с сыном еле довели ее до дому, у нее ноги отказали, вот что. Посмотрела на покойницу и говорит – мне бы такие волосы!
Сеньора, у которой голос хриплый, подошла к постели и погладила лоб покойной. Мы, говорит, увидели, что она кончается, обтерли ей лицо и руки, а мосен Элади успел причастить ее. И одели тут же, безо всяких хлопот, потому что у нее все заранее было приготовлено. Она нам показывала платье, оно в шкафу висело на вешалке с подушечками, чтобы плечи не вытянулись. И всегда говорила, что если будут одевать ее, когда она умрет, то никаких туфель не надо: раз мертвые снова приходят в этот мир, то ей хочется прийти так, чтобы ее никто не услышал, чтобы никого не потревожить. Кимет не знал, как их благодарить, а соседка, у которой сын садовник, сказала, они все ее очень любили, она была быстрая, как белочка, и к людям с добром. Бедная. Мы ей скапулярий[31] новый надели, чтобы она в Царство небесное пришла довольная и прибранная. Да ее уж наверно, взяли туда…
Соседка, которая говорила меньше этих двух, поправила осторожно складки на ее платье и посмотрела на нас. Все молчали, и она сказала Кимету: ваша мама очень вас любила… и детей ваших. Но часто говорила, что всю жизнь мечтала иметь дочку.
А соседка, у которой сын садовник, сказала, что не все можно говорить вслух, особенно в такие минуты. Сказать сыну, у которого мать только-только умерла, что она всю жизнь мечтала о дочери, а не о сыне, это уж – извините! Но Кимет сказал, что для него никакой новости нет: мать, когда он был маленький, одевала его, как девочку, и спать укладывала в ночных рубашках с кружевами, будто он девочка. И тут без стука вошла женщина, которая обедала с нами в тот день, когда получился скандал из-за соли. Она вошла с букетиком анютиных глазок и сказала, что пора идти в похоронное бюро.
XXIV
Что Синто, что Кимет, только и разговоры про какие-то вооруженные отряды[32] про патрульную службу, и что, мол, пора снова в армию… Я слушаю и ничего не понимаю, как это, говорю, вы же свое отслужили. А Синто я сказала прямо безо всякого, чтобы он мне Кимета не накручивал, не подбивал, насчет этих патрулей и отрядов, у нас и без того голова пухнет. Синто неделю в мою сторону не глядел, а потом пришел и спрашивает: объясни, почему ты против? Я ему – пусть оружием балуются холостые, как ты, а у Кимета семья и дел полно, да и не такой он молоденький. А Синто – зря ты говоришь, и Кимету никаких трудов, потому что учения будут недалеко, в Планас[33]. Но я уперлась: нет и нет!
Как я ни крутись, прямо с ног падала, и все равно ничего не успевала. А Кимет, тот не видел, что мне помочь надо, хоть в чем-то. Никому до меня не было дела, просто заездили, давай это, давай то, будто я не человек. У Кимета одна блажь – голубей раздаривать! А по воскресеньям они с Синто где-то пропадали. А ведь говорил, что сделает коляску к мотоциклу, чтобы всей семьей ездить за город, мол, сына посажу впереди, а вы с Ритой в коляске. По воскресеньям, значит, они с Синто где-то пропадали, наверно, их патрульными назначали или еще кем, у них только это и в голове. Иногда Кимет жаловался на ногу, но при сыне помалкивал, потому что Антони как услышит, тут же оборачивает ногу тряпками и хромает вокруг стола, ну а Рита – за ним, ручки кверху, так и ходят кругами. Кимет злился, нет, ты посмотри, хуже цыганят, вот оно, твое воспитание!
Однажды после обеда, когда дети спали, кто-то два раза позвонил с улицы. Два звонка – к нам, а один – соседям на втором этаже. Я вышла за дверь, чтобы веревочку дернуть, а снизу Матеу кричит, что он уже поднимается. Я как увидела его, сразу поняла – что-то у него случилось. Сел в столовой и завел разговор про голубей. Мне, говорит, больше всех нравятся эти, с хохолками, и шейка у них переливается лиловым и зеленым. Если у голубя перья не переливаются – это не голубь. Я его спрашиваю, заметил ли он, что у кого красные лапки, коготки обязательно – черные. Он говорит: лапки, коготки – это ладно, а вот интересно, почему у них перья так красиво переливаются? Почему от света, смотря с какой стороны – перья то зеленым, то лиловым отблескивают?
– Мне один человек сказал, что у него есть особые голуби – с галстучком. Я еще Кимету не говорил…
Я сказала, что упаси его Бог говорить, а то Кимет, чего доброго, притащит и таких. Но Матеу точно не слышит: у них, говорит, от бороды по грудке перья идут шелковистые, завитком, вроде галстука. Их называют бантастые. И, мол, если бы Кимету не отвлекаться на другие дела, он бы знал про голубей, у которых перья лежат не сверху вниз, а наоборот, что их зовут китайцами. Я, говорит, понимаю, как трудно управиться с голубями, целая туча, да вдобавок в квартире. Кимет, конечно, хороший, но с заскоками, и вот, говорит, странность, о чем бы он ни попросил, я отказать не могу, не могу и все. Стоит Кимету посмотреть как-то особенно… Потом глянул на меня и добавил: теперь-то я вижу, что не надо было его слушать и пробивать потолок. И спросил про детей. Когда я сказала, что они спят, у него лицо сделалось такое печальное, ну слов нет! Я говорю, что дети с голубями не расстаются, скажи – одна семья! И все из-за того, что они в доме одни, без моего присмотра. Говорю, а сама вижу – не слушает, мысли где-то далеко, совсем не здесь. Ну и замолчала, и вот тут, когда мой голос перестал ему мешать, он заговорил, сказал, что почти целую неделю не видел дочки, что Грисельда устроилась машинисткой, а девочку отвела к своим родителям. И он совсем не может, если нет девочки, а его Грисельда теперь встречается то с одним, то с другим… и дочку увели. Увели его дочурку! Как горько он это сказал, кто бы слышал! Напоследок стал прощения у меня просить за то, что пришел выкладывать про свои беды. Мужчине не к лицу такое, говорит, но ведь столько лет знаем друг друга и я ему как родная сестра… Сказал, что я ему как родная сестра и расплакался, напугал до смерти. Я в жизни не видела, чтобы мужчина плакал, да еще такой как он – высоченный, глаза синие-синие, как у Святого Павла. Потом стих, вроде успокоился и ушел на цыпочках, чтоб детей не разбудить. После него у меня какое-то чувство странное: тоска, а к ней что-то радостное примешано. Не знаю, только никогда со мной такого не было.
Я поднялась на террат; небо вдали как натянутый парус – алый в разводах, потому что солнце уже садилось. Голуби вертятся под ногами, и перья у них гладкие-гладкие. В дождь капли по ним скатываются вниз, как по зонтику. Ветер тихо шевелил перышки на шее… Два или три голубя поднялись в закатное небо и казались совсем черными.
Той ночью я вовсе не думала ни о голубях, ни о том, что заснуть не могу с усталости, а думала, что глаза у Матеу такого же цвета, как море. Как море в солнечный день, когда мы с Киметом мчались на мотоцикле. И незаметно для себя стала думать о вещах, которые вроде бы уже понимала, но не до конца, вернее, начинала понимать…
XXV
На другой день разбила стакан у моих хозяев, и они с меня вычли как за новый, хотя он был треснутый. Домой тащила тяжеленные сумки с викой, еле доплелась; на лестнице, там, где на стене вырезаны весы с чашками, остановилась. И всегда так: дойду до этого места, а дальше – сил нет. Сына отшлепала, сама не знаю за что. Он разревелся, Рита за ним, и я – в слезы. Плачем, стало быть, втроем, и наши голуби стоном исходят. Тут Кимет явился, увидел, что мы трое ревем, и как закричит: только этого мне не хватало! Я с самого утра червоточины в чужих шкафах заделываю, в духоте сижу, а дома, значит, ни покоя, ни радости. Развели тут, понимаешь, драмы! Схватил детей рывком – одного за руку, другого за руку, и давай таскать по комнате, по полу волочить. Я испугалась до смерти, ты, кричу, руки им повывернешь, а он – пусть уймутся, а то сейчас обоих в окно, вниз головой! Я, куда деваться, замолчала, чтоб до скандала не доводить, забрала детей, умыла, сама умылась и про стакан, про то, что с меня вычли, как за новый, не сказала ни словечка, потому что Кимет, чего доброго, побежит к хозяевам и наговорит лишнего.
И в тот самый день сказала себе – все, хватит! Надо кончать с голубями. С голубями, с викой, поилками, кормушками, голубятней. Все к чертям собачьим!.. Только вот как? Мысль эта гвоздем во мне сидела. А Кимет снова стал жаловаться на ногу. За обедом обхватит ногами стул, почесывает то одну, то другую ногу, ест, а сам жалуется, что колено жжет огнем до самой кости. Он говорит, а у меня в голове одно, как покончить с этой прорвой голубей. Все Киметовы слова – мимо ушей, как будто они у меня ватой заткнуты.
Голова горит, точно там угли раскаленные докрасна. Нет! Вику, поилки, кормушки, всю голубятню – к чертям собачьим… И лестницу с рейками, и дрок, и серные шарики, и этих дутышей. Все к чертям! Моя кладовка на террате, крышка с кольцом, стулья в кладовке, голуби взаперти, корзина бельевая, белье на террате – пропади оно пропадом! Ух, эти голуби, глаза круглые, клювы острые, шейки с отливом, как мальва, как яблоневый цвет – век их не видеть.
Мать Кимета, покойница, и не думала, что подскажет мне выход. А я решила сгонять голубок с яиц. Как дети уснут, я сразу на террат, в кладовую и пугать птиц. Внутри за первую половину дня все прожарится, прямо пышет, да еще от голубок жар и запах тяжелый, ну ад настоящий!
Голубки, что птенцов высиживают, как увидят меня, голову поднимут, шею вытянут, крылья распушат – защищают яйца, бедные. Как суну им руку под грудку, норовят меня клюнуть. И все по-разному защищались. Одни нахохлятся и ни с места, а другие соскочат, волнуются, ждут, чтобы я ушла, чтобы снова сесть в гнездо. Голубиные яйца, они красивые, не сравнить с куриными, и поменьше, целиком в кулаке умещаются. Я хватала яйца из-под голубки, которая не слетала, и клала перед ее клювом, а она, наверно, понимать не понимала где рука, где яйцо, ей лишь бы долбануть меня клювом. Маленькие яйца, гладкие и перьями пахнут. Через несколько дней многие птицы побросали гнезда. А яйца без наседки гнили, гнили с птенчиком внутри, который уже зародился: там и кровь, и желток, но главное – сердце.
Потом я спускалась вниз и прямиком в темную комнату. Однажды голубка вылетела через люк с таким стоном, будто все в ней – один стон. Села на край люка и вниз заглядывает, меня сторожит. Дутышы слетали с гнезд тяжело и топтались рядом, – напуганные, робкие. А самые отчаянные были те, у которых хвост опахалом, как у павлинов. На какое-то время я устроила передышку, устала, и все вроде пошло как раньше. Но нет! Раз конец – значит конец! И я вместо того, чтобы сгонять голубей с гнезд, стала вытаскивать эти яйца. Вытащу и трясу, что есть силы, чтобы у птенцов, которые внутри, голова билась о скорлупу. Голубки высиживают птенцов за восемнадцать дней, и вот в середине срока я и трясла насиженные яйца. А голуби чем больше сидят на яйцах, тем злее к тому, кто им помеха. И жар от них, как от печки. И клюют больнее. Я подсуну руку под брюшко и пока выну яйцо, они бьют клювом до крови.
В ту пору почти не спала, сердце во сне трепыхалось, падало, точь-в-точь как раньше, когда отец с матерью при мне, еще совсем девчонке, ругались. Мать потом ходила понурая, сама не своя, забьется в какой-нибудь угол и молчит…. А я, пока у меня война с голубями, просыпалась среди ночи, будто кто изнутри за веревку дергает, будто тянет за пуповину, как у младенца, и всю через пупок вытягивает меня, разматывает. И глаза, и руки, и ноги, и сердце. Всю на нет! И в сердце, где главная жила, кровь запеклась черной лепешкой. Пальцы на ногах – как не мои, ни живые ни мертвые. Всю высасывали, разматывали за пуповину, которую у младенцев завязывают, чтобы поскорее отпала. И вокруг того места, откуда меня разматывали, вроде бы облако разбухло из голубиного пуха, чтобы никто ничего не заметил. Долго это длилось. Месяц за месяцем не спала, месяц за месяцем трясла насиженные яйца. Многие голуби сидели на этих яйцах больше срока, надеялись, ждали, наверно.
Кимет, наконец, спохватился, стал ворчать, мол, голуби все никудышные, на гнезда дроку не напасешься, а толку – чуть. Вот так…
Вот так, значит, потому что невмоготу мне стало: дети, кровиночки мои, взаперти, а я кастрюли надраиваю в чужом доме, где никто ничего не может, кроме как ложками еду в рот заталкивать, и мальчик у них заморыш заморышем, ладно бы у кого другого, а эти-то могли для него что хочешь. И хоть тресни, на террате все еще курлыкали голуби.
XXVI
И пока у меня шла война с голубями, все в жизни пошло вразлом. Кто бы думал, что это надолго! Сперва остались без газа. То есть, он до нашего этажа не доходил, а у хозяев, где я работала, даже в полуподвале не было. Я стала готовить на галерее, треногу приспособила, и то-то за углем избегалась, бедные мои ноги… Угольщица сказала – все, последний, муж домой не показывается, целыми днями на улице. Мой Кимет тоже пропадал неизвестно где, и я каждый день дрожала – вернется, не вернется. Надел синий комбинезон[34], а когда стали поджигать церкви, и отовсюду повалил дым, явился домой с револьвером за поясом, и ружье на ремне[35].
И такая стояла жара, такая жара, белье к спине липло, простыни ночью хоть выжми, и люди ходили запуганные, потерянные. В нашей лавке внизу – шаром покати, за несколько дней все расхватали. И везде разговоры, толки разные. Соседка сказала, что знала все наперед: вся, мол, смута в народе, вся пальба летом и начинается, потому что у людей кровь вскипает от долгой жары, которую из Африки ветер гонит, будь она неладна!
А в какой-то день, не помню, в назначенный час хозяевам не привезли молока. Они сидят себе в столовой и ждут, и вот в двенадцать слышим звонок в дверь. Сеньора кивнула мне – возьми ключ. А ихний зять сразу за мной. Я открыла, подняла решетку, гляжу – стоит развозчик из молочной. Он протянул мне два бидона молока. Зять посмотрел на него ехидно, мол, ну как, поняли, наконец, что вам без денежных людей не прожить? Развозчик поднял задний бортик тележки и сказал: заплатите, пожалуйста, сейчас, мы не знаем, как будет с молоком. И сеньора – она тоже вышла, – спрашивает: интересно, при чем тут коровы, они в революции участвуют что ли? Развозчик замялся, мотнул головой, да, сеньора, я вас понимаю, но вон что в городе творится, мы, наверно, закроемся. А сеньора – хм, как же нам без молока? И тут зять: в том-то и беда, когда рабочие хотят стать хозяевами и устраивают революцию, ничего путного не жди. И молочнику – может, и вам вся эта заваруха ни к чему? Тот – нет, нет, не знаю, сеньор, а сам скорее с тележкой от дома, даже про деньги забыл. Но зять его окликнул, остановил, деньги, говорит, возьмите, вы хоть из простых, но человек, видно, порядочный. А развозчик ему – стар я уже, вот что главное. И покатил свою тележку, может, последний раз молоко развозил по домам. Я закрыла дверь. На лестницу шашечками вышла их дочь, и сеньора ей говорит, мол, так и так, завтра молока не привезут. А дочь – как же нам быть?
В столовой мы сели за стол и старый сеньор сказал мне, что каждый день слушает радио и что скоро в городе снова будет порядок, потому что они уже близко. На другой день снимаю цепочку, ставлю ногу на ступеньку – она вся была в засохших лепестках, которые падали с жасмина, – и вижу: у мимозы меня поджидает сеньора. Лицо у нее в капельках пота. И первые ее слова:
– Вчера вечером чуть не убили моего мужа.
Я спрашиваю – кто? А сеньора – пошли в столовую, там прохладнее. Только мы сели в плетеные кресла, она давай рассказывать. Вчера, говорит, в восемь вечера – муж ее всегда приходит с работы в это время, – вдруг слышим из прихожей его голос: идите сюда, скорее, скорее! Я прибежала, смотрю, позади него милисьяно[36], и ружьем тычет ему прямо в спину.







