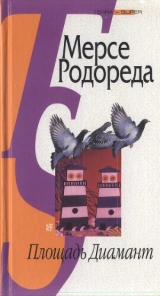
Текст книги "Площадь Диамант"
Автор книги: Мерсе Родореда
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
– Ну, хорошо погуляли?
– Хорошо, сеньора.
Когда мы вышли от нее, Кимет поставил ногу на педаль мотоцикла и спрашивает: о чем вы шептались?
Я ответила – о тебе, о том, что у тебя много заказов, и он опять насупился: ну и зря, моя мать деньги транжирит и давно намекает, чтобы я ей купил щетку и материал на матрац, белый в серую полоску. Как-то раз мать рассказала, что Кимет ребенком был очень упрямый, доводил ее до белого каления. Если что-то не по нему, тут хоть тресни. Сядет на пол и не встанет, пока его не отшлепают.
Однажды утром в воскресенье Кимет впервые пожаловался на боль в ноге. У меня, говорит, нога болит ночью, когда сплю, жжет в самой кости невозможно, а иногда не в кости, а в мясе, но чаще в кости. Но когда, говорит, встану, с постели, никакой боли.
– А где, в каком месте?
– В каком, каком! Везде. Ступня вся и бедро, а колено – нет.
Сказал, что у него, наверняка, ревматизм. А сеньора Энрикета сказала, что не верит ни одному его слову, мол, прикидывается больным, чтобы с ним носились. Целую зиму жаловался на ногу. Утром откроет глаза и начинает: где и как болело. И за обедом – тоже со всеми подробностями. Его мать посоветовала горячие припарки к ноге. А он ни в какую: нечего, говорит, мучить меня без толку, я и так на стенку лезу от боли. Бывало, придет домой обедать или вечером, и я тут же – как нога? Кимет говорил, что днем терпимо, почти не болит. В постель сваливался как мешок с мукой, у меня все обрывалось внутри, того и гляди, пружины продавит. Я – он так привык – снимала с него ботинки, надевала тапочки кофейного цвета с квадратиками, темными и посветлее. Отдохнет, бывало, отлежится – и ужинать. Перед сном я его всегда спиртом растирала, он считал, что так надо, чтобы боль отпустила. Три, говорил, все тело, потому что боль, она хитрая, где не потрешь, она сразу туда.
Я рассказывала людям, что у него нога болит только по ночам, и все диву давались, наша лавочница снизу – тоже. Ну что, все не спит из-за ноги? Ну, как нога у вашего мужа, не получше? Ничего, спасибо, она у него болит только ночью. И мать его спрашивала: все болит нога или как?
Однажды на Рамбла де лас Флорес[20], где столько цветов и такой аромат кругом, я услышала за спиной:
– Наталия!
Думала, не меня, привыкла – Коломета, Коломета. А это – мой бывший жених Пере, которого я бросила. Мой первый ухажер. Я не посмела спросить, женился он или нет, есть ли у него кто. Мы поздоровались за руку, и губы у него задрожали. Он сказал, что остался один на всем белом свете. И тут я заметила черную траурную повязку на его рукаве. Он смотрел на меня так, будто вот-вот задохнется в толпе, среди такого моря цветов, среди всех этих киосков. Вот, говорит, случайно встретил Джульету, от нее и узнал, что ты вышла замуж, она тебе желает только добра, я это понял сразу. Я стою, голову опустила, и не знаю, что сказать, надо, думаю, стиснуть внутри себя тоску, сплющить ее, сделать незаметной, чтобы, не приведи Бог, не растеклась по жилам, наружу не вылезла. Пусть станет шариком, дробинкой. Надо сглотнуть, и все. Мой бывший жених был намного выше меня, и пока я стояла, опустив голову, мне казалось, что на меня навалилось все его горе, которое жило в нем, и чувствовала, что он насквозь видит, что со мной и как мне тяжело. А вокруг нас столько цветов! Ладно, хоть так!
В полдень пришел Кимет, и я ему сказала, что совсем случайно встретила Пере.
– Пере? – пожевал губами. – Кто такой?
– Ну, тот молодой человек, с которым я порвала, когда мы с тобой решили пожениться.
– Ты что, с ним говорила?
– Да так, о делах, о жизни.
Кимет сказал, что я зря их не познакомила. И тут я сказала, что Пере еле-еле узнал меня, так я похудела, и что не сразу решился окликнуть, думал – не я.
– Пусть лучше о себе беспокоится.
Я не стала говорить Кимету, что от трамвайной остановки пошла не домой, а к тому хозяйственному магазину, где куклы выставлены, и не поспела с обедом.
X
Свекровь перекрестила меня и не дала вытирать посуду. Потому что я уже была в положении. Она сама все перемыла, закрыла кухню, и мы пошли на галерею, с одной стороны увитую виноградом, а с другой стороны «Слезами Святого Иосифа», – так называются эти вьюнки. Но Кимет с нами не пошел, сказал, хочет поспать. И когда мы остались с ней вдвоем, она рассказала мне, что учинили Кимет и Синто, когда были детьми. Она посадила в садике гиацинты, три десятка, и каждое утро первым делом бежала посмотреть, как они там. Гиацинты постепенно пошли в рост из луковиц и потом дали бутоны, вроде капюшончиков – стоят рядком, точно выстроились для процессии. По этим капюшончикам уже можно было понять, какого цвета будут гиацинты. И розовых оказалось больше всего. И вот однажды вечером в четверг она выходит в сад позвать мальчиков к столу, и – ужас! Все до единого гиацинта повыдернуты, снаружи торчат луковицы с тоненькими корешками, а стебли и бутоны зарыты в землю. Я говорит, сказала им одно-единственное словечко, да еще какое, хотя у меня нет привычки употреблять срамные слова. От детей, говорит, натерпишься всякого, а если мальчик – тут глаз да глаз…
Мой отец, узнав, что я в положении, сразу пришел и говорит: мне все равно – мальчик там или девочка, так и так нашему роду приходит конец. А сеньора Энрикета все выпытывала, нет ли у меня какой прихоти, ну блажи.
– Главное, себя не трогай, поняла[21]?
Она мне такого порассказала – поверить нельзя. Одним вынь и положь изюм или черешню, другим – подай сырую печенку, а бывает, что приспичит голову барашка… Сеньора Энрикета лично знала одну беременную, которая ничего в рот не брала, подавай ей голову барашка и все! Потом это на ребеночке и отразилась, она сама видела, на щечке у него пятна: глаз и ухо чисто бараньи. А еще сеньора Энрикета рассказала, что дети зарождаются в воде, сперва сердце, за ним вскорости – нервы и жилочки, а уж потом кости, не кости, а хрящики. У нас, говорит, позвоночник из хрящей и кружков, хрящ и кружок, хрящ и кружок, иначе ребенок не уместился бы в животе, не мог бы лежать свернувшись. Будь у нас живот длиннее, дети бы там вытягивались во весь росток, и позвоночник бы стал, как палка для метлы, и люди с самого детства не могли бы сгибаться.
Летом одна знакомая акушерка сказала, что мне надо больше гулять на свежем воздухе и купаться в море. Мы садились на мотоцикл, и – к морю. Брали с собой все: еду, вещи… большое махровое полотенце в желтую, синюю и черную полоску, чтоб я за ним пряталась. В том смысле, что Кимет держал его во всю длину обеими руками, пока я переодевалась. Он посмотрит на меня и смеется, еще бы не смеяться – не живот, а невесть что. Я подолгу глядела на волны, они то набегали, то убегали и так без конца. То летят к берегу, то – назад. Море было иногда серое, иногда зеленое, но чаще всего синее, точно небо из живой воды, которая двигалась, разговаривала сама с собой и смывала все мои мысли. Я становилась легкая, тяжесть из меня уходила. А Кимет, если я подолгу молчала, спрашивал, ну как она жизнь, а?
И нет слов, до чего было страшно на обратном пути, когда Кимет обгонял всех, кого попало. У меня, бедной, все обрывалось внутри. А Кимет, ему хоть бы что, пусть наш ребеночек привыкает к мотоциклу, глядишь, и станет знаменитым гонщиком. Это, мол, неважно, что он внутри ничего не знает про мотоцикл, все равно что-то свое чувствует и обязательно вспомнит, когда вырастет. А однажды мы встретили какого-то парня, и я чуть со стыда не сгорела, потому что Кимет сказал – она у меня теперь с начинкой!
Свекровь подарила мне распашонки, которые сберегла от Кимета, а сеньора Энрикета – бинты, чтобы пупок перевязывать, но я, по правде, не очень поняла, что с ними делать. На распашонках у ворота кружевная прошивка и в нее ленточки продернуты, в одну дырочку продернуты, в другую – нет. Вроде бы для девочки, не для мальчика. Мой отец, пусть и сказал насчет того, что наш род перевелся, все равно хотел, чтобы мальчика назвали Луисом, а если девочка – Маргаритой, как его прабабушку по матери. А Кимет сказал: пусть там крестный, пусть кто, но имя своему ребенку выберет он сам, и никто ему не указ. Ночью, когда Кимет, наконец, ложился спать, – а он сидел с чертежами допоздна, – обязательно зажигал верхний свет и все делал так, чтобы я проснулась.
– Ну что, шевелится?
Когда приходили Синто с Матеу, он говорил: у меня парень будет – во!
А я во что превратилась, страх смотреть: круглая, как шар. В воскресенье мать Кимета принесла мне какой-то засохший сморщенный корень, похожий на свалявшийся клубок. Это, говорит, Иерихонская роза[22], она у меня с тех пор, как родился Кимет. Придет время рожать, ты ее поставь в воду, когда она раскроется, раскроешься и ты.
И вот странность, напало на меня все чистить и мыть. Я вообще чистюля, а тут прямо помешалась на чистоте. Целыми днями чистила и терла все подряд. Смахну пыль и тут же давай снова. Часами драила кран и если на нем хоть одна крапинка, тру как полоумная, он сверкает, горит, а я не могу от него глаз оторвать. Кимет велел гладить его брюки раз в неделю, я в жизни их не гладила и сперва не знала, как к ним подступиться. Как ни старалась, стрелка сзади шла вкось, хоть тресни. Сон у меня стал никуда, все мне мешало, ну все. Проснусь, растопырю пальцы, пошевелю ими перед глазами – мои или нет, да и вообще – я это или не я. Встану – все тело ломит. И тут, как на грех, Кимет начал жаловаться чуть ни каждую минуту, что болит нога. Сеньора Энрикета сказала сразу, что у него туберкулез костей и что ему надо принимать серу. Я, было, заикнулась о ее совете, а он сразу орать: не хватало еще загнуться из-за твоей сеньоры Энрикеты. Словом, взяла и насыпала ему порошок в ложку меда, но Кимет сказал, что из-за меда у него разболятся зубы, и весь день вспоминал тот сон, когда ему приснилось, будто он кончиком языка толкал зуб за зубом и все они по очереди выпали из десен и катались во рту, как камешки. Весь рот ими набит, а выплюнуть не может: губы нитками сшиты. После этого сна ему казалось, что у него все зубы шатаются, он считал, что сон этот дурной, к смерти. И вообще, говорил, что зубы у него все время болят. А жена лавочника снизу посоветовала полоскать маковым отваром, мол, он, как успокоительное средство, как снотворное и во сне боль пройдет. Но сеньора Энрикета не соглашалась: может, говорит, и проходит, а потом еще хуже. А Кимет твой пусть сходит, наконец, к зубному, у того, если понадобится, есть хорошие щипцы.
И пока тянулась эта история с зубами, с камешками, с дурацким сном, который сулил смерть, на меня напала такая крапивница, что я света божьего невзвидела. Вечерами мы гуляли, доходили пешком до Жардинетс[23], потому что мне велели как можно больше двигаться. Руки у меня отекли, щиколотки – тоже, страх смотреть, ну просто надутый шар, привязывай веревку и запускай вверх. Поднимусь на террат, там ветер свежий, кругом небо синее, и мне кажется, что кто-то вынул меня из меня самой и наполнил чем-то непонятным. Все время так казалось – и когда я вешала белье, и когда шила, и когда тыкалась без дела из угла в угол. Будто кто тайком, забавы ради, вдувает мне воздух в рот, чтобы я распухала все больше и больше… Однажды вечером я сижу на террате – одна, никого, ветер, небо синее… Глянула на свои распухшие ноги, и в первый раз стало себя очень жалко.
XI
От первого крика я сама чуть не оглохла. Вот уж не думала, что могу так громко и долго кричать! И что все мои муки вырвутся наружу этим криком страшным, а внизу – ребеночком. Кимет ходил туда-сюда по коридору и без конца читал «Падре нуэстро». И когда акушерка вышла за горячей водой, лицо у нее было желтое, даже зеленое от злости. Она ему сказала, что все из-за него, не хотел попридержать себя вовремя.
Свекровь, как меня чуть отпустит, сразу ко мне – поглядела бы, что творится с Киметом… Акушерка привязала полотенце к спинке кровати и велела мне тянуть оба конца, что есть силы, тужиться. Я тяну и вдруг – раз! – сломалась колонка из шариков и чей-то голос, далеко-далеко от меня, не понять даже где, – еще чуть задушила бы мальчика.
Я только перевела дыханье, слышу плач, и акушерка взяла моего ребеночка за ножки, как зверька, шлепнула по задику, а иерихонская роза стоит вся раскрытая на ночном столике, вот и думай… Я, как во сне, притронулась к цветку на вязаном покрывале и потянула за лепесток… Мне сказали, что еще не все, что должно отойти детское место. И не давали спать, тормошили все время, а у меня глаза слипались. Кормить я толком не могла: одна грудь так и осталась маленькой, а другая набухла от молока. Кимет сказал, что заранее знал, что будет не так, как у людей.
Мальчик родился у нас – четыре килограмма, а через месяц стал всего два с половиной. Он тает на глазах, говорил Кимет, как сахар в воде. Дойдет до полкилограмма и помрет, раз с ним такое… Когда сеньора Энрикета пришла к нам в первый раз, она уже все знала от жены лавочника снизу. Говорят, ты его чуть не задушила? А Кимет свое: вот не было заботы, попробуй теперь выточить новую колонку у кровати, Коломета ее так сломала, что не поправишь. Ребенок плакал все ночи, как стемнеет, так криком исходит. Свекровь говорила, что он плачет из-за темноты, боится, а Кимет, глупости, ребенок еще не различает, когда день, когда – ночь. И не брал ни пустышку, ни бутылочку с соской, ничего… И хоть ему пой, хоть уговаривай. Хоть носи всю ночь на руках, ничего не помогало, орал без умолку. В конце концов, Кимет вышел из терпения и устроил настоящую истерику. Нет никакой жизни, так продолжаться не может, еще немного и он сам умрет! Взял и перенес ребенка вместе с кроваткой в темную комнату, и ночью мы закрывали дверь. Соседи внизу слышали, конечно, плач, и пошли разговоры, что мы никудышные родители. Я ему молоко, а он ни в какую. Я ему водички – нет. Я ему сок апельсиновый, выплевывает. Начну пеленать – орет как резаный. Купаю – снова орет. Очень нервный мальчик, очень. Стал на обезьянку похож, а ножки, как палочки. Голенький плакал еще сильнее. Шевелил пальчиками на ногах, будто это руки, и я боялась, что он лопнет от крика. Разойдется пупок, и все. Потому что корка еще не отпала. Первый раз я увидела, какой у него пупок, когда знакомая акушерка учила меня купать мальчика. Она опустила его в таз и говорит:
– До рождения мы все точно груши висим на этой веревочке, – и показала, как придерживать головку, – когда берешь ребенка на руки, ведь у него косточки такие мягкие, что если не придерживать, легко сломать что хочешь. Она говорила, что пупок – самое важное в человеке. Такое же важное, как голова и то, что внутри нее, пока все не срослось окончательно. А мальчик сморщился, как старичок. И чем больше худел, тем сильнее плакал. Все говорили, что он не жилец на этом свете. Джульета пришла ко мне с конфетами и еще принесла шелковую косынку с попугаями по белому полю. Они, говорит, думают только о ребенке, и никому нет дела до матери. И еще она сказала, что мальчик обязательно умрет и что нечего так убиваться. Раз, говорит, не берет грудь, значит, не жилец… Одна грудь, в которой было молоко, затвердела, и молоко пропало совсем. Я слышала, что материнское молоко, оно своенравное, но чтобы настолько – не представляла. Но время шло, и мальчик все-таки стал пить молоко из бутылки, да и с грудью все обошлось. Мать Кимета пришла за иерихонской розой, которая снова закрылась, и унесла ее домой в папиросной бумаге.
XII
Сеньора Энрикета брала мальчика на руки – мы назвали его Антони – и кричала: вот мой каштан, вот он мой каштанчик! Антони смеялся, а когда она его подносила к картине с лангустами, он сразу хмурился и пускал пузыри – пф-ф, пф-ф… Кимет снова стал жаловаться на ногу, боль, говорил, адская, раньше жгло в кости, а теперь отдает в ребро у пояса, совсем с другой стороны, мол, нерв ущемился. Сеньора Энрикета послушает и скажет – на вид-то он совсем здоровый. А я ей – не знаю, ведь ночами не спит, мучается.
– И ты веришь? Да погляди, какие у него щеки налитые и глаза вон блестят!
Свекровь забирала к себе Антони по понедельникам, когда у меня большая стирка. Кимет ворчал – не любил оставлять мальчика на мать. Я, говорил, ее знаю: положит ребенка на стол, возьмется за свои бантики, а он, не приведи Господь, упадет. С ним самим такое было, когда ему и года не было. После обеда я с Антони часто ходила к тому магазину, где на витрине куклы выставлены. Щеки у всех кругленькие, глаза стеклянные, глубокие, нос аккуратненький, рот полуоткрыт – всегда улыбаются, точно их заколдовали, а на лбу блестящие завитки волос, столярным клеем приклеенные. Одни в коробках лежат, ручки по швам, глаза закрыты. Другие стоймя, тоже в коробках, и глаза открыты. А самые дешевые, бедняжки, всегда с открытыми глазами, хоть поставь, хоть положи. В синих платьицах и в розовых, воротничок на тесемку собран, чуть ниже талии поясок. И на всех блестящие лаковые туфельки и длинные носочки до самых колен. Коленки выкрашены поярче, чем вся нога, но тоже телесного цвета. Когда ни приди, они там, красавицы, в витрине, одна краше другой, ждут, кто их купит, кто унесет домой. Всегда они там – личики фарфоровые, а тело из папье-маше или тряпичное, и рядом метелки для пыли, выбивалки, замша натуральная и искусственная – все это продавалось в магазине.
Как вспомню нашего первого голубя, так перед глазами та воронка с каймой, потому что Кимет купил ее за день до того, как этот голубь появился. Вернее, я его увидела утром, когда поднимала жалюзи в столовой. Совсем молоденький, полуживой, крыло подбито, и за ним по галерее кровавый след. Я и выходила этого голубя, а Кимет сказал, что его надо оставить, что он сделает клетку на галерее, чтоб его было видно из столовой. И не то что клетку, а самый настоящий домик с балкончиком вокруг, с козырьком, с красной крышей и на створке – дверной молоточек. Мол, нашему мальчику будет забава. Несколько дней мы привязывали голубя за лапку к железной решетке на галерее. А потом пришел Синто и сказал, что птицу надо отпустить, что ее хозяева где-нибудь по соседству, иначе бы ей не добраться с перешибленным крылом до нашей галереи. Мы вышли на террат, смотрим по сторонам, точно в первый раз, – и нигде ни одной голубятни. Синто пожал плечами – вот чудеса! И рот у него совсем набок скосился. А Матеу сказал, что голубя надо убить – все лучше, чем жить на привязи, как в тюрьме. И тогда Кимет перенес его на террат в чуланчик… Я, говорит, сделаю здесь не домик, а настоящую голубятню, отец моего ученика держит голубей, он продаст нам голубку, и, глядишь, они спаруются.
Ученик принес голубку в корзине. Но пока не раздобыли третьего – ничего не выходило. Первого голубя мы назвали Кофеек – у него под крылом был большой кружочек кофейного цвета, а его подружку – Маринга. У Кофейка с Марингой – мы их закрыли в чулане на террате – птенцов не было. Яйца голубка клала, но птенцов не было. Сеньора Энрикета говорила, значит, самец никудышный и лучше его выкинуть. Кто там знает, откуда он взялся, может, это вообще почтовый голубь и его кормили чем ни попадя, лишь бы летал и летал. Когда я передала ее слова Кимету, он рассердился, пусть, говорит, не суется в чужие дела, а жарит каштаны. Мать Кимета сказала, что мы даже не представляем, во что нам обойдется эта затея с голубятней. Не помню, кто посоветовал нарвать крапивы, повесить ее в пучках под потолок, чтобы высохла, потом потолочь и подмешивать в моченый хлеб. Мол, тогда голуби быстро окрепнут и станут класть яйца с зародышами. Сеньора Энрикета рассказала мне, что у нее была одна знакомая итальянка по имени Флора Каравелла, которая в молодости гуляла напропалую, а когда подошли годы, она открыла заведение с молоденькими Флорами и на террате от скуки завела голубей. И кормила их крапивой. Правильно, говорит, что твоя свекровь советует давать им крапиву. Я ей – да нет, мне про это сказали другие люди, а она: какая разница, кто бы ни сказал, главное – голубям крапива самое оно. Этот подбитый голубь и воронка с каймой почти в одно время появились у нас, потому что за день до голубя Кимет ее купил – белая с синей каймой по краям, чтобы вино разливать по бутылкам. И сказал: смотри, не урони, а то края отобьются.
XIII
Сделали мы голубятню. В тот день, когда Кимет взялся ее строить, зарядил дождь. Он все инструменты, весь материал перетащил в столовую. Прямо в столовой пилили, стругали, как в столярной мастерской. Дверцу вытащили на террат уже готовую – со щеколдой, с петлями, со всем, что надо. Синто приходил помогать, и в первое погожее воскресенье мы все поднялись на террат, чтобы посмотреть, как Матеу делает окно в чуланчике, как прилаживает навес, чтобы голуби улетали не сразу, а могли посидеть, подумать – куда, в какую сторону… Из моего чулана выкинули все начисто: корзину для грязного белья, стулья, чемодан, корзинку с защепками.
Выгнали Коломету из ее царства! Обещали сделать антресоли для моих вещей по хозяйству, но пришлось снести все вниз, и когда мне хотелось посидеть на террате, я таскалась со стулом туда и обратно. Пока не покрасили голубятню, решили голубей не выпускать. И тут началось: один хотел в зеленый, другой – в синий, третий – только в темно-коричневый. Выкрасили в синий. Да я сама и выкрасила. У Кимета по воскресеньям всегда работа, но он сказал, что если откладывать, тянуть – дерево сгниет от дождя. Вот и красила, хоть Антони спит, хоть по полу ползает, весь зареванный. В три слоя красила. И в тот день, когда краска высохла, мы поднялись на террат и выпустили голубей из нашей голубятни. Сначала вышел белый – глаза у него красные, лапки тоже, а коготки – черные. За ним – черный, с черными лапками, но глаза серые, а вокруг серого желтая кайма ободком. Что первый, что второй вышли не сразу, сначала оглядывались по сторонам. Нагнут голову и поднимут, нагнут – поднимут, вроде сейчас слетят вниз, но нет, снова чего-то выжидают, думают о чем-то. А потом вдруг взмахнули крыльями и слетели с навеса. Один сел у поилки, другой у кормушки. И голубка, ну что тебе сеньора в трауре, покачала головой, распушила перышки на шее, а белый голубь сразу к ней, хвост веером и кругами, кругами… а сам курлычет. Мы все смотрим, молчим, и Кимет первый сказал: вон, как радуются!
И еще сказал, что когда голуби привыкнут к окошку, он откроет и дверцу, чтобы они выходили и оттуда и отсюда, а если открыть дверцу, пока они не привыкли, ни за что не будут выходить из окошка. В тот день Кимет поставил новые гнезда, вернее ящики, потому что старые дал на время отец ученика. В общем, все вроде сделали на голубятне, и тут Кимет спрашивает – не осталось ли синей краски, я говорю, что осталась, и он – надо выкрасить решетку на галерее. В конце недели Кимет принес еще одну пару голубей, каких-то особенных, с хохолками капюшончиком, и сказал, что эта порода называется – монахи. Так и назвал их – Монах и Монашка. Они тут же подрались со старыми, которые считали себя хозяевами и новых к себе не подпускали. Но монахи – хитрые, все больше по углам, будто их нет, там не допьют, там не доедят, если кто клюнет – стерпят, а со временем приучили к себе всех старых и незаметно стали главными в голубятне. Делали что хотели, чуть что не по нраву – распушат перья и наскакивают на других. Недели через две Кимет заявляется с новой парой – хвосты опахалом, как у павлинов, очень важные птицы, грудка выпячена, перья пушистые. После того, как самые первые сели на яйца, все пошло путем.
XIV
Все запахи вперемежку – мяса, рыбы, зелени, цветов… с закрытыми глазами скажешь, что рынок в двух шагах. Я выходила из дому и пересекала Главную улицу – по ней тогда ездили вверх-вниз трамваи желтенькие со звонком. У кондуктора и вагоновожатого была одинаковая форма – из серой ткани в тонкую-тонкую полоску, сразу не различишь. Солнце выкатывалось из-за домов на Пасео де Грасия, и лучи разом падали на плиты тротуара, на балконы, увитые диким виноградом, на все. Дворники мели улицу огромными метлами из вереска. Мели задумчиво, не спеша, будто они не живые, а кукольные – из картона. Я шла, не думая, прямо на запахи рынка, на крики, в самую толчею, передо мной одни женщины и корзины… Старуха, у которой я покупала мехильонес[24], всегда стояла за прилавком в синих нарукавниках, в фартуке и насыпала с верхом меру за мерой. Ракушки были хорошо промыты пресной водой, но от них все равно тянуло запахом моря, потому что он держался внутри за створками. В ряду, где продавали требуху, пахло чем-то подгнившим, мертвым. На капустных листьях, красных от крови, лежали бараньи ноги, бараньи головы со стеклянными глазами, разрубленные коровьи сердца, у которых жилы были забиты черными, уже запекшимися сгустками крови. На крюках – влажная парная печень, обваренные кишки и паленые телячьи головы. И у всех торговок лица белые, восковые, оттого, что они часами стоят возле этой требухи, всяких потрохов, ведь от них глазам – никакой радости. Да еще рядом жаровни, где женщины то и дело раздувают угли, всегда спиной к людям, точно, что срамное делают… Женщина, у которой я рыбу покупала, всегда ко всем с улыбкой, и зубы у нее золотые. Она взвешивала рыбу, и в каждой чешуйке, самой малой, самой крохотной, переливался свет от лампочки, что горела над весами и корзиной.
Окуни, кефаль, морские ерши с толстенными головами – иголки в разные стороны, как нарисованные, не рыбы, а цветы диковинные. Кругом рыба, рыба – целые груды, и каких только нет! Бьют хвостами, вырываются, глаза выпученные. Я как посмотрю – у меня внутри все екает. Зеленщица оставляла мне эскаролы[25] и сельдерей. Она была уже в возрасте, худощавая, всегда в черном, ей на огороде помогали оба сына…
Все так и шло своим чередом, день за днем, и вдруг объявили, что у нас Республика[26], Кимет как не в себе от радости, целый день на улице, кричит, флагом размахивает, и откуда только взял его! Как сейчас помню: воздух тогда был особенный, свежий, душистый, такого, по-моему, больше не бывало. Никогда! Все налито запахом первой зелени и бутонов, красота, не надышишься. Какой бы потом не был по веснам, не сравнить с теми днями, когда все в моей жизни перевернулось. Весной это было, в апреле, цветы еще не распустились и на мою голову вместо привычных малых забот обрушились большие беды, одна за одной.
– Они едва собрали чемоданы и деру[27], – говорил Синто. И еще он говорил, что, мол, наш король каждую ночь спал с тремя актерками, а королева из дворца выезжала только в маске[28]. А Кимет говорил, что про них еще многого не знают.
Синто с Матеу часто к нам приходили, и Матеу, ну, с ума сходил по своей Грисельде. Как она ко мне подойдет, говорил, так у меня сердце обмирает… Кимет с Синто смеялись – ты вроде, тронулся от любви, с тобой чего-то не того. Матеу слушает, слушает и опять за свое, про Грисельду. Что правда, то правда: он только и мог говорить о ней, и когда говорил, делался какой-то разомлевший. Я за него очень переживала. Матеу как-то признался, что он в первую ночь куда больше нервничал, чем она, потому что мужчины вообще чувствительнее женщин. Подумать! – чуть сознание не потерял, когда остался вдвоем с Грисельдой. Мой Кимет сидит в своем кресле, слушает и посмеивается. Они с Сито посоветовали Матеу спортом заняться, мол, голова лучше варить будет, иначе, если целыми днями думать о Грисельде – свихнешься, наденут смирительную рубашку и завяжут сзади морским узлом. Они ему и такой спорт предлагали и сякой, а он: нет и нет, я – прораб, на стройке только успевай следить за всем, набегаешься за день – ноги не держат. А будешь тратить силы на футбол или там – плавать, совсем выдохнешься, на Грисельду ничего не останется, и она найдет другого, с которым ей будет лучше. Эти разговоры кончались и ссорой, но если Матеу придет вдруг со своей Грисельдой, оба помалкивают, с советами не лезут. Говорили больше про Республику, про голубей, про то, как быть с птенцами. Мой Кимет, если разговор не клеился, тащил всех на террат и там, как заведенный, только о голубях, кто с кем в паре, какие у кого привычки. Одни так и ждут, чтобы увести чужую самочку, у других – постоянная, а птенцы все хорошие, потому что пьют воду с серой. Часами, бывало, шел разговор про то, как Пачули делает гнездо для Тигры, или как у первого голубя с перебитым крылом, который появился тогда на балконе – мы его Кофеек назвали, – все птенцы сначала вышли в темную крапинку, с серыми лапками. Голуби, мол, в точности, как люди, есть, конечно, разница – они в перьях, яйца кладут, летают, но вот приходит пора заводить потомство, выхаживать птенцов – один к одному, поверьте. Матеу говорил, что он никакой живности не любит, и никогда бы не стал жарить птенцов, которые под его крышей росли, убивать пичугу, если она в твоем доме на свет Божий появилась, все равно, что убить кого-нибудь из родной семьи. Кимет тыкал ему пальцем в живот и говорил: оголодаешь – тогда и посмотрим.
Выпускать голубей мы стали из-за Синто, это он насел: голуби должны летать, они без неба не могут, за сеткой их держать никак нельзя. В общем, взял и распахнул дверцу. Кимет схватился за голову, замер, ну все, говорит, пропало, нам их больше не видать.
Голуби стали выходить один за другим с опаской, вроде боятся, нет ли какого подвоха. Несколько голубей сразу уселись на ограду и глядят по сторонам. Они ведь не знали свободы, вот и присматривались, не спешили. В воздух поднялись только трое или четверо, не помню уже. Когда Кимет увидел, что голуби летают над крышей, у него с лица сошла желтизна, выдохнул – ну, слава Богу! А голуби, уставши кружить над нами, все спустились на террат. Друг за дружкой – нырк, нырк в дверцу голубятни, точно старушки в церковь. Мелкими такими шажками, и головки вперед – назад, вперед – назад, как заводные. С того дня я больше не сушила белье на террате – голуби пачкали. Пришлось вешать на галерее. Ну, а что делать?
XV
Кимет сказал, что ребенку нужен свежий воздух, и лучше ездить с ним по шоссе, чем держать в галерее или на террате, или того хуже – в чахлом садике у матери. Он смастерил что-то вроде деревянной колыбельки и привязал ее к мотоциклу сзади. Бывало, подойдет к Антони, схватит, точно это какой сверток – ему, бедному, еще полгодика не было – и к мотоциклу, в колыбель. Привяжет, возьмет бутылочку с соской… Я им вслед смотрю, а у самой сердце колотится, ну – все, больше никогда их не увижу. Сеньора Энрикета говорила, что Кимет, конечно, со странностями, но зато по мальчику просто с ума сходит. Такое творит, что она и в жизни не видела. А я, только они уедут, сразу открываю дверь на галерею, не дождусь услышать, как мотоцикл к дому подкатывает. Кимет выхватит мальчика из этой колыбельки, тот почти всегда спал, и вверх по лестнице через три ступеньки на четвертую: на, возьми, вон какой крепыш, надышался свежим воздухом. Теперь проспит восемь дней подряд…







