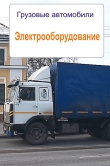Текст книги "Голод и изобилие. История питания в Европе"
Автор книги: Массимо Монтанари
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Чревоугодие города
«Ты, что держишь под началом снабжение продовольствием, не минуешь городов, а окажешь предпочтение им, их вящему чревоугодию». Направляя это официальное письмо префектам, ведавшим продовольствием, Кассиодор затрагивал жизненно важный пункт римской государственной организации (в VI в. ею уже распоряжался Теодорих, «варвар», который, однако, с уважением относился к традиционным политическим моделям). Город играл главную роль в координации управления; он был осью, вокруг которой вращалась не только политическая, но и экономическая жизнь всего государства, местом, куда стекались сельскохозяйственные продукты и всяческие виды продовольствия; они скапливались на складах крупнейших собственников, но большей частью поступали на рынок. «Продовольственная» политика (руководство снабжением городов и контроль над поставками) была важнейшей составляющей общественной деятельности, которой руководили особые лица. Затем, когда распались (по крайней мере, на Западе) политические и общественные связи былой империи, европейская деревня долгое время жила, имея в виду другие ориентиры: сельскую общину, дворы сеньоров, местные аббатства и церкви. Может быть, еще и потому, что не стало давящего, жадного государственного аппарата, сельская община смогла перестроиться на новых основах и выработать различные формы хозяйствования и снабжения, в основном направленные на внутреннее потребление. Аграрный подъем IX–XI вв. сопровождался новым расцветом рыночной торговли, в основном локальной: деревни, замки, монастыри стали центрами возобновившегося обмена. Местные сеньоры не замедлили присвоить себе вновь появившиеся излишки. В некоторых районах, например в Италии и Фландрии, это явление приобрело ярко выраженный урбанистический характер, и «сеньорами» как раз стали города, вокруг которых вновь начала выстраиваться сельская экономика. Новая форма городского империализма распространилась на прилегающую территорию, ресурсы которой стали оцениваться главным образом с точки зрения рынка и городского потребления. Продуманная до мелочей (хотя иногда и импровизированная) продовольственная политика была сосредоточена на одной-единственной цели: в достаточной мере обеспечить город, удовлетворить, как сказал бы Кассиодор, его чревоугодие.
Законодательное вмешательство городских властей (единичные предписания, официальные статуты) распространяется на все этапы производственного процесса: производится надзор над полями, выносятся распоряжения, направленные на повышение плодородия почв; контролируется крестьянский труд, кропотливо расписанный по месяцам и дням; контролируются процессы переработки продуктов, разрабатываются некие нормативы, прежде всего для мельниц и печей; рынок контролируется за счет варьирования таможенных пошлин – они понижаются или повышаются в зависимости от намерения поощрить импорт или экспорт. Эти законы, принятые городскими властями, находят отражение и в договорах, которые землевладельцы в частном порядке заключают с окрестными крестьянами. Неудивительно, что мы находим там те же интересы, даже те же слова: разве владельцы земель – не те же самые люди, которые заправляют в городе? Защищая свои частные интересы, они заботятся и о городском рынке; защищая свои права, обеспечивают достойный уровень потребления в городе. Подробно расписываются полевые работы: сколько раз и в какое время пахать поле; каким количеством навоза удобрить поле; какие культуры возделывать (особое внимание уделяется пшенице, поскольку горожане не хотят другого зерна). Меняется взгляд на крестьянина, он уже не только подневольный человек, объект угнетения (таким его понимала традиционная знать), но и человек трудящийся, способный больше производить и больше зарабатывать: взгляд на вещи через призму выгоды – новый аспект европейской культуры, утверждающийся с XI–XII вв. в «буржуазных» слоях, которые представляют собой сложную социальную реальность, включающую не только буржуазию в узком смысле, но и мелкую и среднюю городскую знать.
Трактаты по агрономии, которые начинают появляться на Западе после многовекового перерыва (исключением является арабская наука в Испании, о которой мы упоминали), отражают эту новую городскую реальность и явно защищают интересы городов. Например, знаменательно, что Паганино Бонафеде, болонский землевладелец и агроном XIV в., останавливается только на выращивании пшеницы, опуская такие культуры, как просо и сорго, поскольку «чуть ли не каждый знает, когда их следует сеять». Фуражное зерно (так именовались в Италии второстепенные злаки) способен возделывать каждый, а вот пшеницу – нет, возделыванию пшеницы людей надо учить. Точно так же все внимание сосредоточено на пшенице и в английских трактатах XIII–XIV вв., в частности в известном труде Уолтера из Хенли: в них не столь явно защищаются интересы городов, но отчетливо видна ориентация на денежную экономику и рынок. Именно в этом контексте мы должны оценивать феномен нового обращения к пшенице, характерный для сельского хозяйства Европы и проявившийся более или менее отчетливо в разных ее частях в XII–XIII вв. Пшеница стала самой важной зерновой культурой как для городских жителей, так и для владельцев земельных угодий; притом деревенские жители продолжали питаться «фуражом».
По правде говоря, в хлеб горожан тоже проникают второстепенные зерновые (а также бобовые и каштаны). Приведем один пример из множества – Болонское уложение 1288 г. различает три основных типа муки: чистая пшеничная (за ее помол берут налог в 4 денария за корзину), «смешанная» (2 денария) и мука из бобов и пшеницы (ее, очевидно, считали смесью высокого качества, поскольку за помол платили по 3 денария). Понятно, что это касалось только низших слоев городского населения, да и то не всегда: от пшеницы и от белого хлеба, которые сделались чем-то вроде status-symbol в городском режиме питания и образе жизни, отказывались лишь по необходимости. Сила закона, дипломатии, оружия – не счесть случаев, когда городские власти, используя эти средства, проводили реквизицию зерна в деревнях – защищала город и превращала его, так сказать, в островок искусственно созданного изобилия. Из близких ли, из дальних ли краев, но пшеницу доставляли любыми средствами, хоть бы и ради поддержания общественного порядка: прибегнуть к фуражу для горожан означало унизиться, вернуться к «деревенским» условиям жизни; когда их к этому вынуждали, они протестовали и во всем обвиняли власти.
Для городских слоев голодные времена означали carum tempus, «времена дороговизны», и эта зависимость от рынка, которая обычно гарантировала более высокий и разнообразный уровень потребления, чем в деревнях, в трудные моменты делала положение горожан более опасным по сравнению с крестьянами, предоставленными самим себе, но непосредственно связанными со средствами производства. Достаточно примеров, когда вследствие крайней скудости припасов становится трудно удовлетворить нужды бедняков – и тогда привилегиям наступает конец, городские ворота закрываются, и не только деревенские жители не могут попасть внутрь, но и городскую бедноту выгоняют вон. «Однажды в Генуе была страшная дороговизна, и скопилось в ней множество бездельников, более чем в какой-либо другой земле», тогда власти снарядили корабли и пустили по улицам глашатаев, которые кричали, «пусть, мол, бедняки отправятся на берег, там будут раздавать казенный хлеб»; огромная толпа скопилась на пристани, не только городские бедняки, но и чужие «бездельники». Представители коммуны сделали вид, будто хотят разделить их: пусть горожане взойдут на один корабль, а чужаки – на другой. Все поднялись на борт. И тут же весла были спущены на воду, и всех бедняков (настоящих и мнимых) отвезли на Сардинию. «И там их оставили, как и следовало поступить, и в Генуе кончилась дороговизна». Об этом мы читаем в «Новеллино», сборнике рассказов, побасенок и апологов, написанных в конце XIII в. Допустим, что этот эпизод вымышлен, – все же знаменательно, что воображение современников способно было его породить. В последующие века не будет недостатка в аналогичных примерах, описанных в хрониках и предписанных законом, – примерах «буржуазной жестокости», по определению Фернана Броделя.
Есть много, есть хорошо
Не без напряженности, противоречий и контрастов европейское общество, по-видимому, достигло в первой половине XIII в. уровня достаточно распространенного, хотя и не всеобщего благосостояния: экономический рост, пусть ценой эмаргинации и усугубления социального неравенства, какие ведет за собой всякий прогресс, все-таки благотворно сказался на положении дел как в городе, так и в деревне. Равновесие между численностью населения и количеством ресурсов остается хрупким, нестабильным; продолжающаяся раскорчевка лесов и аграрная колонизация, знак возрастающей и не находящей удовлетворения потребности в пище, – наилучшее тому доказательство. Но как следствие – накапливаются богатства, более широкие слои населения получают такие возможности потребления, даже роскоши, какие в предыдущие века доставались очень немногим. Около 1250 г. Европа достигает высшей точки этого расцвета, начавшегося примерно столетием раньше; расцвета частичного, социально ограниченного, но все-таки вполне ощутимого. К тому же нельзя сказать, чтобы низшим слоям на этом пиру уж совсем ничего не перепало: количество и частотность голодовок в XII–XIII вв. значительно сокращаются. И разве не увеличение производительности труда крестьян (ведь нельзя же все приписать улучшению погодных условий) позволило сеньорам и горожанам взимать с них налоги и богатеть? В 1255 г. святой Бонавентура может написать в своем трактате, что проблема голода осталась в прошлом, и порадоваться достатку, который выпал на долю его поколения. Разумеется, не стоит обобщать (какие-то три года спустя Матфей Парижский уверяет, что в Англии умерли от голода 15 тысяч человек), и все-таки оптимистические высказывания отражают социальный и культурный климат.
Мы уже говорили, что этот феномен касается главным образом городов. Риккобальдо из Феррары в конце XIII в., полстолетия спустя, описывает эпоху императора Фридриха II как время, когда «обычаи и нравы итальянцев отличались грубостью»; тогда «пища была скудная, и горожане ели свежее мясо всего трижды в неделю. В обед они варили мясо с овощами, а на ужин подавали то же мясо холодным». Обратим внимание прежде всего на количественный аспект: для горожанина XIII в. есть свежее мясо трижды в неделю – признак нищеты и скудости (а к этому «малому» количеству мяса следует прибавить, по крайней мере, ветчину). Не так уж это и мало, но Риккобальдо (и горожанам, его современникам) такое количество не кажется достаточным. Можно также переставить акцент на качество: раньше ели невкусную пищу, плохо приправленную овощную похлебку и остывшее мясо. Так или иначе, поскольку сожаление о счастливом прошлом, кажется, всегда было присуще человеку, этот неожиданный переворот в ценностях – признак общества сильного, уверенного в себе.
Даже крестьяне – те из них, кто, воспользовавшись возможностями, какие предоставляет особо динамичная фаза развития экономики, сумел разжиться землей и деньгами, – стремятся питаться лучше, сравняться в образе жизни с сеньорами и горожанами. В Германии XIII в. старый крестьянин Хельмбрехт (герой одноименной повести в стихах Вернера Садовника) советует сыну придерживаться «подобающего ему» мучного рациона, утверждая, что мясо и рыба предназначены для господ: «Ты должен жить тем, чем живу я, тем, что твоя мать тебе дает. Пей воду, дорогой мой сын, вместо того чтобы красть деньги на вино… Неделя за неделей твоя мать варит тебе пре красную пшенную кашу: ею ты должен наедаться досыта, а не отдавать за гуся краденого скакуна… Лучше, сын, смешивать просо с овсом, чем есть рыбу, покрыв себя позором». Но сын не согласен: «Сам пей воду, отец мой, а я хочу пить вино; сам ешь свою кашу, а я хочу жареной курицы».
Богачи – как всегда происходит в подобных случаях – еще выше поднимают планку социальных различий. В мире, где изобилие распространяется все шире (хотя и не становится всеобщим), есть много, как привыкли европейские правящие классы, уже недостаточно. Это, конечно, остается важной отличительной чертой знати: у героя рыцарских романов всегда могучий аппетит. В «Песни о Гийоме» герой, позорно покинув поле битвы, утешается лопаткой вепря, жареным индюком, караваем хлеба и двумя большими сладкими пирогами; видя это, Гибур, жена героя, упрекает его: ведь тот, кто в силах столько съесть, не должен был бесчестить свой род бегством от врага. Еще раньше та же самая Гибур подала примерно такую же еду племяннику Гийома, Жирару, который, в точности как дядя, поглотил все в один присест; видя такой аппетит, Гибур сказала себе, что это наверняка отважный воин, а мужу заметила: «Сразу видно, что он из вашего рода».
Но наряду с повторением традиционных культурных моделей и стилей жизни, связанных чуть ли не с животными образами силы и мужества знатного человека, встречаются отрывки, где «куртуазный» герой – или автор, заставляющий его говорить и действовать, – выказывает умеренность в еде или даже полное к ней невнимание; картина была бы неполной, если бы мы истолковали эту меру, эту сдержанность просто как приобщение к религиозной морали, к новому образу «христианского» воина, образу, который как раз в эти века утверждается и получает воплощение. В романах XII–XIII вв. пищевые аспекты жизни благородного сословия зачастую едва затронуты: автор «заботится лишь о том, чтобы развеять малейшее подозрение в бедности или скупости, уверяя, что у всех было еды вдосталь» (Мартеллотти – Дуранте). «Ужин ему подали знатный, а подробно рассказывать я не хочу», – обрывает на полуслове Кретьен де Труа свой рассказ о королевской трапезе Артура в «Эреке и Эниде»: мы узнаем только, что там были птица, дичь, фрукты и драгоценные вина. Даже описание обеда, которым торжественно завершается коронация Эрека, разочарует тех, кто хотел бы восстановить меню и очередность подачи блюд: «Тысяча рыцарей разносят хлеб, еще тысяча разливают вино, а еще тысяча раскладывают прочую еду»; и «о разных блюдах, которые подали к столу, я мог бы дать вам подробный отчет, но не стану этого делать, потому что должен заняться другим». Еще более ясно выражается Гартманн фон Ауэ, переводчик Кретьена на немецкий язык, который завершает описание такой сентенцией: «Я не хочу рассказывать вам, что они ели, ибо они заботились скорей не о том, чтобы много есть, но о том, чтобы вести себя благородно».
Значит, речь идет не только о христианской умеренности и даже не преимущественно о ней. За видимым невниманием этих героев к еде, за уклонением авторов от слишком подробных описаний на самом деле скрывается живейшее пристрастие к «благородному поведению» и всему тому, что теперь считается необходимым дополнением к приему пищи: красоте стола, скатертей и посуды; хорошему обществу и приятной беседе; музыке, зрелищам, изысканности манер. Мы присутствуем при рождении «хороших манер», застольного ритуала, основанного скорее на изяществе, чем на силе; скорее на форме, чем на содержании (и в плане еды тоже). Именно в куртуазной среде XII–XIII вв. такие «манеры» начинают определяться как знак социальных различий, и упор делается уже не на количестве потребляемого (или не только на нем), но на качестве и способах потребления.
Но не только «дополнение» к еде, то есть атмосфера застолья, привлекает внимание этой новой аристократической культуры. Еду тоже предпочитают более изысканную, тщательно приготовленную, радующую вкусом, запахом, цветом. Не столько аппетит (обладание которым все же остается важнейшим свойством знатного человека), сколько способность выбирать, отличать хорошую еду от плохой станет знаком достойного вхождения в куртуазную жизнь: когда граф-отшельник из «Тиранта Белого» (знаменитого романа Жоанота Мартореля) отказывается наконец от суровых лишений и возвращается к жизни дворянина, его подвергают различным испытаниям; вот одно из самых существенных: «…много блюд поставили перед ним на стол, и он, человек опытный и мудрый, ел только хорошую еду, а к другой не прикасался». Так же точно с большого золотого блюда, на котором были поданы сласти, он взял только засахаренные фрукты.
Теперь нас не удивляет, что в XIII в. в Европе появляются первые образцы поваренных книг, жанра, следы которого затерялись после позднеримского пособия, приписываемого Апицию. Это – самое явное и ощутимое проявление вновь проснувшегося интереса к еде как удовольствию.
Гастрономия и голод
В начале XIII в. папа Иннокентий III в своей обличительной речи «О мирской суете» («De contemptu mundi») не пощадил грех чревоугодия и новые формы обжорства, плоды безумных человеческих страстей. Недостаточно уже вина, пива, сидра: «производятся новые эмульсии, новые сиропы»; недостаточно вкусной еды, которая приходит к нам с деревьев, с земли, с моря, с неба: «все требуют, все покупают пряности и ароматы». И, пробуя любое блюдо, доверяются ухищрениям поваров.
На самом деле речь не идет о нововведении в полном смысле этого слова. Обильное употребление специй было с давних пор распространено в европейской кухне (изысканной, разумеется): уже в IX–X вв. наблюдается значительный приток специй на западные рынки, в Италию и Францию, и документы показывают растущий интерес к таким продуктам, как имбирь, корица, галанга, гвоздика, которыми римская кухня пользовалась мало или вовсе не пользовалась, ограничиваясь почти исключительно перцем (о чем свидетельствует поваренная книга Апиция). Другие пряности сперва появляются в трактатах по диететике в основном как целебные средства: так, в VI в. Анфим в своем послании «Наставления о пище» предписывает употребление имбиря, неизвестного Апицию. Из медицинской сферы специи мало-помалу переходят в сферу гастрономическую – такой переход обнаруживается часто, так происходит со многими продуктами. Когда в XI в. походы и завоевания крестоносцев делают контакты с Востоком более тесными, приток специй становится еще обильнее и находит благоприятную почву для распространения в Европе, которая уже начинает жаждать новых ароматов и вкусов. Особенно повезло венецианским купцам, которые долго заправляли этой сферой торговли.
Кулинарные книги XIII–XIV вв. представляют собой первую письменную кодификацию как этой, так и других гастрономических программ. Так чем же все-таки вызвано пристрастие к пряностям?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует вначале, так сказать, расчистить поле, опровергнув ложное представление, которому повсеместно верят, хотя ученые с фактами в руках доказали его полную несостоятельность. Имеется в виду представление о том, что широкое употребление специй (или злоупотребление, согласно этим поспешным и кичливым суждениям) было вызвано необходимостью скрыть, замаскировать, «закамуфлировать» специфический привкус продуктов (в особенности мяса, с которым преимущественно и ассоциируются пряности), слишком часто плохо сохранившихся, если не вконец испорченных. До сих пор еще считается, будто специи служили для хранения мяса – но и то и другое представление ни на чем не основаны. Во-первых, богатые люди (а речь идет о них и только о них, коль скоро дело касается таких экзотических и дорогостоящих продуктов, как пряности) потребляли свежайшее мясо, по возможности дичь, убитую в тот же день (вспомним, как Карлу Великому ежедневно готовили жаркое из дичи на вертеле), или мясо, купленное на рынке, но также очень свежее, поскольку тогда скот забивали ежедневно, по требованию клиентов: животных пригоняли в город живыми. То же самое касалось рыбы – ее либо ловили в реках, либо покупали на рынке; некоторые разновидности, например угри или миноги (они пользовались наибольшим спросом), доставлялись живыми от места, где их вылавливали, к месту продажи. К тому же в поваренных книгах ясно сказано, что специи следует добавлять после варки, «как можно позже», читаем мы в «Ménager de Paris»[20]
[Закрыть] XIV в. Не выдерживает критики и утверждение о том, что с помощью специй продукты «консервировали»: в ходу были другие способы продлить век мясу и рыбе. Этому служили техники соления (прежде всего), сушки, копчения. И специи тут были ни при чем, хотя бы потому, что потребление солонины было типичным прежде всего для питания бедняков, социального слоя, который специй не видел в глаза. Не то чтобы богачи совсем ничего не знали о мясе, обработанном для длительного хранения, но в общем и целом мы должны признать, что социальный слой потребителей специй в основном совпадает со слоем потребителей свежего мяса лучшего качества.
Другое объяснение снова уводит нас к диететическим представлениям того времени: все врачи признавали, что «теплота» специй благоприятствует перевариванию пищи, ее «варке» в желудке. Недаром их стали употреблять не только как приправу к еде, но и в форме конфет в конце трапезы, за столом или в собственной комнате, перед сном. Такие «комнатные пряности» должны были обязательно находиться рядом с постелью короля: в XIV в. в «Предписаниях» («Ordinacions») Педро III Арагонского они перечисляются среди немногих действительно необходимых вещей (вода и вино для питья, свечи и факелы для света). Мы хорошо знаем, сколь многим обязаны разные гастрономические нововведения, начиная с тех же самых конфет, фармацевтической науке и практике; знаем также, что соображения здоровья играли важнейшую роль в выборе пищи. Однако верно и другое: как в прошлом, так и сегодня те, кто стремится к новизне (потреблению новых продуктов, экспериментам с новыми вкусами), любят тешить себя научными обоснованиями, отыскивать рациональную мотивацию, которая могла бы оправдать их безумные прихоти.
«Пряное безумие» – определение Броделя попадает в точку. «Попробуйте-ка, – пишет Дж. Ребора, – переварить причитающуюся вам часть бульона или соуса „на XII персон“, в котором сварены [согласно рецепту из одной итальянской поваренной книги XIII в.] 26 граммов гвоздики, 3 мускатных ореха, перец, имбирь, корица и шафран; унции гвоздики хватит, чтобы приготовить сильное обезболивающее, а мускатный орех в чрезмерных количествах вызывает отравление». Трудно понять такие излишества, руководствуясь разумными соображениями, – их диктуют прихоти и фантазии. А еще необходимость выставлять роскошь напоказ: цена пряностей, недоступная для большинства, уже достаточная причина для того, чтобы они стали объектом вожделения. Почему мы хотим икры или копченой семги? Недаром в кулинарных книгах, адресованных городской буржуазии (например, в книгах, выпущенных в Тоскане в XIII–XIV вв.), предписывается еще более обильное употребление специй, чем в кулинарных книгах, бытующих в придворно-аристократической среде (при дворе Анжуйской династии в Неаполе или, еще раньше, во Франции). Буржуа более, чем вельможа, испытывает необходимость в том, чтобы подчеркнуть свое богатство, показать всем, как высоко он поднялся по социальной лестнице. Кроме того, если бы речь не шла прежде всего о роскоши, был бы не вполне понятен смысл моральных обличений, которые то и дело звучат в XII и XIII вв.; вспомним инвективы папы Иннокентия. Употреблением пряностей в вине (pigmentorum respersa pulveribus) укорял клюнийских монахов Бернард Клервоский; Петр Достопочтенный в своих «Статутах» вовсе запретил его. Это не помешало использовать специи в фармакологии и медицине: в аптечном шкафу больницы в Клюни – предписывал «Устав» Ульриха – всегда должны присутствовать перец, корица, имбирь и другие «полезные корни». Так что нельзя недооценивать силы тогдашних медико-диететических убеждений; но не только в этом, даже не преимущественно в этом, кроются причины «бума» пряностей в европейской гастрономии XIII в. Потом привычка к пряностям глубоко укоренится в «структурах вкуса» (как их любит называть Ж.-Л. Фландрен). Обильно приправленная специями еда станет казаться вкусной. У каждого обнаружатся собственные предпочтения: европейские поваренные книги (после Италии и Франции они появляются в Каталонии, Англии, Германии) единодушны в своем пристрастии к пряностям, однако значительно расходятся в выборе той или иной приправы. А во многих случаях рецепт ограничивается общим указанием на то, что следует добавить «добрых специй» в уже готовое блюдо: не то чтобы автор кулинарной книги пренебрегал деталями, он просто предоставлял повару свободу поступать как ему вздумается, даже использовать смесь пряностей, что, кажется, было в порядке вещей. Вот пример из итальянской поваренной книги: «Возьми унцию перца, унцию корицы и унцию имбиря, полчетверти гвоздики и четверть шафрана». Такая смесь подойдет «ко всякому блюду».
Образный ряд, вызываемый пряностями, этим не ограничивается. Ими хвастаются, они являются знаком социальной выделенности – но они же олицетворяют ценности грез и фантазий, те самые ценности, какие проецируются на Восток, таинственную и далекую землю, «онирический горизонт» (Ж. Ле Гофф), к которому жители Запада обращают самые разные устремления, где прозревают утопии. Согласно тогдашним картографическим представлениям, Восток граничил с земным Раем, и люди воображали, будто такое соседство накладывает отпечаток на всю часть света: там простираются миры изобилия и счастья, а главное – вечной жизни. Старцы, живущие многие сотни лет, вечнозеленые деревья и возрождающаяся из пепла птица феникс населяют эти земли; там же рождаются специи. Мало того – они являются прямо из Парадиза: Жуанвиль описывает, как нильские рыбаки вытаскивают сети, «полные добра, которое та земля производит, а именно имбиря, ревеня, сандалового дерева и корицы, и говорят, будто все это приходит прямо из земного Рая»; ветер стряхивает драгоценные вещества в реку с деревьев Эдема. «Говорят» – невозможно узнать сейчас, до какой степени наш автор и его читатели верили в легенду. «Так или иначе, но для современников Тэйевана пряности, несомненно, обладали вкусом – и ароматом – вечности» (Б. Лорие).
Мы уже указали на две социальные сферы (буржуазия/знать, город/двор), в которых на рубеже XIII в. появляются кулинарные книги. В обоих случаях ясно и недвусмысленно указывается, для кого они предназначены: «подай сеньору», «поднеси сеньору», читаем мы в придворных рецептариях, например, Анжуйской династии; тосканские книги, наоборот, предполагают небольшое общество «богатых» сотрапезников (такой эпитет обычно не прилагался к родовитой знати): «XX богатых и благородных господ», «XII богатых весельчаков» и так далее. И все же не они являются прямыми адресатами подобных произведений. Сборники рецептов, очевидно, обращены к профессионалам: поварам на службе у сеньора или «богача» либо содержателям таверн. К ним обращены рекомендации и советы: пирог с угрями «немного остуди, иначе богатые обожгут рты»; равиоли «делай в очень тонком тесте, иначе богатым не понравится». Им советуют не переварить нарезанную кусками миногу, «чтобы куски не развалились», и не слишком сильно ее солить, так как она от природы соленая. Им предоставляется право по своей воле разнообразить вкусы и ингредиенты блюд, в зависимости от того, что предлагает рынок и что требуется в данную минуту. «Относительно вышесказанного, – читаем в одной итальянской книге XIV в., – умелый повар может решать по своему усмотрению, что-то изменять в блюдах или окрашивать их как ему вздумается». А вот немецкая поваренная книга: «По этому рецепту можно приготовить и другие продукты». Даже отсутствие указания на количество ингредиентов, характерное для многих европейских сборников рецептов, по-видимому, связано с тем, что они адресованы профессионалам: повара знают, что приготовление пищи – искусство сугубо творческое и экспериментальное и что установленные «дозы» нужны прежде всего дилетантам и начинающим. И не случайно, что те немногие справочники, в которых такие указания имеются, принадлежат – по крайней мере, в Италии – к «буржуазному» разделу подобной литературы. Может быть, причина в том, что «богатые весельчаки» пристально следили за биржей и предпочитали учитывать расходы. А может быть, в городе кулинарные книги находили более разнообразный и потенциально более широкий круг читателей, выходивший за рамки чисто профессионального, в который входили – читаем в новелле Джованни Серкамби – «такие мастера поваренного искусства, какие с помощью книг и собственного умения изобретают столь лакомые блюда, что их заведения дают большой доход и процветают». К ним следует прибавить еще и любопытствующих, и любящих полакомиться, как священник Меоччо, герой новеллы Джентиле Сермини, который прятал под требником свою любимую кулинарную книгу: «Там полно было рецептов разных поваров, объяснявших, как приготовить то или иное лакомое блюдо, как нужно его варить, и с какими приправами, и в какое время года; и речь в той книге шла о еде, ни о чем другом».
Разумеется, то была кухня не на каждый день, а главное, кухня не для всех: качество ингредиентов (начиная с пряностей) и сложность приготовления отсылают нас, без всякого сомнения, к элитарной гастрономии. Но среди элиты описанная кухня становилась реальностью. «В этот день, – рассказывает Салимбене Пармский о визите короля Людовика IX в монастырь миноритов в Сансе, – мы сначала ели черешни и самый белый хлеб. Потом мы ели молодые бобы, сваренные в молоке, рыбу, раков, паштет из угрей, молочную рисовую кашу с миндалем и корицей, жареных угрей под великолепным соусом, и пироги, и творог, и фрукты по сезону, поданные как подобает и в большом изобилии». Это – строго постный обед, не слишком роскошный; но блюда более или менее такие же, какие мы находим в сборниках рецептов, начиная с «белого яства», «бланманже», блю́да, возможно, арабского происхождения, в состав которого входят только ингредиенты белого цвета (рис, миндальное молоко и т. д.). Европейские поваренные книги предлагают многочисленнейшие его варианты, как скоромные (с куриной грудкой), так и постные (с рыбой или, как в данном случае, только с растительными ингредиентами). Несмотря на то, что каждый раз предлагаются разные ингредиенты (проанализировав 37 рецептов «бланманже», содержащихся в английских, французских, итальянских и каталонских поваренных книгах, Ж.-Л. Фландрен не нашел ни одного повторяющегося), можно все-таки сказать, что в этом случае, как и во многих других, речь идет об «интернациональном» блюде, входящем в то гастрономическое койне, какое европейская культура, похоже, выработала между XIII и XV вв. И то и другое представляется бесспорным: общие черты, повторяющиеся продукты и приправы, обмен между различными территориями и вклад каждого в общеевропейскую кухню, с одной стороны; с другой – местные особенности, региональные или национальные, которые наводят на мысль о ранней дифференциации кухонь разных стран: «разница во вкусах и способах приготовления – обильные свидетельства которой появляются с начала XVI в. в трактатах по диететике, в работах, посвященных еде, и в путевых заметках – возникла, не дожидаясь Возрождения и Реформации» (Фландрен). Сами современники это осознавали, как то показывают названия многих блюд (возможно, случайные или фантастические, но все же знаменательные): «бульон по-английски», «бульон по-немецки», «бланманже по-каталонски»…