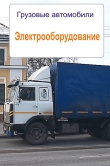Текст книги "Голод и изобилие. История питания в Европе"
Автор книги: Массимо Монтанари
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
ВЕК ГОЛОДА
История повторяется?
Кажется, что в XVIII в. история питания в Европе движется по накатанной колее: демографический рост, недостаток продуктов, развитие сельского хозяйства. Нечто сходное мы уже наблюдали и в XI–XII, и в XVI вв. Только на этот раз явление приобретает гигантские масштабы. Население Европы, достигшее к середине XIV в. 90 миллионов человек, около 1700 г. (после тяжелого кризиса и последующего медленного восстановления) уже насчитывает 125 миллионов и продолжает быстро прирастать: 145 миллионов в середине XVIII в., 195 миллионов в конце. Для системы производства это тяжелое испытание, и голод регулярно, раз за разом ударяет по населению. Некоторые голодовки (печально известен неурожай 1709–1710 гг.) охватывают всю Европу – Испанию и Италию, Францию и Англию, Германию и Швецию, а также восточные страны. Другие проявляются на более ограниченных территориях: голод 1739–1741 гг. поражает главным образом Францию и Германию; голод 1741–1743 гг. – Англию; голод 1764–1767 гг. был особенно тяжелым в средиземноморских странах (Испания, Италия); голод 1771–1774-х– в северных странах. Что же до чисто локальных недородов, то, наверное, следует признать, что экономика, уже в большой степени основанная на обмене, может противостоять им более действенно, чем несколько веков тому назад; но как при этом учесть ежедневные трудности, хроническую нехватку зерновых (уже давно ставших основным, если не единственным источником питания бедняков) – все, что оказывает столь сильное влияние на образ жизни отдельных людей? В целом «тяжелые» годы в XVIII в. многочисленны, как никогда (за исключением, может быть, XI в.). Это не значит, что люди умирают от голода: будь это так, демографический взлет оказался бы совершенно необъяснимым. Нет, перед нами – широко распространившаяся нищета, недоедание постоянное, так сказать, физиологически и культурно «ассимилированное», приравненное к нормальному жизненному состоянию.
Вначале повысившийся спрос на продукты питания вызвал самую простую, традиционную реакцию: расширение посевных площадей. Во Франции в десятилетия, предшествовавшие революции, площадь возделываемых земель за тридцать лет возросла с 19 до 24 миллионов гектаров. В Англии во второй половине века были огорожены и возделаны сотни тысяч гектаров лугов и лесов. В Ирландии, Германии, Италии осушали болота и топи. Одновременно внедрялись новые способы производства: страсть к науке, характерная для той эпохи и проявлявшаяся, в частности, в агрономических экспериментах, впервые совпала с предпринимательскими интересами землевладельцев. Справедливо говорят о подлинной аграрной революции: с технической точки зрения это отказ от практики оставлять поля под паром и включение в севооборот кормовых бобовых культур, которые теперь чередуются с зерновыми. Это позволило, с одной стороны, включить животноводство в аграрную систему, преодолев традиционный разрыв между пастушеством и земледелием; с другой – существенно повысить урожайность земель, которые стали более плодородными как вследствие выращивания бобовых (эти культуры способствуют накоплению в почве азота), так и благодаря увеличению количества навоза. Эти и другие преобразования (коснувшиеся также и общества: внедрение новых технологий часто сопровождалось огораживанием земель и отменой общинных прав там, где они еще сохранились) ознаменовали собой начало капиталистического развития в сельском хозяйстве, что в некоторых странах Европы – особенно в Англии, а чуть позже во Франции – было первым шагом на пути к утверждению индустриальной экономики.
Наряду с расширением площади обрабатываемых земель и совершенствованием технологий наметилось широкое внедрение культур особенно выносливых, устойчивых и дающих большие урожаи: тех самых, которые впервые робко, лишь в некоторых местах, распространялись в XV–XVI вв., а теперь были «открыты» заново как простое, не требующее затрат решение насущных продовольственных задач. Культура риса, пришедшая в XVII в. в некоторый упадок, ибо раздались голоса, возражавшие против затопления полей, ведущего к разрушению исконного ландшафта, в XVIII в. переживает подъем, представляя собой альтернативу традиционным зерновым: в некоторых зонах рис появляется впервые, в других его, так сказать, внедряют повторно; в любом случае он приобретает характер «бедняцкой» еды, предназначенной для питания широких масс; куда подевались прежний экзотический образ и престиж! Аналогичную социальную привязку получает и гречиха, тоже «открытая заново» в XVIII в., а в некоторых местностях появившаяся впервые. Но прежде всего на первый план выходят кукуруза и картофель, они завоевывают все новые и новые пространства, побеждая многих старинных соперников: в XVIII–XIX вв. традиционное разнообразие второстепенных злаков, которые целое тысячелетие были основой народного питания, постепенно сокращается, уступая место новым главным героям. Этот феномен объясняется очень просто, если иметь в виду лучшую приспособляемость (то есть устойчивость к неблагоприятным погодным условиям) и поразительно высокую урожайность новых культур: для кукурузы достаточно привести в пример Венгрию, где она в XVIII в. давала урожай сам-восемьдесят, в то время как рожь не достигала и уровня в сам-шесть, а урожайность пшеницы была еще ниже. Такие же «чудеса» творились и с картофелем: на равных площадях он обеспечивал питание в два, в три и даже, как утверждал Артур Янг, в четыре раза большему количеству людей, чем традиционные зерновые культуры. И все же более двух веков и кукуруза, и картофель оставались маргинальными в европейской системе производства продовольствия; только теперь проблема голода достигала такого драматизма, что настоятельно потребовала новых решений. С большим накалом проходят культурные и научные дебаты. Как и в XVI в., один за другим появляются трактаты о питании во время голодовок: «Алимургия, или Способ сделать менее тяжелыми голодные годы ради облегчения участи бедняков» – так называется книга, одна из многих, которую опубликовал во Флоренции в 1762 г. Джованни Тарджони Тодзетти. Иные авторы даже учат печь хлеб из желудей: этот сложный процесс описывает Микеле Роза в трактате «О желуде, дубе и других материях, полезных для пропитания и возделывания» (1801). Научные академии проводят исследования и эксперименты, устанавливают премии для тех, кто смог бы «изобрести» новые продукты, дабы утолить голод населения (победителем подобного конкурса, объявленного Академией Безансона, стал Огюстен Пармантье, автор трактата о разведении картофеля).
Итак, в основе переворота, произошедшего в европейских структурах производства продовольствия в XVIII и в первых десятилетиях XIX в., лежал выбор в пользу количества. Конечно, это можно назвать переворотом лишь с оговорками, ведь уже на протяжении веков выбор в пользу зерновых культур был именно выбором народных масс, выбором необходимым и в какой-то степени вынужденным, учитывая рост населения и прежде всего социально неравномерное распределение мясных ресурсов. Успех в XVIII в. кукурузы и картофеля (кое-где риса, где-то, как мы увидим, были и другие варианты) – логическое и, согласно данной логике, неизбежное завершение пути. Все происходит под знаком срочности и чрезвычайности: первые упоминания о «конверсии» продовольственной системы повсеместно связаны с неурожайными, голодными годами. Это – постоянно повторяющийся факт, придающий сущностное, смысловое единство многочисленным и многообразным данным, относящимся к разным годам и различающимся в деталях. Можем ли мы из этого сделать вывод, что «американские» продукты изменили образ питания европейцев? Я лично не стал бы безоговорочно это утверждать, во-первых, потому, что только внутренняя эволюция – лучше сказать, кризис – европейской продовольственной системы изменила первоначальное недоверие к этим продуктам или даже их неприятие и привела к тому, что они в конце концов были признаны. Их успех, таким образом, стал следствием, а не причиной означенного перелома. С другой стороны, их признание стало возможным лишь в ходе процесса культурной адаптации, который изменил, иногда глубочайшим образом, способ применения продукта, связав его с чисто местными традициями. Европейские крестьяне интерпретировали кукурузу, согласуясь с собственной культурой, и приспособили ее к типу питания (каше), в корне отличающемуся от того, какой выработали американские аборигены. Да и картофель был воспринят с перспективой, которая впоследствии оказалась несостоятельной, будто бы его можно использовать согласно канонам нашей культуры питания: в самом деле, эксперты полагали, что из картофеля можно печь хлеб, и даже пытались этому обучать. Одним словом, «вновь прибывшие» вовсе не расшатали европейскую систему питания: напротив, они были призваны – с большим запозданием, с тысячей предосторожностей и с соответствующим камуфляжем – восстановить ее.
Сомнительный успех кукурузы
Мы уже говорили о раннем внедрении кукурузы в сельскую местность Европы, которое произошло в десятилетия, непосредственно последовавшие за ее «открытием» на Американском континенте; говорили также и о том, что оно выражалось – по инициативе крестьян, без влияния каких-либо внешних факторов – в чисто «огородном» формате, долгое время не затрагивая полевые культуры. Подчеркивали мы также и тот факт, что для крестьянина оказывалось весьма удобным такое положение вещей, исключавшее кукурузу из числа культур, доля урожая которых причиталась землевладельцу: огород издревле был на усадьбе «свободной зоной», не облагался арендной платой, выделялся крестьянской семье и находился в полном ее ведении. По этой и прежде всего по этой причине, а не только из вполне понятной осторожности, мешающей до конца воспринять что бы то ни было новое, первые свои десятилетия в Европе кукуруза провела, будучи замкнута и, так сказать, сокрыта в крестьянских огородах (а также в ботанических садах). Но «новый вид пищи, – писал В. Кула, – означает новое производство, а новое производство означает новые экономические отношения, то есть социальные конфликты вокруг отношений, которые существовали раньше». Это и произошло в сельской местности Центральной и Южной Европы (там, где крестьяне были заинтересованы в новой культуре) на рубеже XVII–XVIII вв.
После первых проб, почти никем не замеченных, возделывание кукурузы стало распространяться: кое-где (например, в северо-восточной Италии) уже в конце XVI в. оно представляло собой значимый экономический фактор. В разное время и в различной мере, в зависимости от местности, землевладельцы оказались заинтересованы в том, чтобы превратить кукурузу в полевую культуру, на полных правах включив ее в договоры по землепользованию и приравняв – в том, что касается арендной платы, – к традиционным зерновым. Тут энтузиазм крестьян несколько поостыл, в некоторых случаях они вообще прекратили ее возделывать. И началась тяжба, в которой роли переменились: землевладельцы поощряли возделывание кукурузы, а крестьяне отвергали ее. Первые уже полностью осознали свою выгоду: высочайшая урожайность кукурузы по сравнению с традиционными зерновыми культурами предоставляла возможность получать колоссальные прибыли и в качестве квоты, которую можно было забирать от этого нового продукта, и еще потому, что производимая в больших количествах дешевая пища обеспечивала жизнедеятельность крестьян, а следовательно, можно было изымать у них (более или менее насильственным путем) большую долю ценных продуктов. «Вилка» между пшеницей и второстепенными злаками, которые последовательно заменялись кукурузой, все более увеличивалась. Постепенно обозначились два раздельных, никак между собой не сообщающихся уровня потребления: сельское население (прямо, если речь шла о крестьянах, прикрепленных к земле; через рынок, если то были батраки или сезонные рабочие) подталкивалось, даже понуждалось к потреблению кукурузы, в то время как пшеница продавалась по высоким ценам. Этот механизм, закрепленный целым рядом новых пунктов, появившихся в договорах, и грабительской системой займов, которая основывалась на нищете и бесправии крестьян, позволил многим землевладельцам в XVIII в. значительно повысить доходность хозяйств. В этом смысле оскудение крестьянского рациона, который стал еще однообразней, чем прежде, было связано с развитием капитализма в деревне. Европейские крестьяне более или менее ясно осознавали пагубность – для условий их жизни – подобных преобразований, поэтому они и сопротивлялись внедрению кукурузы на их поля, что парадоксальным образом противоречило интересу, который они уже несколько столетий проявляли к новой культуре. Совершенно очевидно, что речь не идет о предубеждении против новизны как таковой: «Когда крестьяне, возделывавшие кукурузу, поднимали восстание, хоть в XVIII в., хоть позже, оно бывало направлено против господ, против землевладельцев, которые заставляли высаживать кукурузу на полях, а зерновые превращать в монокультуру» (Т. Стоянович).
К давлению со стороны землевладельцев прибавился голод – вот почему пик трансформации приходится на середину XVIII в., отмеченную, как мы уже видели, тяжелыми недородами. На Балканах именно после кризиса 1740–1741 гг. кукуруза появляется в полях рядом со старыми делянками проса и ячменя и мало-помалу поглощает их: «Лепешки и похлебки из ячменя и проса превращаются в лепешки и похлебки из кукурузы». Это – настоящая метаморфоза (Стоянович). Каша становится стержнем системы жизнеобеспечения для сельского населения.
В Италии этот период тоже стал решающим. «Не прошло и сорока лет, – пишет в 1778 г. по поводу кукурузы агроном из Римини Джованни Баттарра, – с тех пор, как в огородах окрестных крестьян виднелись одна-две метелки… Но по мере того, как увеличивались посадки, оказалось, что урожаи весьма обильны и мешки переполняются зерном», и тогда, продолжает наш автор, с крайней наглядностью обнажая общественно-экономический механизм, который мы только что описали, «хозяева угодий, ранее не придававшие важности тем малым урожаям, теперь захотели получить свою долю, и вот уж 25 или 30 лет, как данная статья дохода очень увеличилась в этих наших краях». А рядом с интересами хозяев – давление голода: «Ах, дети мои, если бы вы очутились в 1715-м, который старики еще помнят как тяжелый, голодный год, когда не было еще у нас этого зерна, то увидели бы, как люди умирают от голода»; но наконец «Богу угодно было научить нас сеять это зерно и здесь, и повсюду, так что если в какие годы и не родит пшеница, у нас все-таки есть еда в общем-то вкусная и питательная».
«Вкусная и питательная», говорит отец семейства, в уста которого Баттарра вкладывает свои поучения. Нужно добавить: при условии, если эту еду сочетать с чем-то еще. Ибо кукурузная каша сама по себе не насыщает: отсутствие никотиновой кислоты, витамина, необходимого для организма, приводит к тому, что опасно питаться только этой едой (минимального количества мяса или свежей зелени было бы достаточно, чтобы обеспечить ежедневную потребность в никотиновой кислоте). Иначе можно заболеть ужасной болезнью, пеллагрой, которая вначале изнуряет тело гнойными язвами, затем ведет к безумию и смерти. Впервые отмеченная в Испании (в провинции Астурия) около 1730 г., пеллагра чуть позже появляется во Франции и в Северной Италии; во второй половине столетия, одновременно с увеличением потребления кукурузы, она распространяется по деревням Южной Франции, по долине реки По в Италии, на Балканах; она останется тут надолго, вплоть до конца XIX, а в некоторых местах, например в Италии, и до XX в. То, что эта болезнь связана с пищей, сразу становится понятно всем; однако разгораются ожесточенные споры между теми, кто винит кукурузу либо испорченную муку (то есть в конечном счете тех, кто «выбрал» себе такую пищу), и теми, кто считает, что корень зла – режим питания сам по себе, его однообразие (а значит, состояние чрезвычайного хронического недоедания). Только в первые десятилетия XX в. этот вопрос был окончательно разрешен в последнем смысле, и мы не можем не задуматься о том, сколько сторонников первой точки зрения имели в виду собственную или чужую выгоду или по каким-то причинам не желали видеть тяжелых социальных последствий этого явления. Крестьяне, со своей стороны, прекрасно понимали, в чем дело: один итальянский врач жаловался в 1824 г. на то, что трудно оказывать помощь больным пеллагрой, поскольку многие из них «не идут к врачу, ибо полагают, что единственное лекарство – пить вино, есть мясо и пшеничный хлеб, чего большинство не может себе позволить».
Пеллагра двигалась следом за кукурузой, начиная с ее подъема в 30–40-х гг. XVIII в. и до окончательного закрепления на европейских полях после голода 1816–1817 гг. Эта болезнь на протяжении одного или двух веков была настоящим бичом в деревнях Центральной и Южной Европы, знаком и символом беспрецедентно скудного питания.
Картофель между агрономией и политикой
Картофель тоже распространяется как еда неурожайных лет: обращаться к нему заставляет голод, посадки его навязываются землевладельцами – запускается механизм, по большей части аналогичный тому, какой мы рассматривали в связи с кукурузой. Добавляется еще вот какое благоприятное обстоятельство: картофель растет под землей, а потому защищен от опустошений, производимых военными действиями, этими «рукотворными неурожаями», которые регулярно обрушиваются на сельское население; «картофель, – читаем в одном эльзасском документе, – никогда не страдает от бедствий войны». Более всего в Центральной и Северной Европе происходит массовое внедрение «белого трюфеля» как альтернативы традиционным зерновым культурам, картофель по своему распространению явно может поспорить с кукурузой. Эти две культуры охватывают весь континент, пересекаясь в зонах, которые и по культуре, и по климату являются промежуточными, как, например, Южная Франция или Северная Италия.
Уже в первой половине XVIII в. государственные власти всячески способствуют посадкам картофеля, а то и дело появляющиеся научные публикации не устают пропагандировать его высокие достоинства и питательные свойства. Такие меры принимал и Фридрих Вильгельм I Прусский (1713–1740), и его сын Фридрих Великий. Но продовольственные кризисы, связанные с Семилетней войной (1756–1763) и неурожаем 1770–1772 гг., более всего способствовали внедрению нового продукта в Германии. Говорят, Огюстен Пармантье, участвовавший в Семилетней войне, именно в прусском плену открыл для себя картофель, который впоследствии стал с огромным энтузиазмом пропагандировать во Франции (мы уже упоминали его исследование на эту тему, получившее в 1772 г. премию Безансонской академии). Тем временем картофель распространился в Эльзасе и Лотарингии, во Фландрии, в Англии; в Ирландии крестьяне особенно полюбили его, сделав основой своего рациона. Не только в Германии, но и повсеместно неурожай 1770–1772 гг. привел к качественному скачку в распространении новой культуры: в некоторых местностях (например, в Оверни) она появляется впервые; в тех областях, где картофель был уже известен, его производство интенсифицировалось, и он окончательно вошел в рацион питания, преодолев остававшееся кое-где сопротивление (например, в Лотарингии еще в 1760 г. отмечались выступления против картофеля и его неприятие, а в 1787 г. он уже описывается как «обычная и здоровая» пища крестьян). К концу века картофель укрепился в Швеции, Норвегии, Польше, России; австрийские солдаты пытались (по правде говоря, не без трудностей) внедрить его на Балканском полуострове: в 1802 г. вышел указ военного коменданта, согласно которому сербские и хорватские крестьяне, которые отказывались сажать картофель у себя на полях, получали сорок палочных ударов. Но голод действовал эффективнее любых указов: именно во время недородов картофель (как и кукуруза) распространяется быстрее всего. Например, в Ниверне его вклад в общий рацион питания можно назвать значимым только после кризиса 1812–1813 гг. Во Фриули (как и в большей части северо-восточной Италии) неурожай 1816–1817 гг. привел к «тому, чего не могли достигнуть страстные речи академиков» (Г. Панек).
И все же решающую роль сыграли производственные отношения. В связи с картофелем, как и в связи с кукурузой, запускается процесс социальной дифференциации потребления: картофель, еда, предназначенная «для насыщения» крестьянских масс или городского пролетариата, противопоставляется продуктам высокого качества, которые идут на продажу. Предсказывая в 1817 г. распространение новой культуры на землях вокруг Венеции, Пьетро Дзордзи подчеркивает, что интересы торговцев зерном ни в коем случае не пострадают, поскольку картофель посадят «в таком только количестве, чтобы можно было быстро обеспечить пропитание тем, кто и так не покупает хлеба», то есть только для внутреннего потребления; может быть, в ущерб кукурузе, но, так или иначе, «подобные действия, которые пойдут на пользу наиболее нуждающемуся классу, не нанесут никакого вреда состоятельным людям».
Сопротивление крестьян, которые понимали, что новые порядки приведут к еще большему оскудению их рациона питания, было вызвано также и тем, что навязываемый продукт был низкокачественным и малоаппетитным: плохо или вовсе не селекционированные клубни первых поколений при варке превращались в кислую, водянистую, порой даже токсичную массу. Кроме того, следует иметь в виду, что долгое время картофель предлагался крестьянам как продукт, из которого можно выпекать хлеб, – так уверял Пармантье в своем трактате, этому учили многие пособия и брошюры конца XVIII – начала XIX в. А когда люди убеждались на опыте, что хлеб из картошки никак не получается, несостоятельность этих сведений еще больше отвращала их от непонятного продукта. Чтобы убедить крестьян, прибегали к всевозможным средствам: в Италии даже добивались сотрудничества приходских священников; государственная власть видела в них, поскольку они «пользуются доверием поселян», «одно из самых действенных орудий, чтобы внедрить в сознание народа и распространить в его массе полезные истины и навыки, ведущие ко благу общества и государства». Так, в 1816 г. королевский уполномоченный в провинции Фриули направил всем приходским священникам циркуляр и инструкцию по поводу разведения картофеля, чтобы те объясняли их и распространяли среди верующих. Использовались и формы юридического принуждения – в договоры по землепользованию включались пункты, обязывавшие арендатора предназначать какую-то часть полей для посадок картофеля.
Опыт не замедлил продемонстрировать, сколько утонченных гастрономических изысков может получиться из картофеля: из книг рецептов начала XIX в. уже видно внимание «высокой» культуры к применению картофеля на кухне (это, наверное, было неизбежно, не зря же ученые потратили столько сил, воспевая его чудесные свойства). Таким образом, картофель довольно рано попал в социально гетерогенное, разнородное культурное пространство; этого не случилось с кукурузой, которая так и осталась пищей для бедняков. И все же мы не должны забывать, с каким настроением европейские крестьяне принимали (если принимали) этот «белый трюфель» два века тому назад. Корм для скота и, кроме того (может, лучше сказать поэтому), еда для крестьян. «Картофель, – объясняет Джованни Баттарра в своем „Практическом сельском хозяйстве“, – великолепная пища как для людей, так и для скотины».
«Бедные крестьяне в тех краях, – пишет в 1767 г. другой итальянский поборник картофеля, имея в виду сельскую местность Германии, – шесть месяцев в году питаются одним картофелем, а выглядят прекрасно – все крепкие и здоровущие». Может быть, и не такие уж «здоровущие», хотя рацион, основанный на картофеле, действительно не ведет к столь драматичным физиологическим расстройствам, как те, которые вызывает питание одной кукурузой. Тем не менее однообразие режима питания как таковое оказывается довольно рискованным. И не только потому, что лишь разнообразная пища позволяет организму правильно развиваться, но и потому, что сама надежность пропитания, возможность получать его каждый день зависит от того, насколько широк диапазон доступных пищевых ресурсов. Если монокультуры XVIII–XIX вв. и связанные с ними режимы питания, основанные на каком-то одном продукте, стали крайним выражением уже многовековой тенденции к «упрощению» народной диеты, то ирландская трагедия 1845–1846 гг. оказалась самым вопиющим ее результатом. Двух плохих урожаев картофеля было достаточно, чтобы уничтожить крестьянское сообщество, система жизнеобеспечения которого, к несчастью, основывалась на этом (только на этом) продукте. Высокая урожайность картофеля позволяла семьям арендаторов сокращать до минимума участки земли, необходимые для собственного пропитания, в то время как английские землевладельцы отправляли за море лучшие продукты (пшеницу, свинину, кур, сливочное масло). И вот хватило двух лет без картофеля, при политике преступного небрежения со стороны британского правительства, чтобы добрая треть населения (в некоторых районах даже больше) погибла от голода и инфекционных болезней или оказалась вынуждена эмигрировать. Остров обезлюдел (в 1841 г. там было 8 миллионов жителей, а через 60 лет не насчитывалось и 5 миллионов), и это послужило прекрасным предлогом, чтобы ликвидировать большую часть мелких хозяйств, превратив их в пастбищные латифундии, снабжающие мясом и шерстью английский рынок.
Перед лицом подобных бедствий звучит саркастически призыв итальянского крестьянина, выведенного на сцену Джованни Баттаррой: «Счастливы мы будем, если сможем посадить его [картофеля] побольше; тогда никому больше не придется страдать от голода».