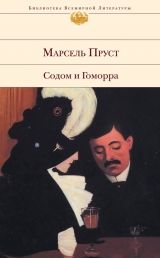
Текст книги "Содом и Гоморра"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
К несчастью, я тогда не знал – об этом мне стало известно лишь два года спустя, – что одним из клиентов шофера был де Шарлю и что Морель, которому было поручено расплачиваться с шофером и который часть денег прикарманивал (заставляя шофера при расплате утраивать и удесятерять количество километров), очень с ним подружился (делая, однако, из этого знакомства тайну) и пользовался его автомобилем для далеких поездок. Если бы мне тогда обо всем этом было известно, а также о том, что источник доверия, каким вскорости прониклись к шоферу Вердюрены, находился здесь, хотя они об этом и не подозревали, то, быть может, многих страданий, выпавших мне на следующий год в Париже, многих тяжелых переживаний, связанных с Альбертиной, удалось бы избежать, но тогда я ни о чем не догадывался. Поездки де Шарлю с Морелем в авто не представляли для меня особого интереса. И впрямь: что могло быть для меня интересного в их завтраках и ужинах на берегу моря, являвшихся по большей части целью их поездок, в том, что де Шарлю играл роль старого обнищавшего слуги, а Морель, в обязанности которого входило расплачиваться по счетам, – роль весьма щедрого господина? Я сейчас расскажу об одной такой трапезе – она даст представление о всех прочих. Это было в длинном зале ресторана в Сен-Марсе Одетом. «Нельзя ли это убрать?» – не желая вести переговоры с официантами, обратился де Шарлю к Морелю как к своему посреднику. Под словом «это» он подразумевал три увядшие розы, которыми услужливый метрдотель счел нужным украсить стол. «Можно… – смущенно ответил Морель. – Ведь вы не любите розы». – «Если уж мы об этом заговорили, я мог бы привести доказательства того, что я их люблю, потому что в этом краю их нет (Морелю, должно быть, эта мысль была неясна), но вообще я их не очень люблю. Я придаю большое значение именам; так вот, если роза довольно красивая, то оказывается, что ее назвали по имени баронессы Ротшильд или жены маршала Ниэля, и это расхолаживает. Вы любите названия? Вы подобрали красивые названия для ваших концертных номеров?» – «Одну вещь я назвал „Поэмой грусти“. – „Ужасно! – пронзительным, звонким, как пощечина, голосом вскричал де Шарлю. – Я же заказывал шампанского!“ – сказал он метрдотелю, который думал, что принес шампанского, а на самом деле поставил перед посетителями два бокала с пенистым вином. „Но, сударь…“ – „Унесите эту гадость – самое плохое шампанское лучше вашего вина. Это рвотное, именуемое „кюп“'ом, смесь уксуса и зельтерской, в которой плавают три гнилые земляники. Да, – повернувшись к Морелю, продолжал он, – по-видимому, вы понимаете, что значит название. И даже при интерпретации тех вещей, которые вы особенно хорошо исполняете, вы, по-видимому, не чувствуете их медиумичности“. – „Простите, вы сказали…“ – переспросил Морель; он решительно ничего не понял из того, что говорил барон, да и не старался понять – он боялся одного: пропустить мимо ушей какое-нибудь приятное для него предложение, например приглашение на завтрак. Де Шарлю не соблаговолил принять это „Простите, вы сказали…“ за вопрос, и, не получив ответа, Морель решил переменить разговор, сведя его на взаимоотношения полов. „Посмотрите на блондиночку, которая продает ваши нелюбимые цветы; или вот на эту – у нее наверняка есть подружка. Или на ту старуху – вон она ужинает в глубине зала“. – „Откуда тебе все известно?“ – спросил де Шарлю, восхищенный даром ясновидения, которым обладал Морель. „Я их мигом распознаю. Если б мы с вами потолкались в толпе, вы убедились бы, что я два раза подряд маху не даю“. Кто наблюдал бы сейчас Мореля, с его мужественной красотой и девичьим выражением лица, тот понял бы, почему женщин безотчетно влечет к нему и почему его влечет к ним. Ему хотелось вытеснить Жюпьена, он питал смутную надежду прибавить к своему „фиксу“ те деньги, которые, как ему представлялось, жилетник тянул с барона. „Ну а в голубеньких я еще лучше разбираюсь – со мной вы бы впросак не попали. В Бальбеке скоро будет ярмарка – мы бы там кое-что подыскали. И в Париже вы бы повеселились“. Но тут наследственная осторожность челядинца заставила его придать другой смысл этой фразе. Де Шарлю даже решил, что тот все еще имеет в виду девушек. „Понимаете, – продолжал Морель (ему хотелось распалить барона другим, в меньшей степени компрометирующим его самого способом, хотя на самом деле этот способ был гораздо более безнравственный), – моя мечта – встретить чистую девушку, влюбить ее в себя и лишить невинности“. Де Шарлю, не удержавшись, ласково ущипнул Мореля за ухо, а потом, наивно глядя на него, спросил: „А зачем тебе это? Если ты отнимешь у нее девичество, то тебе придется жениться на ней“. – „Жениться?“ – вскричал Морель: видимо, он решил, что барон на взводе, а может быть, просто не подумал о том, что человек, с которым он ведет беседу, в сущности, честнее, чем он предполагает. – Жениться? Черта с два! Я ей пообещаю, но, благополучно произведя эту операцийку, в тот же вечер от нее драла». Де Шарлю имел обыкновение одобрять чей-либо замысел, если он доставлял ему мимолетное чувственное наслаждение, но как только он переставал испытывать его, так сейчас же брал свои слова обратно. «И ты правда так бы поступил?» – спросил он, смеясь и теснее прижимаясь к Морелю. «За милую душу!» – видя, что барон не без удовольствия слушает, как он откровенничает с ним и высказывает заветное свое желание, подтвердил Морель. «Это опасно», – сказал де Шарлю. «Я соберусь заранее и, не оставив своего адреса, дам тягу». – «А как же я?» – спросил де Шарлю. «Само собой разумеется, я увезу вас с собой, – поспешил ответить Морель, хотя он меньше всего думал о бароне, который был отнюдь не главным предметом его забот. – Знаете, одна малютка очень бы мне для этого подошла: это простенькая портниха, ее мастерская – в доме его светлости». – «Дочь Жюпьена? – вскричал барон в ту самую минуту, когда в зал вошел бочар. – Ни за что! – счел нужным заявить он, быть может, потому, что его охладило присутствие третьего лица, а может быть, еще и потому, что на те черные мессы, где он находил удовольствие в осквернении всего самого святого, он все же не решался допускать людей, к которым относился с симпатией. – Жюпьен – человек хороший, а малютка – прелестная девушка, обижать их бессовестно». Поняв, что зашел слишком далеко, Морель умолк, но его отсутствующий взгляд все еще был устремлен к девушке, которую ему захотелось взять в тот день, когда он заказал ей сшить себе жилет и когда я назвал его бесценным, великим артистом. Работящая девушка трудилась без отдыха, а впоследствии я узнал, что, пока скрипач Морель жил в окрестностях Бальбека, она все время думала о том, какое у него красивое лицо, чертам которого в ее глазах придавало благородство то, что Морель явился вместе со мной, – вот почему она приняла его за «господина».
«Я никогда не слышал, как играет Шопен, – сказал де Шарлю, – а ведь мог бы, но я брал уроки у Стамати, и он не пустил меня к моей тетке Шиме послушать мастера ноктюрнов». – «Как это глупо!» – вскричал Морель. «Ничего подобного! – визгливым голосом живо ответил ему де Шарлю. – В этом сказался его ум. Он понял, что я еще „щенок“ и могу подпасть под влияние Шопена. Впрочем, особого значения это бы не имело – я ведь забросил музыку совсем молодым, как и другие искусства. – Да и потом, ведь это можно себе вообразить, – медленно, монотонно, произнося слова в нос, продолжал он, – вам непременно встретятся люди, которые слышали его и дадут о нем представление. Впрочем, Шопен был для меня только предлогом, чтобы вернуться к медиумичности, которой вы пренебрегаете».
Надо заметить, что тут де Шарлю сделал резкий переход от просторечия к вычурному языку, который был ему свойствен, и заговорил своим обычным презрительным тоном. Объяснялось это вот чем: мысль, что Морель без малейших угрызений совести «даст тягу» от только что перед этим обесчещенной им девушки, неожиданно доставила ему высшее наслаждение. После этого пыл в де Шарлю на некоторое время угас, и садист (подлинно медиумический), на несколько мгновений взявший в нем верх, удалился, передав слово настоящему де Шарлю с его утонченностью, с его чувством изящного, с eго добротой. «Вы недавно играли Пятнадцатый квартет в переложении для фортепьяно; переложение – это уже само по себе нелепо: в самом деле, трудно представить себе что-нибудь менее фортепьянное. Это предназначено для тех, у кого болят уши от слишком туго натянутых струн Великого Глухого. А ведь именно эта почти ранящая мистика у него божественна. Во всяком случае, вы его очень плохо сыграли, вы взяли не тот темп. Эту вещь надо играть так, как будто вы сами ее сочинили: юный Морель, сраженный внезапной глухотой и несуществующей гениальностью, замирает. Затем, охваченный священным безумием, начинает играть, сочиняет первые такты; усилия, которые он употребляет при вступлении, доводят его до изнеможения, он опускает голову, и на его лоб падает красивая прядь: это ему нужно для того, чтобы пленить госпожу Вердюрен, и вместе с тем для того, чтобы сделать передышку и восстановить основательное количество серого вещества, затраченного им при ясновидческой объективации; собравшись с силами, вновь охваченный сильнейшим порывом вдохновения, он устремляется к дивной, неисчерпаемой мелодии, которой берлинский виртуоз (по-видимому, де Шарлю так называл Мендельсона) столько раз подражал впоследствии. Лишь так, лишь трансцендентно и возвышающе, я заставлю играть вас в Париже». Подобного рода советов, которые расточал де Шарлю, Морель пугался сильнее, чем когда метрдотель уносил не понравившиеся барону розы и кюп, вызывая у Мореля волновавший его вопрос: как бы это было воспринято в его «классе»? Однако мысль Мореля на этом не задерживалась, так как де Шарлю приказывал ему: «Спросите метрдотеля, нет ли у них „Доброго христианина“. – „Я вас не понимаю. Какого „Доброго христианина“?“ – „Вы же знаете, что сейчас пора подать нам что-нибудь на десерт, а это название груш. Можете быть уверены, что у маркизы де Говожо подают эти груши, потому что их подавали у графини д'Эскарбанья, а маркиза де Говожо – это графиня д'Эскарбанья. Графине прислал их господин Тибодье, а она сказала: „Этот сорт груш называется „Добрый христианин“, – отменные груши“. – „А я и не знал“. – „Я вижу, что вы вообще ничего не знаете. Если вы даже Мольера не читали… Ну хорошо, раз вы не умеете распоряжаться, да и во всем остальном вы человек неумелый, попросите просто-напросто подать те груши, которых так много поблизости отсюда, то есть „Луиз-Бон д'Авранш“. – „Вот эти?“ – „Погодите, раз вы такой непонятливый, то я сам закажу другие, мои любимые… Метрдотель! У вас есть „Дояне де Комис“? Чарли! Вам бы следовало прочитать прелестные страницы, которые посвятила этой груше герцогиня Эмилия де Клермон-Тонер“. – „Нет, сударь, таких у нас нет“. – „А „Победа Жодуаня“?“ – „Нет, сударь“. – „А „Вирджини Дале“? «Де ла Пас-Кольнар“? Нет? Ну хорошо, раз у вас ничего нет, то мы уйдем. «Герцогиня Ангулемская“ еще не поспела – идемте же, Чарли!“
К несчастью для де Шарлю, то ли оттого, что ему изменял здравый смысл, а может быть, по причине невинности отношений, какие у него, вероятно, были с Морелем, но только в эту пору он беспрестанно осыпал скрипача необыкновенными милостями, а скрипач не мог понять, что это значит, и по своей неблагодарной и мелочной натуре, тоже со странностями, отвечал на них не иначе как сухостью или же все усиливавшейся грубостью, доводившими де Шарлю – прежде такого горделивого, а теперь пришибленного – до полного отчаяния. Далее мы увидим, что Морель, решивший, что он вырос на тысячу голов выше какого-то там де Шарлю, понимал в буквальном смысле и толковал вкривь и вкось, вплоть до мелочей, касавшиеся аристократии, кичливые поучения барона. Пока отметим только, что, в то время как Альбертина ждала меня у Иоанна Крестителя-на-Эзе, Морель утверждал, что выше знатности (и это было в сущности благородно, особенно со стороны человека, который наивысшее удовольствие видел в том, чтобы гоняться за девчонками, да так, чтобы все было «шито-крыто», при пособничестве шофера) его слава артиста и мнение о нем его товарищей по классу скрипки. Без сомнения, он вел себя нахально, так как чувствовал, что де Шарлю весь в его власти; он притворялся, что хочет порвать с бароном, издевался над ним, смотрел на него свысока, точно так же, как начал смотреть на меня, взяв предварительно слово никому не говорить, какие обязанности исполнял его отец в доме моего деда. Но при всем том его имя, имя Мореля, дипломированного музыканта, действительно представлялось ему выше просто имени. И когда де Шарлю, преисполненный платонической нежности, мечтал присвоить ему один из титулов своей семьи, Морель решительно отказывался.
Если Альбертина решала, что благоразумнее остаться подле Иоанна Крестителя-на-Эзе и писать, я садился в автомобиль и, успев побывать в Гурвиле, в Фетерне, в Сен-Марсе Одетом и даже в Крикто, заезжал за ней. Притворяясь, будто у меня на уме не только она, будто я оставляю ее ради каких-то развлечений, на самом деле я все время думал о ней. Чаще всего я не заезжал дальше широкой равнины над Гурвилем, чем-то напоминавшей мне поле, начинавшееся у Комбре и поднимавшееся к Мезеглизу, и даже на довольно большом расстоянии от Альбертины мне было отрадно думать, что хотя мой взгляд до нее не достигает, зато сильный и ласковый морской ветер, обгоняя его, должен беспрепятственно долететь до Кетхольма, всколыхнуть ветви деревьев, укрывающие своею листвой Иоанна Крестителя-на-Эзе, овеять лицо моей подружки и таким образом установить двойную связь между мной и ею в этом укромном уголке, расширившемся до бесконечности, хотя это расширение не представляло для нас ничего опасного, как нет ничего опасного для двух детей, которые, играя, заходят порой так далеко, что перестают слышать и видеть друг друга, но которые все-таки, несмотря на то что они разъединены, продолжают быть вместе. Я возвращался тропами, откуда видно было море и где прежде – еще до того, как оно начинало сквозить между ветвями, – я закрывал глаза, чтобы приготовиться к тому, что сейчас я увижу ропщущего прародителя земли, все еще, как и в те времена, когда не было на свете живых существ, не усмирившего своего беспричинного предвечного волнения. Теперь тропы были мне нужны только для того, чтобы добраться до Альбертины, – ведь я же знал, что они похожи одна на другую, знал, докуда они бегут прямо, а где свернут, вспоминал, что шел по ним думая о г-же де Стермарья и о том, что с таким же нетерпением шел на свидание с Альбертиной по улицам Парижа, где проезжала герцогиня Германтская; я видел полнейшее единообразие, видел в них символ развития моего характера. Все в этих тропах было естественно и в то же время небезразлично для меня; они напоминали мне о том, что моя судьба – гоняться за призраками, за существами, большинство которых живет только в моем воображении; в самом деле, я смолоду принадлежал к числу людей, которые все имеющее незыблемую ценность, по мнению всех прочих – неоспоримую: богатство, успех, блестящее положение, не ставят ни во что; им нужны призраки. Эти люди жертвуют ради них всем остальным, пускают в ход все, прибегают ко всяким средствам для того, чтобы встретиться с призраком. Но призрак скоро исчезает; тогда они начинают гоняться за другими, но в конце концов возвращаются к первому. Вот так и я не раз возвращался к Альбертине – к девушке, которую в первый мой приезд я встретил у моря. Правда, между Альбертиной, которую я полюбил впервые, и той, с которой не мог расстаться теперь, вклинивались другие женщины, в частности – герцогиня Германтская. Меня могут спросить: что же я так терзался из-за Жильберты, так страдал из-за герцогини Германтской, раз я дружил с ними, ставя между собой единственную цель – думать об Альбертине, а вовсе не о них? На это мог бы ответить перед смертью Сван, потому что он любил призраки. На бальбекских тропах было полно таких призраков, преследуемых, позабытых, иной раз вновь найденных ради одной-единственной встречи, ради того, чтобы прикоснуться к несуществующей жизни, которая тотчас же ускользала. Я думал о том, что все эти деревья, среди которых пролегали тропы, – яблоки, груши, тамариск, – переживут меня, и мне чудилось, будто они уговаривают меня скорей приниматься за дело, пока еще для меня не пробил час вечного упокоения.
Я выходил из экипажа в Кетхольме, сбегал по крутой горе, проходил через ручей по доске и подходил к Альбертине, а она писала, сидя против церкви, увенчанной колоколенками, колючей, красной, цветущей, как розовый куст. Гладким был только тимпан; приросшие к радовавшей взор поверхности камня ангелы со свечами в руках перед глазами юной четы XX века продолжали совершать обряд ХIII. Их-то Альбертина и пыталась написать на своем заготовленном холсте, в подражание Эльстиру, пытаясь передать широкими мазками тот благородный ритм, которым, по словам великого учителя, они отличались от всех виденных им. Потом Альбертина складывала вещи. Держась друг за друга, мы поднимались на гору, а церковка стояла все так же спокойно, как будто и не видела нас и слушала не утихавшее журчанье ручья. Автомобиль мчался обратно, но уже другой дорогой. Мы проезжали мимо Маркувиля Горделивого.
Его церковь, наполовину новую, наполовину реставрированную, заходящее солнце покрывало налетом, таким же прекрасным, как налет времени. Большие барельефы выглядывали словно из-под текучего, наполовину бесцветного, наполовину пламеневшего слоя. Пресвятая Дева, Елисавета, Иоаким, омываемые неосязаемой зыбью, выступали как бы из воды и из солнечного света. Множество современных изваяний, возникавших из горячей пыли, возвышалось на колоннах, касаясь края золотистой пелены заката. Высокий кипарис стоял около церкви как бы за некоей священной оградой. Мы выходили из экипажа и осматривали церковь. Для Альбертины шляпка из итальянской соломки и шелковый шарф составляли как бы продолжение ее тела (это ощущение значительно улучшало ее самочувствие), и, обходя церковь, она уже находилась в другом настроении, выражавшемся в бездумном внутреннем удовлетворении, в котором для меня была особая прелесть; шарф и шляпка представляли собой еще совсем недавнюю, случайную частицу моей подруги, однако мне уже дорогую, и я следил за их мельканием в вечернем воздухе вокруг кипариса. Альбертина хотя сама и не видела, но, должно быть, чувствовала, что элегантный шарф и элегантная шляпка ей к лицу, потому что, приноравливая движения головы к прическе, увенчанной головным убором, она улыбалась мне. «Неважно она реставрирована», – заметила Альбертина, показывая на церковь, и припоминала слова Эльстира о дивной, неповторимой красоте древнего камня, из которого она была сложена. Альбертина мгновенно угадывала, что обновлено. Она плохо разбиралась в музыке, зато удивительно верно судила об архитектуре. Как и Эльстиру, мне эта церковь не особенно нравилась; ее залитый солнечным светом фасад не порадовал моего взгляда, и осматривать ее я стал только в угоду Альбертине. И все-таки, по-моему, великий импрессионист вступал в противоречие с самим собой; правомерно ли судить о красоте созданного зодчим, не принимая во внимание то, как оно преображается при свете заходящего солнца? «Нет, она мне решительно не нравится, – сказала Альбертина, – мне нравится только ее название – название „Горделивец“. Кстати, надо бы спросить у Бришо, почему Сен-Марс называется Одетым. В следующий раз мы поедем туда, вы согласны?» Разговаривая со мной, она смотрела своими черными глазами из-под шляпки, надвинутой на лоб, как прежде из-под шапочки. На ветру развевался ее шарф. Я опять садился рядом с ней в автомобиль, и мне было отрадно мечтать о том, что завтра мы поедем к Сен-Марсу, две старинные бледно-розовые колокольни которого, с их ромбовидными, чуть-чуть загнутыми и словно трепещущими черепицами, в самое жаркое время дня, когда не думается ни о чем, кроме как о купании, напоминали допотопных остроголовых рыб с поросшей мхом чешуей кирпичного цвета, неподвижно высившихся в прозрачной голубизне воды. Чтобы сократить путь, мы, выехав из Маркувиля, сворачивали к развилке, где была ферма. Иногда Альбертина останавливала здесь автомобиль, но так как ей не хотелось вылезать, то она просила меня сходить за кальвадосом или за сидром, и, хотя нас уверяли, что он не пенится, все-таки мы им обливались. Мы жались друг к другу. Жители фермы с трудом могли рассмотреть Альбертину в глубине закрытого автомобиля; я отдавал бутылки; мы уезжали – словно для того, чтобы продолжать жить вдвоем, жить жизнью любовников, за каковых они могли нас принять, жизнью, в потоке которой эта остановка ради того, чтобы утолить жажду, была лишь незначащим мгновением; фермеры утвердились бы в своем предположении, если б увидели нас после того, как Альбертина выпивала целую бутылку сидра; тогда она и в самом деле как будто не могла примириться с тем, чтобы нас разделяло хоть какое-то расстояние, обычно ее не раздражавшее; ее ноги под полотняной юбкой прижимались к моим, она касалась моих щек своими горячими, внезапно бледневшими щеками – отчего еще ярче рдели красные пятна на скулах, – и были в ее щеках и пылкость и блеклость, как у девиц из пригорода. В такие мгновенья почти так же быстро, как менялось ее лицо, менялся и ее обычный голос, и тогда она говорила другим – хриплым, нахальным, почти развратным. Вечерело. Как приятно было ощущать близость Альбертины, близость ее шарфа и шляпки и думать о том, что вот так всегда льнут друг к другу влюбленные! Может быть, я и любил Альбертину, но не осмеливался высказать ей свою любовь, хотя если даже я испытывал это чувство, то до проверки его на опыте я не мог познать настоящую его ценность; мне казалось, что оно останется безответным и что оно находится где-то за пределами моего бытия. А вот ревность заставляла меня как можно реже оставлять Альбертину одну, хотя я и сознавал, что исцелиться от ревности я могу, только разлучившись с Альбертиной навеки. Иногда у меня бывали вспышки ревности в ее присутствии, но в таких случаях я раз навсегда старался устранить то, что пробуждало во мне ревность. Так именно и произошло, когда мы с ней поехали завтракать в Ривбель. Широкие стеклянные двери залы, имевшей вид коридора и предназначенной для чаепития, находились на одном уровне с позлащенными солнцем лужайками, и от этого казалось, будто огромный светлый ресторан является их продолжением. Румяный лакей с черными волосами, развевавшимися, как пламя на ветру, не носился с прежней быстротой по этому бесконечному пространству, потому что он был теперь не младшим, а старшим официантом, но, проворный от природы, он тем не менее мелькал всюду: то вдалеке, в общей зале, то совсем близко и даже на воздухе, подавая посетителям, завтракавшим в саду, и являя собою как бы ряд скульптур, изображающих юного бегущего Бога, причем одни из них находились в ярко освещенном помещении, за которым сразу начинались зеленые луговинки, а другие – в тени деревьев, при естественном свете, на свежем воздухе. Неожиданно он очутился около нас. Альбертина ответила на мой вопрос невпопад. Она смотрела на него во все глаза. В течение нескольких минут я убедился, что вы можете быть с любимой, чувствуя в то же время, что ее с вами нет. Глядя на нее и на официанта, можно было подумать, будто они ведут между собой таинственный разговор, безмолвный из-за моего присутствия, быть может, являющийся продолжением того, что завязался у них еще при первых встречах, о которых я ничего не знал, или же возникший от одного-единственного взгляда, брошенного им на нее, я же был сейчас третьим лишним, тем, от кого в таких случаях прячутся. Даже после того, как на лакея прикрикнул метрдотель и он удалился, Альбертине, продолжавшей завтракать, и ресторан и сад все еще казались ярко освещенной сценой, где беспрестанно менялись декорации и где то здесь, то там появлялся бегущий черноволосый Бог. Был момент, когда я спросил себя: не вскочит ли она из-за стола и, оставив меня одного, не побежит ли за ним? Но потом это тяжелое впечатление стерлось в моей памяти, оттого что я решил никогда больше не ездить в Ривбель и взял слово с Альбертины, уверявшей меня, что в Ривбеле она была впервые, больше в этот ресторан не заглядывать. А чтобы ей не пришло в голову, будто я лишаю ее развлечения, я добавил, что быстроногий лакей и не думал пялить на нее глаза. Я же еще несколько раз ездил в Ривбель, но всегда один и много пил, как это уже случалось со мной прежде. Допивая последний бокал, я рассматривал розетку, нарисованную на белой стене, и мне казалось, что она-то и есть единственный источник испытываемого мной наслаждения. Сейчас во всем мире для меня существовала только она; я бежал за ней, дотрагивался до нее, но по временам она ускользала от моего блуждавшего взгляда; я не думал о будущем – мне довольно было розетки: так мотылек кружится над бабочкой, с которой он вместе погибнет в тот миг, когда они вкусят наивысшее сладострастие. Пожалуй, тогда-то я и должен был бы порвать с женщиной, не успевшей причинить мне острую боль, – ведь я же не ждал от нее исцеления, секретом которого обладают те, что делают нам больно. Меня успокаивали уже самые наши прогулки, однако в данное время я смотрел на них только как на предвестие грядущего, и это грядущее манило меня, хотя я и отдавал себе отчет, что вряд ли оно будет чем-либо отличаться от прошедшего: просто я рад был ездить не по тем местам, где Альбертина бывала без меня – с теткой, с подругами. В этой радости не заключалось ничего самоценного – то была радость успокоения, но радость большая. Несколько дней спустя, как только в моей памяти всплыла ферма, где мы пили сидр, всплыл Сен-Марс Одетый, по которому мы и прошли-то всего несколько шагов, как только я вспомнил, что рядом со мной шла Альбертина в соломенной шляпке, ощущение близости этой девушки вдруг придало особый смысл силуэту обновленной церкви, не произведшей на меня сперва никакого впечатления, и вот этот миг, когда освещенный солнцем фасад церкви сам собой возник перед моим мысленным взором, был для меня широким болеутоляющим компрессом, положенным на сердце. Я завозил Альбертину в Парвиль, а вечером заезжал за ней, и мы ехали к морю – полежать на берегу в темноте. Конечно, я встречался с Альбертиной не каждый день и все-таки с уверенностью говорил себе: «Если она кому-нибудь расскажет о своем времяпрепровождении, о своей жизни у моря, то самое большое место займу в этом рассказе я». Мы проводили вместе по нескольку часов кряду, и это были такие упоительные часы, что, даже когда в Парвиле Альбертина выпрыгивала из автомобиля, который я присылал за ней через час, я чувствовал себя не одиноким, как будто она, выходя, оставляла в автомобиле цветы. Я мог обойтись без каждодневного общения с ней; я уходил от нее счастливым, я чувствовал, что успокоительное действие счастья может длиться несколько дней. Но тут вдруг я слышал, что Альбертина, простившись со мной, говорит тетке или подруге: «Значит, завтра, в половине девятого. Только не запаздывайте – в четверть девятого они будут готовы». Речь любимой женщины похожа на почву, под которой текут губительные воды; за ее словами все время ощущается пронизывающий холод незримой их пелены; эта пелена не выступает на поверхность вся целиком – она коварна: она просачивается местами. Когда я слышал эти слова Альбертины, мое спокойствие тотчас же нарушалось. С целью помешать таинственной встрече в половине девятого, о которой при мне говорилось намеками, я готов был упросить ее назначить мне свидание на завтрашнее утро. Первое время она, конечно, исполняла бы мое желание, хотя ей было бы жаль, что ее планы расстроились, но в конце концов она догадалась бы, что заставлять ее отказываться от своих планов вошло у меня в привычку; от меня стали бы скрывать все. Да и потом, по всей вероятности, эти увеселения, от которых я был отстранен, были не Бог весть что, и не приглашали меня, наверно, из боязни, что какая-нибудь гостья покажется мне вульгарной или скучной. К несчастью, мой образ жизни, столь тесно связанный с образом жизни Альбертины, оказывал влияние не только на меня: меня он успокаивал, а мою мать тревожил, и эта ее тревога, которую она от меня не скрывала, нарушала мой покой. Когда я как-то вернулся домой в хорошем настроении, решив в ближайшее время начать новую жизнь, – а что разрыв с прошлым зависит всецело от моей воли – в этом я был убежден, – моя мать, услышав, что я отдаю распоряжение шоферу съездить за Альбертиной, сказала: «Как много ты тратишь денег! (Франсуаза на своем простом, сочном языке выразилась бы сильнее: „Деньги на ветер“.) Не уподобляйся, – продолжала мама, – Шарлю де Севинье – о нем его родная мать отзывалась так: „Его рука – это горнило, в котором плавится серебро“. И потом, ты, по-моему, действительно слишком часто разъезжаешь с Альбертиной. Поверь мне, что это уж чересчур, ты ставишь ее в неловкое положение. Я была очень рада, что ты развлекаешься; я и теперь не запрещаю тебе встречаться с ней, но что вас всюду видят вместе – право же, это нехорошо». Наш с Альбертиной образ жизни, который не доставлял мне полноты наслаждений, во всяком случае – полноты наслаждений острых, – образ жизни, который я каждый день намеревался изменить, выбрав для этого такую минуту, когда я был спокоен, – этот образ жизни, как только я почувствовал в словах матери грозившую ему опасность, вдруг стал мне на какое-то время необходим. Я сказал маме, что ее слова отдалили решение, которого она от меня требовала, отдалили, пожалуй что, месяца на два, а что если б она ничего мне не говорила, я принял бы решение в конце этой недели. Мама, не ожидавшая, что ее советы так на меня подействуют, рассмеялась (чтобы не огорчать меня) и обещала больше со мной об этом не говорить, а то как бы я опять не изменил своего благого намерения. Но со дня смерти моей бабушки каждый раз, как мама начинала смеяться, смех ее вдруг обрывался и от сильной душевной боли переходил в рыдание, то ли выражавшее раскаяние в том, что мама на минуту забыла о своем горе, то ли обострявшее боль из-за неожиданного отвлечения от неотступной ее скорби. Как бы то ни было, я почувствовал, что к тоске по бабушке, поселившейся в ней, как навязчивая идея, присоединилось беспокойство за меня, потому что она опасалась последствий моей близости с Альбертиной – близости, которой она, однако, не решалась воспрепятствовать из-за того, что она встречала мое сопротивление. Но, по-видимому, я не убедил ее в том, что не обманываю самого себя. Она вспомнила, сколько лет ни бабушка, ни она не заговаривали со мной о работе, об ином, более здоровом образе жизни, который, как я уверял их, я не мог начать только из-за того, что их увещания меня волнуют, и который я так и не стал вести, несмотря на их покорное молчание.








