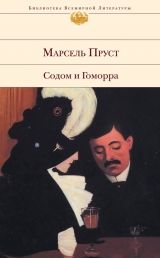
Текст книги "Содом и Гоморра"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 40 страниц)
Два дня спустя, в одну из уже нашумевших здесь сред, я сидел в том же самом дачном поезде, которым сегодня выехал из Бальбека на ужин в Ла Распельер, и мне не давала покоя мысль, как бы не пропустить Котара в Гренкур-Сен-Васт, где, – о чем сообщила мне, еще раз позвонив по телефону, г-жа Вердюрен, – нам надо было встретиться. Он должен был войти в мой поезд, а затем показать, где стоят экипажи, высыпавшиеся из Ла Распельер на станцию. Зная, что дачный поезд стоит в Гренкуре, следующей станции после Донсьера, одну минуту, я заблаговременно стал у окна – так я боялся, что не замечу Котара или что он не увидит меня. Волновался я зря. Я не принял в расчет, что кланчик отлил своих «завсегдатаев» в единую форму, и поэтому их, к тому же еще разодевшихся по случаю ужина, сразу можно было распознать в толпе ожидавших на перроне – так они выделялись своей самоуверенностью, утонченностью и непринужденностью, так они выделялись взглядами, которыми они пробегали, как по пустому пространству, где ничто не задерживает внимания, по сомкнутым рядам обыкновенных пассажиров, чтобы не пропустить какого-нибудь «завсегдатая», севшего в поезд на одной из ближайших станций, и которые уже сияли в чаянии, что за встречей последует светский разговор. Знак избранности, который привычка вместе ужинать начертала на входивших в кружок, был заметен не только когда они, подавляя численным превосходством, грудились среди стада прочих пассажиров, образуя на его фоне яркое пятно, среди тех, кого Бришо называл pecus' ом [19]19
Скотинкой (лат.) .
[Закрыть] и на чьих бесцветных лицах невозможно было прочесть ничего из того, что занимало Вердюренов, на чьих лицах не отражалась надежда хоть когда-нибудь поужинать в Ла Распельер. И то сказать: эти заурядные пассажиры проявили бы куда меньше интереса, чем я, если бы в их присутствии назвали – несмотря на то, что иные приобрели известность, – имена «верных», а между прочим, к моему удивлению, «верные» продолжали ужинать и в городе, хотя, впрочем, я слышал, что ужинали они в других местах еще до моего рождения – в такое далекое и в такое уже баснословное время, что у меня не возникало соблазна увеличить расстояние, отделявшее то время от моего. Контраст между продолжительностью их бытия, – и не только между продолжительностью, но и расцветом их сил, – с одной стороны, и исчезновением то того, то другого моего приятеля, с другой, пробуждал во мне такое же чувство, какое мы испытываем, когда в самом конце газеты находим то, чего мы меньше всего ожидали, – например, извещение о чьей-либо преждевременной кончине, которое кажется нам неожиданным потому, что о причинах, следствием коих она явилась, мы так ничего и не узнали. Это чувство подсказывает нам, что смерть настигает людей по-разному, что какая-то волна, выбившись вперед во время трагического прибоя, уносит жизнь, расположенную на том же уровне, что и другие, которые долго еще будут пощажены волнами, идущими ей вслед. Далее мы увидим, что многообразие смертей, невидимо движущихся вокруг нас, и есть причина той особого рода неожиданности, какую представляют собою для нас газетные некрологи. А еще я впоследствии убедился в том, что настоящий талант, с которым, однако, мирно уживается чудовищная пошлость разговорной речи, проявляется и получает признание лишь с течением времени; равно как и в том, что личности заурядные лишь в конце концов занимают высокое положение, которое в нашем детском представлении связывается с образами маститых старцев, но ведь мы не думаем о том, что по прошествии стольких-то лет их ученики в свою очередь превратятся в наставников и будут внушать другим уважение и страх, какие они когда-то испытывали сами. Имена «верных» не были известны pecus'y – pecus отличал их по внешнему виду. Когда случай, руководивший и теми и другими в течение дня, съючивал их всех в одном вагоне и «верным» оставалось только прихватить на следующей станции какого-нибудь одинокого спутника, этот вагон, который сразу можно было узнать по локтю скульптора Ского и который был украшен номером «Тан» в руках Котара, уже издали рисовался какой-то роскошной колесницей, останавливавшейся на той станции, где должен был присоединиться к остальным отбившийся от них товарищ. Единственным человеком, который мог не разглядеть из-за того, что он почти ничего не видел, этих опознавательных знаков, был Бришо. Но тогда другие «завсегдатаи» добровольно исполняли вместо слепого обязанности наблюдателей и, как только появлялись соломенная шляпа, зеленый зонтик и синие очки Бришо, его бережно и осторожно подводили к вагону для избранных. Таким образом, не было случая, чтобы кто-либо из «верных», если только невооруженному глазу не было видно, что он наклюкался или, если он избирал другой «вид транспорта», не встретился с другими в пути. Иногда происходило нечто противоположное: кто-нибудь из «верных» уезжал днем довольно далеко, следовательно, часть пути он должен был проехать один – до тех пор, пока к нему не присоединялся весь кружок; но и в одиночестве, являясь единственным представителем своей породы, он все-таки обращал на себя внимание. Будущее, к которому он устремлялся, в глазах пассажира, сидевшего напротив, делало на нем отметку, и пассажир говорил себе: «Это не простой смертный»; вокруг мягкой шляпы Котара или Ского он различал чуть заметный ореол и не особенно удивлялся, когда на следующей станции, если это была конечная остановка, толпа элегантных людей, с которыми почтительно здоровался довильский железнодорожный служащий, встречала «верного» у подножки, а затем подводила его к экипажу или, если это была остановка промежуточная, наводняла вагон. Так именно и поступило, – причем с необыкновенной быстротой, потому что некоторые запоздали и подоспели в тот момент, когда поезд должен был уже вот-вот отойти, – войско, которое ускоренным шагом подвел Котар к тому вагону, откуда я делал ему знаки. У Бришо, находившегося среди «верных», за последние годы верность еще усилилась, тогда как у других пыл охладел. Зрение у Бришо все ухудшалось – вот почему он и в Париже все менее усердно занимался по вечерам. Притом ему была не по душе новая Сорбонна, где господствовавшие в Германии принципы научной точности начинали вытеснять гуманизм. Теперь он только читал свой курс и участвовал в экзаменационных комиссиях, вот почему он теперь гораздо больше времени уделял светской жизни, то есть вечерам у Вердюренов или вечерам, на которые, трепеща от волнения, время от времени кто-нибудь из «верных» звал Вердюренов. Впрочем, надо заметить, что любви дважды чуть было не удалось то, что не удавалось науке, то есть оторвать Бришо от кланчика. Но г-жа Вердюрен, всегда «державшая ухо востро» и уже по привычке, которую она приобрела в интересах салона, в конце концов получавшая бескорыстное удовлетворение от таких драм и расправ, окончательно рассорила его с опасной особой благодаря своему уменью, как она выражалась, «везде навести порядок» и «каленым железом прижечь рану». Да особого труда это для нее и не составляло, поскольку одной их опасных особ была всего-навсего прачка Бришо, и г-жа Вердюрен, иногда заглядывавшая на шестой этаж к профессору, красневшему от гордости, когда она оказывала ему честь тем, что поднималась к нему на верхотуру, попросту выставляла мерзавку за дверь. «Что же это такое? – воскликнула, обращаясь к Бришо, Покровительница. – Такая женщина, как я, удостаивает вас своим посещением, а вы принимаете у себя какую-то тварь?» Бришо не забывал о добром деле, которое сделала г-жа Вердюрен, не давшая ему на старости лет опуститься, и все сильнее привязывался к ней, тогда как, в противоположность его приливу нежности к ней, а может быть, именно вследствие такого прилива, Покровительнице стал надоедать этот «верный» своей беспредельною уступчивостью и покорностью, в которой она была заранее уверена. Но Бришо дружба с Вердюренами придавала особый блеск, который отличал его от сорбоннских коллег. Их ослепляли его рассказы об ужинах, на которые они никогда не получат приглашения, статья о нем в журнале и его портрет на выставке, принадлежавшие известному писателю и известному художнику, чей талант признавали сотрудники и других кафедр филологического факультета, – без всякой надежды, однако, привлечь к себе их внимание, – и, наконец, элегантность одежды этого философа из светского общества, которую они на первых порах принимали за небрежность, пока их коллега терпеливо не объяснил им, что цилиндр во время визита полагается класть на пол и что когда едешь на загородный ужин, то, какое бы изысканное общество на этот ужин ни приглашалось, надевать следует не цилиндр, а мягкую шляпу, которая очень идет к смокингу. В первую секунду, когда «верные» гурьбой ворвались в вагон, я не мог словом перемолвиться с Котаром, задыхавшимся не столько оттого, что он бежал, чтобы не опоздать к поезду, сколько от восторга, что прибежал как раз вовремя. То была не просто радость человека после удачи – его душил хохот, как будто он только что смотрел уморительный фарс. «Вот уж повезло так повезло! – отдышавшись, проговорил он. – Еще бы немного!.. Дьявольщина! Это называется – в последнюю секунду!» – прибавил он и подмигнул мне, но не для того, чтобы получить подтверждение, что он правильно выразился, – самоуверенность била в нем сейчас через край, – а оттого, что он был в высшей степени доволен собой. Наконец он смог познакомить меня с другими членами кланчика. Меня неприятно удивило то обстоятельство, что почти все они были в смокингах, как называют этот костюм в Париже. У меня вылетело из головы, что Вердюрены уже давно сделали робкую попытку пойти на примирение с высшим обществом – попытку, которую приостановило дело Дрейфуса, но зато ускорила «новая музыка», и от которой они, однако, открещивались и продолжали бы открещиваться, пока она не возымела бы успеха, – так полководец только тогда называет свою цель, когда он ее достигает, и поступает он так для того, чтобы, если ему не посчастливится, про него не говорили бы, что он разбит. Высшее общество тоже готово было пойти Вердюренам навстречу. Считалось, что никто из высшего общества их не посещает, но что они об этом ни капельки не жалеют. Салон Вердюренов называли Храмом Музыки. Утверждали, что Вентейль именно там находит источник вдохновения и поддержку. Соната Вентейля была все еще совершенно не понята и почти никому не известна, но о нем самом говорили как о величайшем композиторе современности, и его имя было окружено ореолом славы. Среди молодых людей из Сен-Жерменского предместья, пришедших к убеждению, что они должны быть не менее образованны, чем буржуа, трое учились музыке, и вот они считали сонату Вентейля верхом совершенства. Придя домой, каждый их них рассказывал о ней своей интеллигентной матери, приобщавшей его к культуре. Матери с интересом следили за тем, как учатся их сыновья, и на концертах они с известной долей уважения смотрели на г-жу Вердюрен, сидевшую в первой ложе и уткнувшуюся в партитуру. Пока что тайное тяготение Вердюренов к высшему обществу выявилось двояким образом. Г-жа Вердюрен говорила о принцессе де Капрарола: «О, эта женщина обаятельная, умная! Кого я терпеть не могу, так это дураков, они меня до исступления доводят, я от них на стену лезу». Человека, мало-мальски проницательного, это могло бы навести на мысль, что принцесса де Капрарола, принадлежавшая к самому высшему кругу, была у г-жи Вердюрен с визитом. Принцесса произнесла эту фамилию у г-жи Сван, к которой приезжала после смерти ее мужа выразить соболезнование, – она спросила, знает ли г-жа Сван Вердюренов. «Как их фамилия?» – переспросила Одетта, и глаза у нее вдруг стали грустными. – «Вердюрен». – «Ах, вот вы о ком! – воскликнула она с горестным видом. – Я их не знаю, вернее, я их знаю, не будучи с ними знакома, когда-то я с ними встречалась у своих друзей, это было давно, они люди симпатичные». Когда принцесса де Капрарола уехала, Одетта пожалела, что не сказала истинную правду. Но нечаянная ложь явилась у нее не в результате обдуманных расчетов, а как следствие опасений и желаний. Одетта отрицала не то, что правильней было бы отрицать, а то, что ей хотелось, чтобы этого не было, хотя бы собеседник через час узнал, что так оно и было. Вскоре она опять почувствовала себя уверенно и, предвосхищая вопросы, – чтобы не показать вида, будто она их боится, – начала говорить: «Госпожа Вердюрен, ну как же, мне ли ее не знать!„, а в ее тоне звучало нарочитое самоунижение, словно у важной дамы, рассказывающей о том, как она ехала в трамвае. „Теперь только и разговоров что о Вердюренах“, – сказала маркиза де Сувре. „Да, по-моему, о них в самом деле много говорят. Так ведь время от времени бывает: в обществе вдруг появляются новые люди“, – с презрительной усмешкой герцогини подхватила Одетта, забывая о том, что она сама принадлежит к числу новейших. „Принцесса де Капрарола у них ужинала“, – продолжала маркиза де Сувре. «А, ну это меня не удивляет! – еще насмешливей улыбаясь, замечала Одетта. – Начинается с принцессы де Капрарола, а потом является кто-нибудь вроде графини Моле“, – заключила Одетта с таким видом, точно она глубоко презирает этих двух важных дам, имеющих обыкновение первыми втираться во вновь открывающиеся салоны. В ее тоне слышалось, что уж ее, Одетту, или маркизу де Сувре в такие злачные места не заманишь.
Кроме высокого мнения г-жи Вердюрен об уме принцессы де Капрарола, еще одним признаком того, что Вердюрены уже ясно представляли себе свое будущее, являлось их страстное желание (разумеется, невысказываемое), чтобы гости приезжали к ним теперь ужинать в смокингах; Вердюрену было бы теперь не стыдно, если бы его племянник, тот, что однажды «профершпилился» дотла, с ним поздоровался.
Вместе с теми, кто в Гренкуре сел в мой вагон, оказался Саньет, которого когда-то изгнал из дома Вердюренов его родственник Форшвиль, но который потом снова у них появился. Недостатки у Саньета, – наряду с большими достоинствами, – с точки зрения светских людей, в давнопрошедшие времена были приблизительно такие же, что и у Котара: застенчивость, желание нравиться при неумении достичь этой цели. Однако жизнь, – правда, не у Вердюренов, где в силу влияния, какое начинает оказывать на нас минувшее, как только мы попадаем в привычную для нас среду, Котар почти не менялся, – вынуждая Котара – во всяком случае у пациентов, в больнице, в Медицинской академии – надевать на себя личину сухости, чванливости, важности, особенно заметную в такие минуты, когда он щеголял каламбурами перед своими нетребовательными учениками, в конце концов вырыла целый ров между Котаром прежним и нынешним, а у Саньета, напротив, те же самые недостатки разрастались по мере того, как он пытался исправиться. Часто скучая, видя, что его не слушают, он, вместо того чтобы говорить медленнее, как поступил бы на его месте Котар, вместо того чтобы привлечь к себе внимание безапелляционностью тона, старался шуточками заслужить себе прощение за чрезмерную серьезность своих рассуждений, этого мало: он заставлял себя говорить короче, не размазывать, прибегал к аббревиатурам, только бы не тянуть, только бы показать, что ему самому предмет совершенно ясен, а достигал он этим лишь того, что окончательно запутывал слушателей, которым казалось, что он так никогда и не кончит. Его самоуверенность была совсем иного рода, чем самоуверенность Котара, пациенты которого цепенели от его взгляда, а потом возражали людям, восхищавшимся тем, как он бывает мил в обществе: «Когда он принимает вас у себя в кабинете, сажает вас лицом к свету, а сам садится спиной к окну и пронзает вас взглядом, то перед вами другой человек». Самоуверенность Саньета не производила должного впечатления; чувствовалось, что за ней кроется безмерная застенчивость, что эта его самоуверенность улетучится от малейшего пустяка. Друзья постоянно твердили Саньету, что он себя недооценивает, да он и сам видел, что люди, которых он с полным основанием считал гораздо ниже себя, без всяких усилий добивались того, в чем ему было отказано, и теперь он уже всегда из боязни, что серьезный вид помешает ему показать свой товар лицом, начинал рассказывать с улыбкой, давая понять, что это будет что-нибудь уморительное. Кое-когда, поверив в то, что он действительно собирается позабавить публику, слушатели в виде особой милости замолкали. Но все кончалось полным провалом Саньета. Лишь редкий гость из вежливости неприметно, почти украдкой ободрял Саньета поощряющей улыбкой, пряча ее от всех, боясь обратить на себя внимание, точно суя ему в руку записку. Но никто не рисковал на большее, не осмеливался открыто поддержать Саньета взрывом хохота. Досказав свою историю и оскандалившись, удрученный Саньет еще долго потом улыбался один, как бы выражая этой улыбкой то удовлетворение, которое другие почему-то не получили, но которое зато якобы доставил он самому себе. А скульптор Ский, которого так называли, во-первых, потому, что всем трудно было произносить его польскую фамилию, а во-вторых, потому, что он, с некоторых пор проникнув в то, что называется «обществом„, не любил, чтобы его смешивали с весьма почтенными, но скучноватыми и чрезвычайно многочисленными родственниками, в сорок пять лет и несмотря на безобразную внешность, отличался каким-то особым мальчишеством, продолжал оставаться мечтателем и фантазером вследствие того, что до десятилетнего возраста он считался прелестнейшим вундеркиндом, дамским любимчиком. Г-жа Вердюрен утверждала, что в нем больше от художника, чем в Эльстире. У них были черты сходства, но чисто внешнего. Тем не менее этого было достаточно, чтобы Эльстир, как-то раз встретив Ского, почувствовал к нему то глубокое отвращение, какое нам – в большей степени, чем люди, представляющие нашу полнейшую противоположность, – внушают те, что похожи на нас своими наихудшими сторонами, те, в ком выявляется все, что есть в нас дурного, в ком сохранились недостатки, от которых мы избавились и которые, к вящей нашей досаде, напоминают нам, за кого нас могли принимать до тех пор, пока мы не стали иными. А г-жа Вердюрен полагала, что Ский шире Эльстира, что нет такого искусства, к которому у него не было бы способностей; она была убеждена, что если бы не лень, он мог бы развить свои способности до того, что они превратились бы у него в талант. Даже на эту его лень Покровительница смотрела как на особый дар, ибо лень – это противоположность трудолюбию, между тем трудолюбие она считала жребием людей бездарных. Ский рисовал все, что угодно, на запонках, на дверях. Пел, как композитор, играл по памяти и придавал роялю звучание оркестра – не столько благодаря своей виртуозности, сколько фальшивыми басовыми нотами, означавшими бессилие пальцев указать на то, что здесь должен быть слышен корнет-а-пистон, звуку которого он, однако, подражал с помощью губ. Рассказывая о чем-либо, он делал вид, что подыскивает слова, – этим он хотел усилить производимое на слушателей впечатление, а перед тем, как взять аккорд, произносил, чтобы передать звучание трубной меди: „Трум!“; считалось, что Ский – ума палата, а на самом деле весь его умственный багаж состоял из двух-трех мыслишек. Он тяготился своей репутацией мечтателя; ему хотелось во что бы то ни стало доказать, что он человек практичный, положительный, – вот откуда было у него это показное пристрастие к мнимой пунктуальности, к мнимому здравомыслию, обострявшееся из-за беспамятности и всегдашней неосведомленности. Движения его головы, шеи, ног были бы изящны, если б ему и сейчас было девять лет, если б у него были белокурые локоны, широкий кружевной воротник и красные сапожки. Он, Котар и Бришо пришли на гренкурский вокзал заблаговременно, Бришо остался в зале ожидания, а Ский и Котар решили прогуляться. Когда Котар предложил повернуть обратно, Ский возразил: „Спешить некуда. Сегодня в это время проходит не дачный поезд, а дальнего следования“. В восторге от того впечатления, какое он произвел на Котара своей осведомленностью даже в мелочах, Ский заговорил о себе: „Да, оттого, что Ский любит искусство, оттого что он лепит, все воображают, будто он не от мира сего. А на самом деле никто лучше меня не знает расписания этой железной дороги“. Все-таки они повернули обратно, и тут Котар, завидев дымок маленького поезда, заорал истошным голосом: „Нам надо дуть во все лопатки!“ Они чуть-чуть не опоздали, оттого что в голове у Ского перепутались дни, по каким ходили здесь дачные поезда и поезда дальнего следования. „А разве княгиня не этим поездом едет?“ – дрожащим голосом спросил Бришо, чьи громадные очки, сверкавшие, как зеркало, которое ларинголог надевает себе на лоб, чтобы посмотреть горло больного, словно жили жизнью его глаз и, быть может, благодаря усилиям, которые затрачивал профессор, чтобы приспособить к этим очкам свое зрение, казалось, смотрели, даже если ничего интересного не происходило, с напряженным вниманием и необычайно пристально. Только когда болезнь постепенно начала ухудшать его зрение, Бришо почувствовал, какую радость оно доставляет, – точно так же с нами часто случается, что когда мы решаемся расстаться с какой-нибудь вещью, например, подарить ее, то не можем на нее насмотреться, жалеем ее, любуемся ею. „Нет, нет, княгиня поехала проводить до Менвиля гостей госпожи Вердюрен – там они пересядут в парижский поезд. Вполне возможно, что и госпожа Вердюрен поехала с ней, – у нее дела в Сен-Марсе. Тогда, значит, она присоединится к нам, и мы поедем вместе – это было бы чудесно! В Менвиле надо не зевать, смотреть в оба! Да, а все-таки сознайтесь – мы ведь с вами чуть было не проворонили поезд. Когда я его увидел, у меня поджилки затряслись. Вот что называется – секунда в секунду. Представьте себе, мы опоздали бы на поезд, и госпожа Вердюрен увидела бы, что экипажи возвращаются без нас. Вот была бы картина! – воскликнул все еще взволнованный доктор. – Такие номера бывают не часто. Нет, в самом деле, Бришо, как вам нравится наше приключеньице?“ – не без чувства гордости спросил доктор. „Признаюсь, – ответил Бришо, – если б вы не заметили поезд, мы бы с вами, как говаривал покойный Вильмен, сели в лужу“. Хотя мое внимание сразу же привлекли незнакомые мне люди, я вдруг вспомнил, что говорил мне Котар в танцевальном зале маленького казино, и, точно в самом деле существовало звено, соединяющее какой-либо орган с образами, возникающими в нашей памяти, я, представив себе, как Альбертина прижимается грудью к Андре, ощутил острую боль в сердце. Боль эта скоро прошла; предположение, что у Альбертины существуют отношения с женщинами, показалось мне теперь невероятным после того, как третьего дня я приревновал Альбертину к Сен-Лу, с которым она заигрывала, и после того как это новое чувство ревности вытеснило первое. По своей наивности я считал, что одна склонность не может сочетаться с другой. Поезд был переполнен, и в Арамбувиле какой-то фермер в синей блузе, у которого был билет третьего класса, сел в наше отделение. Доктор, считавший, что княгине не подобает ехать в одном отделении с фермером, вызвал начальника станции, показал ему удостоверение в том, что он врач крупной железнодорожной компании, и потребовал, чтобы фермера ссадили. Эта сцена до такой степени огорчила и встревожила робкого Саньета, что, как только она началась, он, испугавшись при виде толпы крестьян на перроне, как бы из-за этой сцены не вспыхнула целая Жакерия, притворился, будто у него схватило живот, и, чтобы и его не сочли ответственным за безобразное поведение доктора, пошел по коридору в поисках того, что Котар называл „ватером“. Ничего не найдя, он стал смотреть в окно, выходившее на сторону, противоположную станции. „Если вы в первый раз едете к госпоже Вердюрен, – сказал мне Бришо, любивший блеснуть своими познаниями перед „новичком“, – то вы убедитесь, что в этом доме, как нигде, чувствуется „сладость жизни“, по выражению одного из изобретателей „дилетантизма“, „наплевизма“ и многих других модных „измов“, которыми так и сыплют наши снобки, – я имею в виду господина принца де Талейрана“. Дело в том, что когда Бришо толковал о вельможах былых времен, то присоединял к их титулам слово „господин“, находя это и остроумным и „колоритным“: так, например, он говорил: „Господин герцог де Ларошфуко“, «господин кардинал де Рец“, которого он иногда еще называл: «Этот struggle for lifer[20]20
Букв.: борец за жизнь (англ.) .
[Закрыть] де Гонди», «этот буланжист де Марсияк». А когда речь шла о Монтескье, то он не упускал случая сказать о нем с улыбкой: «Господин президент Секонда де Монтескье». Умного светского человека должен был бы раздражать этот педантизм, от которого попахивало школярством. Но безукоризненно воспитанный светский человек тоже проявляет кастовый педантизм, когда говорит не просто «Вильгельм», а непременно – «император Вильгельм» и, обращаясь к «высочеству», употребляет третье лицо. «Да, вот это был человек! – продолжал Бришо, имея в виду „господина принца де Талейрана“. – Перед такими людьми нельзя не преклоняться. Это родоначальник». «У госпожи Вердюрен прелестный дом, – заговорил со мной Котар, – там вы найдете всего понемногу, потому что это широкий дом, там бывают знаменитые ученые, как, например, Бришо, сливки общества, как, например, княгиня Щербатова, знатная русская дама, подруга великой княгини Евдокии, которая принимает ее даже в такие часы, когда к ней никого не допускают». В самом деле, великая княгиня Евдокия, не желавшая, чтобы княгиня Щербатова, которой уже давно везде отказали от дома, приезжала к ней, когда у нее могли быть гости, принимала Щербатову всегда очень рано, когда ее высочество не мог бы посетить никто из ее друзей, которым неприятно было бы встретиться с княгиней и в присутствии которых княгиня почувствовала бы себя неловко. Три года подряд княгиня Щербатова, уйдя от великой княгини спозаранку, как уходят маникюрши, ехала к г-же Вердюрен, в это время только-только просыпавшейся, и потом уже весь день проводила у нее, из чего можно было заключить, что княгиня была неизмеримо преданнее г-же Вердюрен, чем даже Бришо, а ведь он не пропускал ни одной среды и на парижских средах воображал себя кем-то вроде Шатобриана в Аббей-о-Буа, а на дачных чувствовал себя так, как мог бы чувствовать себя у г-жи дю Шатле тот, кого он неизменно называл (с хитрым и самодовольным видом всезнающего человека): «Господин де Вольтер».
Из-за отсутствия знакомств княгиня Щербатова вот уже несколько лет проявляла по отношению к Вердюренам такую верность, благодаря которой она стала уже не просто «верной„, а типом верности, идеалом, который г-жа Вердюрен долгое время считала недостижимым и воплощение которого она уже на склоне лет обрела в этой своей новой адептке. Покровительница могла сколько ей угодно пылать ревностью, а все-таки даже самые постоянные из „верных“ хоть разок да „надували“. Самые что ни на есть домоседы не могли устоять перед соблазном путешествия; у самых высоконравственных могла завестись интрижка; люди самого крепкого здоровья могли подцепить грипп; у бездельников из бездельников могло вдруг оказаться важное дело, самые бессердечные могли уехать, чтобы закрыть глаза своей умирающей матери. И напрасно г-жа Вердюрен говорила в таких случаях, подобно римской императрице, что она – единственный полководец, которому обязан повиноваться ее легион, как повинуются Христу или кайзеру, что тот, кто любит отца своего или мать так же, как ее, и не покинет их, дабы пойти за нею, недостоин ее, и что вместо того, чтобы истощать свои силы в постели или позволять какой-нибудь потаскушке водить себя за нос, куда лучше быть с ней, г-жой Вердюрен, ибо только она способна исцелять и услаждать. Но судьба, иногда находящая удовольствие в том, чтобы скрасить закат человеку, который зажился на этом свете, устроила встречу г-жи Вердюрен с княгиней Щербатовой. Рассорившись со своей семьей, покинув родину, поддерживая теперь знакомство только с баронессой Пютбю и великой княгиней Евдокией, к которым, ввиду того, что ей не хотелось встречаться с приятельницами баронессы, и ввиду того, что великой княгине самой не хотелось, чтобы ее приятельницы встречались у нее с Щербатовой, она ездила только в утренние часы, когда г-жа Вердюрен еще спала; не припоминая такого дня в своей жизни, когда бы она не выезжала из дому, кроме того времени, когда она, двенадцатилетняя девочка, болела корью; ответив 31 декабря на просьбу г-жи Вердюрен, боявшейся, что к ней никто не приедет, остаться у нее ночевать, хотя это и новогодняя ночь: «Да не все ли равно, какая ночь! Тем более что новогоднюю ночь принято проводить в своей семье, а ведь моя семья – это вы“; проживая в пансионах, но живя на пансионе у Вердюренов, куда бы они ни переезжали; летом проводя с ними время на даче, княгиня имела полное право обратиться к г-же Вердюрен со словами, принадлежащими Виньи:
– так что председательница кружка, желая, чтобы у нее была «верная» и в мире ином, даже уговорилась с княгиней, что та, кто переживет другую, завещает похоронить ее рядом с ней. В разговорах с посторонними, – к которым всегда следует причислять и того, кому мы больше всего лжем, ибо презрение этого человека нам было бы особенно мучительно: нас самих, – княгиня Щербатова всегда старалась подчеркнуть, что три ее дружбы – с великой княгиней, с Вердюренами, с баронессой Пютбю – не случайно уцелели во время катаклизмов, не зависевших от ее воли и разрушивших все остальное, а что это результат свободного выбора, в силу которого она отдала им предпочтение перед всеми остальными, следствие ее особой любви к уединению и к простоте, благодаря которой она довольствовалась только этими тремя знакомствами. «Я больше ни с кем не вижусь», – повторяла она, чтобы показать твердость своего характера и дать понять, что она не подчиняется печальной необходимости, а придерживается определенного правила. «Я бываю только в трех домах», – добавляла она, – так драматург, боясь, что его пьеса не выдержит четырех представлений, объявляет, что она пойдет только три раза. Может быть, Вердюрены верили этой выдумке, а может быть, и не верили, но, как бы то ни было, оба содействовали тому, что она утвердилась в сознании тех, кто принадлежал к их кланчику. Они прониклись убеждением в том, что княгиня при огромном выборе решила поддерживать отношения только с Вердюренами, а, с другой стороны, в том, что Вердюрены, знакомства с которыми тщетно добивается высшая аристократия, соблаговолили сделать исключение только для княгини.








