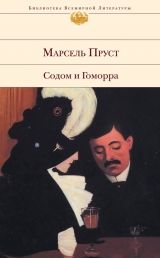
Текст книги "Содом и Гоморра"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
Таковы были, – если не считать безукоризненной честности и дикого упрямства, какое они выказывали в разговоре, не давая перебивать себя, с каким они двадцать раз начинали одно и то же, если их перебивали, что придавало их речам нерушимое тематическое единство фуги Баха, – таковы были отличительные особенности жителей сельской местности, которых и всего-то было не более пятисот, местности, окаймленной каштанами, ивами, картофельными и свекловичными полями.
А вот дочь Франсуазы, считавшая себя женщиной современной, чуждавшаяся пережитков старины, говорила на парижском жаргоне и не упускала случая ввернуть каламбур. Если Франсуаза говорила ей, что я был в гостях у принцессы, то она добавляла: «А! Наверно, у принцессы на горошине». Когда речь заходила о нашем привратнике, она считала нужным вставить: «Ваш привратник любит приврать». Это было не очень остроумно. Но особенно неприятно меня покоробило, когда она в связи с опозданием Альбертины сказала мне в утешение: «Не дождаться вам ее до скончания века. Не придет она. Ох уж эти нынешние сударки!»
Приведенные примеры показывают, что она говорила иначе, чем мать; но вот что представляется еще более любопытным: мать говорила не совсем так, как бабушка, уроженка Байо-ле-Пен. Байо-ле-Пен находится в ближайшем соседстве с родиной Франсуазы, и все же говор в этих двух местностях не один и тот же, как и природа. В волнистой, спускающейся к лощине местности, где родилась мать Франсуазы, растут ивы. Между тем очень далеко оттуда есть во Франции сторонка, где говорят почти так же, как в Мезеглизе. Это сделанное мною открытие обозлило меня. Вот как это вышло: однажды мне довелось услышать оживленную беседу Франсуазы с горничной из нашего дома, уроженкой как раз той местности и говорившей на тамошнем наречии. Они почти все понимали друг у друга, я же ничего не понимал, они это знали и все-таки продолжали, – находя, должно быть, для себя оправдание в том радостном чувстве, какое испытывают при встрече землячки, хотя и родившиеся в разных концах страны, – говорить в моем присутствии на своем языке, как обычно предпочитают люди, когда не хотят, чтобы их поняли. Эти наглядные уроки географической лингвистики и служаночьего товарищества происходили потом у нас на кухне еженедельно и не доставляли мне ни малейшего удовольствия.
У нас в доме каждый раз, когда отворялись ворота, швейцар нажимал кнопку, чтобы осветить лестницу: к этому времени все жильцы обыкновенно возвращались домой; я поспешил уйти из кухни в переднюю и, усевшись, прильнул к той части стеклянной двери, которую не закрывала узковатая для нее портьера, отчего на этой двери, ведшей в нашу квартиру, темнела вертикальная полоса – отражение полутьмы, обволакивавшей лестницу. Если бы полоса стала вдруг светло-золотой, это значило бы, что Альбертина внизу и через две минуты будет здесь; никто больше не мог прийти в этот час. И я все сидел, не отрывая глаз от упорно темневшей полосы; я наклонялся всем туловищем, чтобы лучше было видно; но, как я ни вглядывался, темная вертикальная черта, наперекор страстному моему желанию, не возбуждала во мне той разымчивости, какая охватила бы меня, если б на моих глазах, по внезапному и знаменательному волшебству, черта преобразилась в светящийся золотой прут. Я действительно волновался – и из-за кого? Из-за Альбертины, о которой на вечере у Германтов почти забыл думать! Боязнь лишиться простого физического наслаждения, обострявшая во мне нетерпеливое чувство, с каким я, бывало, ждал других девушек, в особенности – Жильберту, если она запаздывала, причиняла мне нестерпимую душевную боль.
Мне ничего иного не оставалось, как уйти к себе в комнату. Вслед за мной сюда вошла Франсуаза. Полагая, что коли я вернулся с вечера, то розу незачем оставлять в петлице, она пришла вынуть ее. Движение Франсуазы, напомнив мне о том, что Альбертина, пожалуй, не придет, и заставив признаться самому себе, что мне хотелось быть элегантным ради нее, вызвало во мне раздражение, еще усилившееся оттого, что, дернувшись, я смял розу, и оттого, что Франсуаза сказала мне: «Нечего было упрямиться, а теперь вот цветок никуда не годится». Надо заметить, что сейчас самое незначащее ее слово выводило меня из себя. В состоянии ожидания мы очень страдаем оттого, что желанное существо к нам не идет, и присутствие кого-то другого становится для нас невыносимым.
Когда Франсуаза вышла из комнаты, я подумал о том, как жаль, что теперь я ради Альбертины навожу на себя красоту, а прежде, в те вечера, когда я звал ее для новых ласк, она столько раз видела меня небритым, с не подстригавшейся несколько дней бородой! У меня было такое ощущение, что она про меня забыла, что меня ждет одиночество. Чтобы как-то украсить мою комнату на тот случай, если бы Альбертина все-таки пришла, я – в первый раз за несколько лет – положил на стол, около кровати, одну из самых красивых моих вещей: портфельчик с инкрустацией из бирюзы, который Жильберта подарила мне для того, чтобы я в нем держал книжечку Бергота, и с которым я долго не расставался даже во время сна, кладя его рядом с агатовым шаром. Томительное чувство вызывала во мне не только мысль, что Альбертины все нет как нет, но и сознание, что она находится сейчас «где-то там», в месте, более ей приятном, но мне неизвестном, и вот это сознание, вопреки тому, что я час назад говорил Свану относительно моей неспособности ревновать, могло бы, если б я виделся с моей подружкой чаще, превратиться в мучительную потребность знать, где и с кем она проводит время. Я не решался послать к Альбертине: было слишком поздно, но в надежде, что, быть может, ужиная с подругами в кафе, она вздумает мне позвонить, я переключил телефон из швейцарской к себе, тогда как обычно в ночное время связь со станцией поддерживал только швейцар. Казалось бы, проще и удобнее поставить аппарат в коридорчике, куда выходила комната Франсуазы, но толку от этого не было бы никакого. Успехи цивилизации каждому дают возможность обнаружить ранее не замечавшиеся за ним достоинства или новые пороки, из-за которых он становится еще дороже или, напротив, еще несноснее своим знакомым. Так, из-за открытия Эдисона у Франсуазы открылся еще один недостаток, проявлявшийся в том, что она не желала пользоваться телефоном, хотя бы это было удобно, хотя бы это было крайне необходимо. Она всегда находила предлог увильнуть, когда ее хотели научить пользоваться телефоном, так же как иные увиливают от прививки. Вот почему телефон поставили у меня в комнате, а чтобы он не мешал моим родителям, звонок заменили треском вертушки. Из боязни, что я не услышу этот треск, я не шевелился. Я так тихо сидел, что впервые за несколько месяцев тиканье стенных часов касалось моего слуха. Вошла Франсуаза, чтобы поставить что-то на место. Она заговорила со мной, но мне была противна ее однообразно пошлая болтовня, под непрерывный звук которой мои чувства менялись каждую минуту, переливаясь из страха в тревогу, из тревоги в полное отчаяние. Я поневоле выражал ей в самых неопределенных словах свое удовлетворение и в то же время чувствовал, какой у меня несчастный вид, так что в конце концов мне пришлось сослаться на ревматизм, чтобы объяснить несоответствие между моим напускным безразличием и страдальческим выражением лица; вдобавок я боялся, как бы Франсуаза, хотя говорила она вполголоса (не из-за Альбертины, так как была уверена, что в столь поздний час она не явится), не заглушила спасительный зов, который больше не повторится. Наконец Франсуаза пошла спать; я выпроводил ее ласково, но решительно, чтобы из-за той возни, какую она могла бы поднять перед тем как уйти, не пропустить треск телефона. И снова я начал прислушиваться, начал терзаться; когда мы ждем, двойное расстояние от уха, воспринимающего звуки, до сознания, которое сортирует их и анализирует, и от сознания до сердца, которому оно сообщает итог, укорачивается, так что мы даже не ощущаем его длины – нам кажется, что мы слушаем сердцем.
Меня донимали беспрестанные приступы все более настойчивого, но так пока и не исполнявшегося желания услышать призывный звук; когда же я совершил по спирали мучительное восхождение на самый верх одинокой моей тоски, из недр многолюдного ночного Парижа, внезапно приблизившегося ко мне, к моим книжным шкафам, послышался металлический, дивный, точно развевающийся шарф в «Тристане» или игра пастушьей свирели, звук телефонной вертушки. Я бросился к аппарату – звонила Альбертина. «Ничего, что я так поздно?..» – «Что вы! – ответил я, сдерживая радость, а радость была вызвана тем, что упоминание о неурочном часе, скорей всего, означало, что Альбертина придет сейчас, придет так поздно, и извиняется передо мной за это, а не за отказ прийти. – Вы придете?» – равнодушным тоном спросил я. «Пожалуй… нет, если только вам не очень трудно будет без меня».
Одной частью моего существа, к которой тянулась и другая, я жил в Альбертине. Она во что бы то ни стало должна была прийти ко мне, но сразу я ей этого не сказал; так как теперь между нами возникла телефонная связь, я решил, что и в последнюю секунду смогу заставить ее прийти ко мне или разрешить примчаться к ней. «Да, я очень близко от своего дома, – сказала она, – и Бог знает как далеко от вас. Я сперва невнимательно прочитала вашу записку. Сейчас я ее перечла и испугалась, что вы все еще меня ждете». Я чувствовал, что она говорит неправду, и теперь, от злости, мне хотелось заставить ее прийти не столько потому, что я мечтал с ней увидеться, сколько для того, чтобы причинить ей беспокойство. Но меня подмывало сперва отказаться от того, что вскоре должно было быть достигнуто мною. Но где же она? К звукам ее голоса присоединялись другие звуки: гудок мотоциклиста, пение женщины, дальняя игра духового оркестра, и все это слышалось не менее явственно, чем милый голос, словно для того, чтобы доказать мне, что это именно Альбертина, вместе со всем, что сейчас ее окружает, – тут со мной, – так ком земли мы уносим вместе с травой. Те же звуки, что долетали до меня, впивались и в слух Альбертины и отвлекали ее: то были жизненные подробности, не имевшие к ней отношения, сами по себе ненужные, но необходимые для того, чтобы подтвердить несомненность чуда, прелестные скупые мазки, воссоздававшие какую-нибудь парижскую улицу, или резкие, жесткие, живописавшие какой-то званый вечер, из-за которого Альбертина не пришла ко мне после «Федры». «То, что я вам сейчас скажу, не поймите как просьбу приехать; в такой поздний час ваш приезд был бы для меня очень утомителен, я и без того умираю как хочу спать… – сказал я. – И потом тут какая-то страшная путаница. Смею вас уверить, что в моем письме никаких недомолвок не было. Вы мне ответили, что непременно. Ну так если вы не поняли моего письма, что же вы хотели этим сказать?» – «Я действительно сказала: непременно, вот только не могу вспомнить, что непременно. Но вы сердитесь, – это мне неприятно. Я жалею, что пошла на „Федру“. Если б я знала, что из этого выйдет целая история…» – добавила она – так всегда говорят в чем-либо виноватые, но притворяющиеся, будто они убеждены, что их обвиняют в чем-то другом. «Федра» тут ни при чем – ведь это я уговорил вас на нее пойти». – «А все-таки вы на меня обиделись; жаль, что сейчас поздно, но завтра или послезавтра я приеду и извинюсь». – «Нет, нет, Альбертина, не надо, я из-за вас потерял вечер, оставьте меня в покое хоть на несколько дней. Я буду свободен не раньше, чем через две-три недели. Послушайте: если вам неприятно, что мы с вами расстаемся, поссорившись, – и, пожалуй, вы правы, – я предлагаю вам, – мы тогда будем по части усталости квиты, – раз уж я вас так долго ждал и раз вы все равно еще не дома, приехать ко мне сейчас же; я выпью кофе для бодрости». – «А нельзя ли до завтра? Ведь утомительно…» Уловив в этом ее виноватом тоне нежелание ехать ко мне, я почувствовал, что к жажде увидеть вновь лицо с бархатистым отливом, которое уже в Бальбеке подгоняло каждый мой день к тому мгновенью, когда на берегу сентябрьского сиреневого моря со мной рядом окажется этот розовый цветок, сейчас ценою отчаянных усилий старался присоединиться совершенно другой оттенок. Мучительную потребность в том, чтобы кто-то был со мной, я испытывал еще в Комбре, когда мне хотелось умереть, если мать передавала через Франсуазу, что не может подняться в мою комнату. Венцом усилий прежнего чувства сочетаться, слиться с другим, новым, сладострастно тянувшимся к разрисованной поверхности, к розовой окраске прибрежного цветка, – венцом этих усилий часто являлось (в химическом смысле) новое тело, существующее всего лишь несколько мгновений. По крайней мере, в тот вечер и еще долго потом оба чувства пребывали разобщенными. Однако, услышав последние слова, которые Альбертина проговорила в телефонную трубку, я начал понимать, что жизнь Альбертины (конечно, не материально) находится на таком расстоянии от меня, что для того чтобы залучить ее к себе, мне каждый раз придется производить длительную разведку, мало того: что ее жизнь устроена так же, как полевые укрепления, да не просто как полевые, а – для большей надежности – как те, что впоследствии получили наименование камуфлированных. Альбертина хоть и стояла на более высокой ступени общественной лестницы, но, в сущности, принадлежала вот к какому разряду женщин: вашему посыльному консьержка обещает передать ваше письмо одной особе, как только та вернется домой, а потом вы случайно узнаете, что особа, которую потом вы встретили на улице и которой вы потом имели неосторожность написать письмо, и есть эта самая консьержка. Она действительно живет – но только в швейцарской – в доме, на который она вам показала рукой (на самом деле это маленький дом свиданий, хозяйкой которого является она). Это жизнь, защищенная несколькими рядами окопов, так что, когда вам захочется увидеть эту женщину и допытаться, кто же она, окажется, что вы забрали слишком вправо или слишком влево, зашли слишком далеко вперед или назад, и так пройдет несколько месяцев, несколько лет, а толку вы все равно не добьетесь.
Я чувствовал, что ничего не узнаю про Альбертину и что мне никогда не выпутаться из переплетения множества достоверных подробностей и придуманных фактов. И что так будет всегда, до самого конца, если только не засадить ее в тюрьму (но ведь и заключенные совершают побеги). В тот вечер эта догадка отзывалась во мне легким волнением, но уже тогда в этом волнении я смутно различал трепет предчувствия долгих страданий.
«Нет, нет, – ответил я, – я ведь вам уже сказал, что освобожусь через три недели, не раньше, и завтра у меня такой же занятой день, как все остальные». – «Ну хорошо… бегу… жаль только, что я у подруги, а она…» (Я уловил в ее голосе надежду на то, что я отвергну ее предложение, которое, следовательно, было сделано нехотя, и решил припереть ее к стенке.) – «До вашей подруги мне никакого дела нет, хотите – приезжайте, как вам будет угодно, ведь не я просил вас приехать, вы сами предложили». – «Не сердитесь, сейчас возьму фиакр, и через десять минут – я у вас».
Итак, из ночной глубины Парижа, откуда уже достиг моей комнаты, определяя радиус действия далекого от меня существа, голос, который вот сейчас возникнет и появится здесь, после этой благой вести ко мне придет та самая Альбертина, которую я в былое время видел под небом Бальбека, когда официантов, расставлявших приборы в Гранд-отеле, слепил свет заката, когда в распахнутые настежь окна с берега, где все еще оставались последние гуляющие, неразличимые веянья вечернего ветра свободно вливались в громадную столовую, где первыми пришедшие ужинать только еще рассаживались, где в зеркале за стойкой проплывал красный отсвет последнего парохода, отходившего в Ривбель, и где надолго оставался серый отсвет его дыма. Я уже не задавал себе вопроса, почему Альбертина опоздала, а когда Франсуаза, войдя ко мне, объявила; «мадемуазь Альбертина пришла», – я, не поворачивая головы, выразил наигранное изумление: «мадемуазь Альбертина? Так поздно?» Но, подняв затем глаза на Франсуазу, как будто мне любопытно было узнать, ответит ли она утвердительно на мой вопрос, заданный притворно искренним тоном, я со смешанным чувством восхищения и ярости обратил внимание на то, что, не уступавшая самой Берма в искусстве наделять даром речи неодушевленные одежды и черты лица, Франсуаза научила, как нужно себя вести в данных обстоятельствах и свой корсаж, и свои волосы, из коих самые седые, извлеченные на поверхность в замену метрического свидетельства, облегали ее шею, согнутую под бременем переутомления и покорности. Они были преисполнены к ней сочувствия: ведь ее разбудили глухою ночью, – в ее-то годы, – вытащили из парного тепла постели, заставили наспех одеться – долго ли подхватить воспаление легких? Вот почему, боясь, как бы Франсуаза не подумала, что я извиняюсь перед ней за поздний приход Альбертины, я добавил: «Во всяком случае, я ей очень рад, это просто чудесно» – и начал бурно выражать свой восторг. Однако беспримесным этот восторг оставался только до той минуты, когда заговорила Франсуаза. Ни на что не жалуясь, даже делая вид, что она силится сдержать бьющий ее кашель, и лишь зябко кутаясь в шаль, она принялась пересказывать мне все, о чем она сейчас говорила с Альбертиной – вплоть до вопроса, как поживает ее тетка. «Я ей так прямо и отрезала: барин, мол, должно, думает, что вы уж не придете: кто же это в такую пору приезжает – ведь на дворе-то скоро утро. Но она, должно, была в таких местах, где уж больно весело, потому она даже ничего не сказала мне: дескать, ей неприятно, что вы ее долго ждали, – чихать она, как видно, на это хотела. „Лучше поздно, чем никогда!“ – вот что она мне ответила». К этому Франсуаза прибавила, пронзив мне сердце: «Может, она и дорого бы дала, чтоб все было шито-крыто, да…»
Во всем этом для меня не было ничего поразительного. Я уже говорил, что Франсуаза, исполнив поручение, предпочитала давать отчет в том, что сказала она, – свои слова она пересказывала по многу раз и с особым удовольствием, – но не в том, что ответили ей. Если же, в виде исключения, она и передавала нам вкратце ответ наших добрых знакомых, то старалась, чтобы мы, иной раз – в выражении, какое принимало ее лицо, иной раз – в тоне, почувствовали то более или менее обидное для нас, что, как она уверяла, угадывалось в их выражении и тоне. В крайнем случае, она довольствовалась сообщением, что поставщик, к которому мы ее посылали, оскорбил ее, – скорее всего, тут она просто сочиняла, – но придавала она своему рассказу такой оттенок, что хотя оскорбил-то он ее, но поскольку она является нашей представительницей и говорит от нашего имени, то оскорбление, нанесенное ей, рикошетом задевает и нас. Приходилось разубеждать ее: она-де не так поняла, у нее мания преследования, не могут же торговцы, все до одного, на нее ополчиться. Но переживания торговцев меня мало трогали. Иначе обстояло дело с Альбертиной. Как только Франсуаза повторила мне сказанные Альбертиной в шутку слова: «Лучше поздно, чем никогда!», моему воображению тотчас же представились приятели, в обществе которых Альбертина провела остаток вечера и с которыми ей было, очевидно, веселей, чем со мной. «Смешная она; шляпенка у нее как все равно блин, а сама глазастая – смотреть-то на нее умора, а уж пальтишко – давным-давно в починку просится: все как есть молью трачено. Чудная!» – с язвительным оттенком в голосе добавила Франсуаза, – хотя ее впечатления редко совпадали с моими, но ей всегда не терпелось поделиться ими со мной. Я даже и вида не хотел подать, что улавливаю в ее тоне презрение и насмешку, но, только чтобы не смолчать, возразил Франсуазе, хотя никогда не видел той шляпки, о которой она говорила: «То, что вы называете „блином“, на самом деле прелестная шляпка…» – «Да за нее гроша ломаного никто не даст», – прервала меня Франсуаза, на сей раз откровенно выразив свое презрение. Тут я – ласковым тоном, растягивая слова, чтобы ложь, содержавшаяся в моем ответе, воспринималась как выражение не злобы, а самой истины, и вместе с тем не теряя времени, чтобы не заставлять Альбертину ждать, – сказал Франсуазе обидные слова. «Вы чудный человек, – медоточиво заговорил я, – вы милейший человек, у вас уйма достоинств, но какой вы приехали в Париж, такой и остались: вы по-прежнему ничего не смыслите в туалетах и по-прежнему произносите слова курам на смех». Последний упрек был особенно бессмыслен: французские слова, правильным произношением которых мы так гордимся, сами могут «насмешить кур», так как ими «смешили кур» галлы, коверкавшие то латинский, то саксонский язык, а ведь наш язык есть не что иное, как неправильное произношение слов, появившихся в других языках. Свойства живой речи, будущее и прошлое языка – вот что должно было бы привлечь мое внимание в ошибках Франсуазы. «Трачено» вместо «изъедено» – не столь же ли это любопытно, как животные, сохранившиеся с незапамятных времен, вроде кита или жирафа, и показывающие, через какие периоды прошел животный мир?
«И, – прибавил я, – раз уж вы за столько лет ничему не научились, то уж теперь так и не научитесь. В утешение могу вам сказать, что это не мешает вам быть хорошим человеком, превосходно готовить говядину в желе и много всякого другого. Шляпка, которая вам показалась простенькой, сделана по образцу шляпы герцогини Германтской, а шляпа герцогини стоила пятьсот франков. Впрочем, в ближайшее время я хочу подарить мадемуазель Альбертине новую, еще лучше этой». Я знал, что нет ничего горше для Франсуазы, чем когда я трачусь на тех, кого она невзлюбила. Она что-то ответила мне, но я не разобрал, потому что с ней вдруг случился приступ удушья. Когда я потом узнал, что у нее больное сердце, как же мучила меня совесть при мысли, что я никогда не мог отказать себе в бесчеловечном и бесплодном удовольствии с ней препираться! Надо заметить, что Франсуаза не выносила Альбертину – от дружбы с беднячкой Альбертиной я ничего не выигрывал сверх тех преимуществ, какие я имел в глазах Франсуазы. Франсуаза благосклонно улыбалась каждый раз, когда меня приглашала к себе маркиза де Вильпаризи. А что Альбертина никогда не зовет меня в гости – это ее возмущало. В конце концов я стал врать, будто такие-то и такие-то вещи подарила мне Альбертина, но Франсуаза ни на волос мне не верила. Особенно не нравилось ей отсутствие основы взаимности в области угощения. Альбертина приходила к нам обедать, если ее звала моя мама, а нас к г-же Бонтан не приглашали (надо сказать, что г-жа Бонтан по полгода не жила в Париже, потому что ее муж, как и в былое время, когда ему становилось невмоготу в министерстве, занимал то одну, то другую «должность» в других городах), и Франсуаза находила, что со стороны моей подружки это неучтиво, на что она и намекала, припоминая комбрейскую прибаутку:
Я сделал вид, что пишу письмо. «Кому это вы писали?» – спросила, войдя, Альбертина. «Одной моей близкой приятельнице, Жильберте Сван. Вы ее не знаете?» – «Нет». Я не стал расспрашивать Альбертину, как она провела вечер; я чувствовал, что начну упрекать ее, а время было уже позднее, мы бы не успели помириться окончательно, и у нас не хватило бы времени для поцелуев и ласк. Вот почему мне хотелось прямо с них и начать. Я стал чуть-чуть спокойнее, но, по правде сказать, у меня не было ощущения, что я счастлив. Чувство утраты компаса, утраты ориентации, характерное для ожидания, не исчезает и после прихода ожидаемого нами человека, – оно, это чувство, вытесняет спокойствие, а ведь именно успокаиваясь, мы и представляли себе появление ожидаемого как огромную радость, но из-за ощущения утраты нам ее вкусить не дано. Альбертина была со мной; расшатанные мои нервы, по-прежнему взвинченные, все еще ждали ее. «Я хочу крепкого поцелуя, Альбертина». – «Сколько угодно, – ответила она, и в этом ответе сказалась вся ее добрая душа. Сейчас она была необыкновенно хороша собой. – Еще?» – «Вы же знаете, что это для меня огромное наслаждение, огромное!» – «А для меня – еще гораздо большее, – подхватила она. – Ах, какой у вас прелестный портфель!» – «Возьмите его себе, я вам его дарю на память». – «Как это мило с вашей стороны!..» Мы раз навсегда исцелились бы от всего романтического, если бы, думая о той, кого мы любим, постарались быть такими, какими станем, когда разлюбим ее. Портфель, агатовый шар Жильберты – все это прежде было мне дорого, но дорого только моей душе, – ведь теперь в моих глазах они представляли собой самый обыкновенный портфель, самый обыкновенный шар.
Я спросил Альбертину, не хочется ли ей пить. «А вон, кажется, апельсины и вода, – сказала она. – На что же лучше?» Таким образом, вместе с поцелуями Альбертины я насладился той свежестью, которая у принцессы Германтской была для меня отраднее свежести поцелуев. Я пил апельсиновый сок с водой, и мне казалось, что он открывал мне тайну созревания плода, открывал мне свое благотворное действие на иные состояния человеческого организма, принадлежащего к миру, столь непохожему на его мир, не таил своего бессилия оживить человеческий организм, но зато обрызгивал его влагой, которая все-таки могла быть ему полезна, – одним словом, сок плода доверил множество тайн моему чувству, но только не уму.
Когда Альбертина ушла, я вспомнил, что обещал Свану написать Жильберте, и решил, что надо это сделать теперь же. Не испытывая ни малейшего волнения, словно доканчивая скучное школьное сочинение, я надписал на конверте имя Жильберты Сван, которым некогда исчерчивал все свои тетради, чтобы создать себе иллюзию переписки с ней. Ведь если прежде имя Жильберты писал я сам, то теперь привычка возложила эту обязанность на одного из многочисленных секретарей, которых она взяла себе в помощники. Секретарь мог совершенно спокойно выписывать имя Жильберты – ведь его совсем недавно устроила ко мне привычка, он совсем недавно поступил ко мне на службу, с Жильбертой он был незнаком, он слышал о ней от меня и знал только, что это девушка, в которую я был влюблен, но за этими словами ничего реального для него не стояло.
У меня не было оснований обвинять Жильберту в холодности. Тот, кем я был теперь по отношению к ней, представлял собою «свидетеля», самого подходящего для того, чтобы осознать, кем была для меня она. Портфель, агатовый шар просто-напросто вновь обрели для меня в моих отношениях с Альбертиной то же значение, какое они имели для Жильберты, то, какое они могли бы иметь для каждого человека, который не бросает на них отблеск внутреннего своего огня. Но теперь моя душа была по-иному смятенна, и это новое смятение тоже искажало понятие об истинной силе слов и вещей. И когда Альбертина, еще раз благодаря меня, воскликнула: «Я так люблю бирюзу!» – я ответил ей: «Так пусть же она у вас не потускнеет!» – вверяя прочности этих камней судьбу нашей дружбы, хотя всякий разговор о будущем был так же бессилен вызвать чувство ко мне у Альбертины, как был он бессилен сохранить чувство, некогда связывавшее меня с Жильбертой.
В те времена наблюдалось явление, заслуживающее упоминания единственно потому, что оно повторяется во все важные исторические эпохи. Когда я писал Жильберте, герцог Германтский, приехав с бала и еще не успев снять шлем, подумал о том, что завтра ему волей-неволей придется надеть траур, и решил на неделю раньше уехать лечиться на воды. Возвратился он через три недели (я забегаю вперед – ведь я только-только дописал письмо Жильберте), и тут друзья герцога, знавшие, что он, в начале дела Дрейфуса проявлявший к нему полнейшее равнодушие, стал потом злейшим антидрейфусаром, остолбенели, услышав от него (можно было подумать, что действие вод распространяется не только на мочевой пузырь) такие слова: «Ну что ж, дело будет пересмотрено, и его оправдают; как же можно осудить человека, когда нет никаких улик? Это надо быть таким слабоумным, как Фробервиль. Офицер готовит для французов побоище, попросту говоря – войну! Вот времечко!» Дело в том, что на водах герцог Германтский познакомился с тремя прелестными дамами (с итальянской принцессой и двумя ее золовками). Услышав их суждения о книгах, которые они читали, о пьесе, которая ставилась в Казино, герцог живо смекнул, что эти женщины умственно развитее его, что, по его собственному выражению, ему с ними не тягаться. Вот почему его так обрадовало приглашение принцессы играть с ними в бридж. Велико же было его изумление, когда он, едва успев войти к принцессе, в пылу своего нетерпимого антидрейфусарства брякнул: «Ведь с пересмотром-то дела пресловутого Дрейфуса все затихло», а принцесса и ее золовки возразили ему: «Напротив, это вопрос ближайшего будущего. Нельзя же держать в каторжной тюрьме ни в чем не повинного человека». – «Да что вы?» – растерянно пролепетал герцог, как будто он узнал, что в этом доме в насмешку над человеком, которого он привык считать умным, дали ему унизительное прозвище. Но несколько дней спустя, подобно тому как мы только по малодушию и из обезьянства, не понимая, в чем тут соль, орем: «Эй, Жожот!» великому артисту, которого так назвали при нас в одном доме, герцог хотя и неуверенно, а все-таки мямлил: «Ну, конечно, раз там ничего такого нет…» Три прелестные дамы находили, что он недостаточно решительно порывает со своими прежними взглядами, и были с ним резковаты: «Да ни один умный человек никогда и не думал, что там что-то есть». Всякий раз, когда против Дрейфуса выдвигалось что-нибудь «потрясающее» и герцог, надеясь переубедить трех прелестных дам, сообщал им новость, они весело смеялись и без труда, с необычайной диалектической тонкостью доказывали ему, что его довод никуда не годится, что он просто смехотворен. Герцог вернулся в Париж рьяным дрейфусаром. И, конечно, мы не станем отрицать, что в данном случае глашатаями истины явились три прелестные дамы. Но все же заметим кстати, что обычно каждые десять лет происходит следующее: даже если человек в чем-либо глубоко убежден, с ним заводят знакомство умные муж и жена или хотя бы одна прелестная дама – и под их влиянием в каких-нибудь несколько месяцев его взгляды круто меняются. Да что там: многие страны ведут себя так же, как этот убежденный человек, многие страны дышат ненавистью к какому-нибудь народу, но проходит полгода – и они преисполняются к нему совсем других чувств и рвут отношения с бывшими союзниками.








