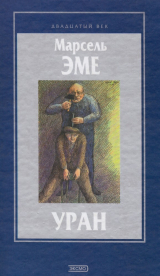
Текст книги "Уран"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
XI
Они направились к Блемону по тропинке, пересекающей ту, по которой до того поднимались. Над вершиной холма, скрывавшего руины, на яркой синеве неба начал вырисовываться город. Он представал узкой, вытянувшейся между вокзалом и рекой полосой строений и из-за этого недостатка ширины, который подчеркивали сжатые перспективой крыши, казался каким-то ненастоящим. По мере того как путники приближались, дома вытесняли из поля зрения окружающую природу и возникали развалины. Аршамбо уже увидел свой дом и, когда его третий этаж наложился на овсяное поле, взглянул на окна своих комнат, желая удостовериться, что ни в одном из них не маячит силуэт Максима Делько. Впрочем, расстояние было еще чересчур велико, чтобы можно было узнать беглеца, даже допусти он такую неосторожность. Не дойдя до вершины около полусотни метров, путники увидели Генё: он поднимался неширокой дорогой, идущей вдоль обрыва. На гуляющего он не походил: шагал быстро, как человек, имеющий какую-то цель. Встреча с Аршамбо и Ватреном явно оказалась для него неожиданностью, причем не такой уж приятной, но не остановиться было бы просто невежливо. После рукопожатий учитель заговорил о солнце, о природе, о кузнечиках. Генё слушал Ватрена понурясь и лишь изредка поднимал на него беглый испытующий взгляд. Они стояли на краю обрыва, и Аршамбо, время от времени вставляя слово-другое в разговор, оглядывал руины, где было полно гуляющих.
– Но я заболтался, – смеясь, прервал сам себя Ватрен. – Господин Генё, я хочу кое-что у вас спросить. До меня дошло известие, что арестован бедняга Леопольд, и я очень огорчен. Это прекраснейший человек и мой хороший друг. Вы не знаете, за что его арестовали?
– Нет, – сухо ответил Генё.
– Я узнал, что вчера утром у него произошла стычка с одним из ваших, неким Рошаром, и подумал, что эта история как-то связана с арестом.
– Не вижу связи.
– Послушайте, господин Генё, вы не обязаны рассказывать мне то, что знаете об этом деле. Но ведь, в конце концов, с Леопольдом вы знакомы давно. Не поверю, чтобы вы не сожалели о том, что этого достойного человека упрятали в тюрьму только за то, что он не побоялся приструнить такого, как Рошар. Будем откровенны. Рошара вы знаете лучше меня, так что вам известно, чего он стоит.
– Рошар хороший патриот.
При этих словах учитель улыбнулся – лукаво, но вместе с тем и несколько огорченно. Аршамбо, которому Леопольд был мало знаком, до сих пор в споре не участвовал, опасаясь ненароком проговориться, но теперь, услышав, как хвалят патриотизм Рошара, не выдержал.
– Ничего себе патриот! Этот-то фрукт! Не знаю, Генё, искренне ли вы говорите, но у меня в голове не укладывается, как это вы, серьезный человек, можете с уважением отзываться о таком негодяе. Вашего Рошара я считаю мерзавцем и подонком. Если он и впрямь воплощает собой французский патриотизм, тогда остается лишь пожелать, чтобы Франция провалилась в тартарары! И вот что я еще скажу: если этот негодяй – оплот партии и пример для подражания коммунистам Блемона, то вы не дождетесь, чтобы я принял вашу сторону. Благодарю покорно!
Речь инженера Генё слушал не без удовольствия. На его губах даже заиграла легкая улыбка, которую он мысленно адресовал учителю Журдану.
– Только, ради бога, не передавайте ему моих слов, – усмехнулся Аршамбо. – Не хочу навлекать на себя гнев человека, который в состоянии засадить за решетку любого, кто ему не приглянется. Не далее как сегодня один социалист утверждал даже, что Рошар – злой гений блемонских коммунистов и они повинуются мановению его мизинца. Он назвал вас «коричневорубашечниками Рошара».
Уверенный в том, что заденет Генё за живое, инженер охотно привел эти высказывания социалиста, которые и в самом деле слышал. Генё со своей стороны нашел их весьма показательными. И хоть они и вызвали у него некоторое беспокойство, с удовлетворением подумал, что безымянный социалист дал ему в руки крупный козырь против Журдана.
– Россказни социалистов, господин Аршамбо. Полагаю, в Блемоне вы единственный, кто прислушивается к тому, что они болтают.
– Во всяком случае, – сказал Ватрен, – если бы вы могли что-нибудь сделать для Леопольда, я был бы вам весьма признателен.
– Сожалею, но я ничего не могу для него сделать. Ну что ж, не буду мешать вам гулять.
Аршамбо и Ватрен направились по крутой тропинке вниз к развалинам. Едва они скрылись, Генё, который только притворился, будто продолжает прогулку, решил посидеть в тени кустарника на краю оврага. На душе у него было пакостно: мучил стыд за то, что он притащился сюда с нечистыми помыслами, как бы против собственной воли, чтобы понаблюдать за окном Ватрена. Но после встречи с учителем это занятие потеряло всякий смысл. И все-таки, презирая себя за постыдную слабость, Генё принялся рассматривать дом, а именно – три окна квартиры Аршамбо на третьем этаже с фасада. Посредине было окно столовой, выходящее на балкон, справа – окно комнаты, которую делила с братом Мари-Анн, и, наконец, слева – совсем узенькое окошко Ватрена. Дом оказался неожиданно далеко: более чем в полукилометре от оврага. На таком расстоянии узнать лицо и даже фигуру в оконном проеме было невозможно. На какое-то время Генё отвернулся от дома. Когда он снова перевел на него взгляд, хоть в этом уже и не было никакой необходимости, то увидел в правом из трех окон силуэт мужчины. Вероятно, то был Пьер, брат Мари-Анн. Одновременно в окне слева появилась фигура другого мужчины, который не мог быть ни Ватреном, ни Аршамбо – те еще не успели вернуться. Первое, что пришло Генё в голову, – что это какой-нибудь товарищ Пьера, зашедший к нему в гости, но первый и второй находились так далеко друг от друга, что это предположение тотчас отпало. Впрочем, проблема представилась Генё настолько лишенной интереса, что он и думать о ней забыл.
Бессмысленно было таить от себя, что он влюбился. После той встречи на кухне привычные заботы потеряли для Генё былое значение. История с Рошаром и будущее коммунизма в Блемоне интересовали его сейчас куда меньше, и ему приходилось делать над собой усилие, чтобы сосредоточиться на этом. Мысли его рождались теперь, как ему казалось, не в голове, а в груди, где-то между сердцем и горлом, в области зыбкого томления, которую омывали и распирали волны нежности. В этих волнах отражались белокурые волосы, желтое платье, улыбки, голубые глаза, золотисто-розовая плоть, и все это под аккомпанемент барабанной дроби дождя по железной крыше пропитывал неприятный запах водостока. Генё был уверен, что не испытывал ничего даже приблизительно похожего, когда познакомился со своей будущей женой. И вопрос тут был не просто в большем или меньшем обаянии. Генё признавал за Мари-Анн качественное превосходство над всеми женщинами, которых он знал до сих пор. Несмотря на укоры совести, он был готов приписать это превосходство социальному положению девушки. В конце концов, полноценное питание, учеба, культурный досуг, спортивные игры, занятия музыкой, комфорт и буржуазная привычка смотреть на некоторые вещи сквозь туманную дымку вполне способны наделить девушек особыми притягательными свойствами. Хорошо ухоженное дерево всегда приносит плоды более сочные, чем то, что предоставлено самому себе.
Что же касается Ватрена, то на его счет Генё все еще до конца не успокоился. Несмотря на свои седины и вид человека, витающего в облаках, учитель внушал ему опасения. К тому же трудно было отмахнуться от доводов, приведенных Журданом. К примеру, фактор близости иной раз мог решить все. Эти старики на шестом десятке часто бывают не в меру прытки, а Ватрен вдобавок вдовец. В уцелевших перенаселенных кварталах города, где все квартиры были поделены на три, где жили буквально друг на друге, завести интригу вне собственного дома было не так-то легко. Учитель, которого вдовство и профессия обязывали вести скромный образ жизни, был лишен и возможности посещать профессионалок. Первая волна бомбардировки уничтожила дом 17 по улице Уазель, убив сводницу, семь шлюх и девятерых клиентов, в числе которых оказались, в частности, мэтр Фревьер, здешний нотариус, и господин Ришмон, директор сберегательной кассы. Печальной участи избежал лишь хозяин заведения, который в ту самую минуту спустился в погреб за эльзасским вином. Кончина мэтра Фревьера слегка скрасила скорбь блемонцев: пробежал слушок, будто бы причиндалы нотариуса были обнаружены на диске проигрывателя и его супруга на следующий день приходила их опознавать. Таким образом, было вполне вероятно, что учитель, мучимый воздержанием, отважился предпринять поиски среди своего непосредственного окружения. Конечно, он мог бы остановить свой выбор на госпоже Аршамбо, что было бы куда благородней, а главное – совершенно безразлично ему, Генё. В свои сорок восемь пышнотелая инженерша еще оставалась вполне аппетитной, и уж, во всяком случае, старику большего нечего и желать. Но этот хрыч Ватрен предпочел молодую. Как же Мари-Анн приняла его ухаживания? Физическое влечение отпадает сразу. Сегодняшним девушкам, поклонницам спорта, подавай широкие плечи, мускулатуру, крепкие зубы. Если такой, как Генё, еще мог понравиться малышке Аршамбо, то уж Ватрен – ни в коем случае. Но старикан исхитрился подавить ее авторитетом, околпачить, незаметно прибрать к рукам. С невинной улыбкой рассуждая о математике, он, должно быть, представил ей любовь просто как еще один школьный предмет, этакое упражнение для вступающих во взрослую жизнь, и малышка привычно и старательно подчинилась. Свою ошибку она поняла, видимо, уже потом, на кухне, ощутив на себе взгляд и дыхание молодого мужчины, достойного ее любви, вот тогда-то и пролила слезы.
В такие минуты, когда гнев и ревность туманили ему глаза, Генё не мог помешать себе думать, что ему было бы легко упечь в тюрьму Ватрена, человека, не состоящего ни в какой партии и потому не могущего рассчитывать на чью-либо поддержку, и только совесть, к великой досаде Генё, не позволяла ему использовать свое влияние в личных целях. К тому же нельзя было исключить и того, что учитель не виноват. Ведь все эти заключения основывались лишь на свидетельстве Журдана, а он мог и ошибиться. Наконец, если вспомнить эти глаза, волосы, платье, грудь под лифом платья и прочие совершенства, трудно было поверить, чтобы такая девушка согласилась упасть в объятия старика. С другой стороны, фактор близости…
Генё в последний раз бросил взгляд на окна Аршамбо в надежде увидеть там силуэт Мари-Анн, но в них было пусто. Он поднялся и пошел по тропинке, которая спускалась между зарослей к подножию холма и выводила на обширный пустырь, где каждый первый четверг еще собиралась ярмарка и торговали скотом и мелкой живностью. Сразу за этой ярмарочной площадью некогда начинались первые городские дома.
По воскресеньям после полудня руины становились местом прогулок для множества блемонцев. Среди разрушенных домов бродили бывшие обитатели этих кварталов, пришедшие сюда за воспоминаниями. По большей части то были пожилые люди, тяжелее, чем молодые, переносившие изгнание с улицы, из дома, где они рассчитывали окончить свои дни. Медленно двигались они между рядами развалин, останавливались, узнавая место, где раньше была лавка или дом друзей, пробирались сквозь завалы, чтобы поближе рассмотреть остатки своего жилища на улице, исчезнувшей под грудами обломков. При виде этих нагромождений камня там, где протекало их скромное существование, даже самым бедным казалось, что их изгнали из земного рая, и они подолгу простаивали здесь, воскрешая в памяти уничтоженные катастрофой сокровища повседневной жизни. Спускаясь по тропинке, Генё видел, как то один, то другой из собравшихся в кучки людей протягивает руку, указывая точку в пространстве, где некогда стоял стол или шкаф. Он и сам высматривал на огромном поле развалины дома, дававшего приют его жене и детям, и самый дорогой его сердцу уголок, где он до женитьбы жил с матерью.
Улица Шеврбланш близ ярмарочной площади была раньше узкой и кривой улочкой с облупившимися, заплесневелыми фасадами. В подъездах гуляли холодные сквозняки и пахло сыростью. Последний раз Генё был здесь на следующий день после бомбардировки – тогда разрушенные дома загромождали всю улицу от начала и до конца. Теперь тут уже не было хаоса первых дней. Все рассортировали: мусор вывезли, остатки каменной кладки сгребли в кучи, а балки, брусья, щиты, двери и деревянные обломки растащили на дрова бедняки. Но улица как таковая почти совершенно исчезла: никто не позаботился разгрести завалы хотя бы по ее оси, как это сделали на главных артериях. Остался лишь случайно расчищенный участок, который можно было узнать благодаря мостовой и водоразборной колонке. Как раз на этом отрезке улицы, где он, кстати, родился, Генё повстречал престарелую чету Шеньо. Он знал их с раннего детства – они жили на одной лестничной площадке с его матерью. Старика, длинного и тощего, слегка сутулого, с висячими седыми усами, держала под руку жена, сморщенная старушонка, усохшая до размеров девочки-подростка. Они застыли в молчании у груды камней, как подле могилы. Узнав Генё, старушка обняла его и прослезилась.
– Так это ты, малыш Рене! Сколько ж мы не виделись! Еще сегодня, в полдень, мы с Эмилем вспоминали твою матушку. Тут как посмотреть: бедняжке Анриетте, может, и повезло, что она не дожила до этого светопреставления. Боже мой, Рене, да разве такое мыслимо? Они что, с ума посходили, эти летчики? Мы жили себе тихо-мирно, никому не мешали. С самого девятьсот первого года. А до того ютились на улице Алле в одной комнате: тут тебе и спальня, тут и кухня. Когда я вынашивала Адриену, сыночку шел уже восьмой годок, надо было подыскивать что-то другое. Эмиль в тот год получил место на фабрике, работал сдельно, прилично получал. Да и я приносила в дом деньги: ходила по домам служанкой. Здесь с нас запросили двести франков в год. Не скажешь, что пустяк, но и квартира того стоила. Кухня и две комнаты с настоящим полом. Можно сказать, целых три комнаты. Уж такая хорошая квартира, такая удобная. Колонка прямо напротив дома. Уборная почти что на нашем этаже. И все это… Со всем, что было внутри. В голове не укладывается.
Старик Шеньо, почти совсем глухой, следил за губами жены, силясь разобрать, что она говорит. Госпожа Шеньо, высморкавшись и утерев глаза, надтреснутым голосом продолжала:
– Подумать только, ведь в тридцать седьмом справили новую плиту. Старая-то в двух местах треснула, дымила, уже никуда не годилась, пора было ее менять. Новая прослужила бы нам до самой нашей смерти, да еще и потом самое малое лет десять. Да ты видел ее, Рене!
– Да-да, припоминаю, – ответил Генё.
– Плита с тремя конфорками, с кипятильником и никелированным краником. Эх, да такую красавицу во всем Блемоне не сыскать. Огонь можно было регулировать как вздумается – с помощью тяги. Съедала всего ничего, а уж как грела! Это надо было видеть. Правда, Эмиль?
– Что-что?
– Плита! – привстав на цыпочки, почти в самое ухо мужу прокричала старушка.
– Ах, ну да, плита…
Старики посмотрели друг на друга и печально улыбнулись.
– Плита была что надо, – произнес Шеньо.
– Всегда горячая вода – только кран поверни. Как легко было мыть посуду. Да и раковина была удобная. Помнишь, как у нас все было?
Глаза у старушки заблестели, и она, пританцовывая на месте, принялась тыкать пальцем в одной ей известные точки пространства: «Раковина была здесь… А буфет – вон там, в углу… Тут стоял стол…»
Возбуждение жены передалось и Шеньо, и он тоже вытянул руку и завел: «Там была дверь в комнату, а прямо напротив – окно…»
Они говорили все громче, суетились, расставляли по местам мебель, переходили из комнаты в комнату, даже начали жестами изображать былую жизнь. Старушка вся раскраснелась. И когда вновь заговорила о плите, губы ее задрожали, лицо сморщилось, и она, упав в объятия Шеньо, горько разрыдалась. Старик прижал ее к себе – опьянение слетело с него, но взгляд еще блуждал в пустоте на уровне третьего этажа.
Генё попытался было утешить их, заговорив о перспективах скорого восстановления, но старики не верили в это, да и не хотели верить. Восстановление не вернет им ту квартиру, в которой они прожили сорок три года, – кухню с покоробленным, рассохшимся полом, комнаты с низкими, в пятнах от сырости потолками, с растрескавшимися, трухлявыми панелями. Не вернет ни плиту, ни дубовый шкаф, ни буфет – ничего из того, что стоило им стольких лет труда.
XII
Не прошло и недели, как Максим Делько вошел в их дом, а госпожа Аршамбо уже знала, что он влюблен в Мари-Анн. Но сердиться и не думала. Бедняга так долго промаялся взаперти, что соседство девушки не могло не взбудоражить ему кровь. К тому же эта страсть была заведомо безнадежной, по разным причинам, главная из которых – сама Мари-Анн. Так что госпожа Аршамбо не сердилась на Максима, лишь сожалела, что он остановил свой выбор на дочке, а не на матери. Госпожа Аршамбо никогда еще не обманывала мужа, за исключением одного-единственного раза, когда ездила в Париж, но это произошло буквально под давлением обстоятельств, и обстоятельств весьма щекотливых, так что совесть ее нисколько не мучила. И тем не менее ей представлялось, что она бы не отказалась вознаградить Максима своими милостями, попроси он ее об этом. Этот тридцатипятилетний холостяк, привыкший к порядку, робкий и самолюбивый, должен был, как ей представлялось, относиться к женщинам с большим вниманием и проявлять в обращении с ними необыкновенную деликатность. Он явно не принадлежал к разряду тех краснощеких молодцев, которые, если судить по Аршамбо, занимаются этим машинально, как взбираются на велосипед. Не приходилось сомневаться, что стараниями этого молодого человека ей довелось бы вкусить неслыханного блаженства, приправленного восхитительным ядом сумасбродств. Это было видно по его слегка затуманенному взору, чувствовалось в модуляциях его вкрадчивого голоса. С другой стороны, ей доставило бы удовольствие дать выход потаенным страстям несчастного беглеца, убаюкать его меланхолию, окутать его сладострастной нежностью. С тех пор как он нашел прибежище в доме, госпожа Аршамбо обнаруживала в себе неиссякаемые запасы доброты. И склонялась к мысли, что нет ничего приятнее, чем быть великодушной.
Глава семьи, разумеется, и понятия не имел, что Максим Делько влюблен в его дочь. Мужчины никогда не знают, что происходит в их собственном доме. Да и знают ли они, что происходит вне его стен? Госпожа Аршамбо сильно в этом сомневалась. Только женщины способны видеть вещи в их истинном свете. У мужчин обо всем лишь приблизительное представление. Спросите-ка у любого, какой рисунок на обоях в его комнате, и он не найдет что ответить. Во всяком случае, что касается ее мужа, то правильность этого суждения подтверждалась на каждом шагу. К примеру, он ежедневно, водрузив очки на нос, по часу читал газеты, но стоило ей спросить, что он думает об аресте адмирала или о заявлении Сталина, как Аршамбо только глазами хлопал. Он прочитал газету от корки до корки, но не обнаружил в ней ни ареста адмирала, ни заявления Сталина, вообще ничего конкретного. То ли во время чтения, то ли сразу же после него в голове у Аршамбо вырабатывалось некое общее представление о прочитанном, весьма расплывчатое, но, впрочем, и этого хватало, чтобы испортить ему настроение. Супруга же его, прочитывавшая в газетах одни заголовки, была куда лучше осведомлена в местных, национальных и мировых новостях. С домашними делами все обстояло еще хуже. Собственных детей Аршамбо знал лишь в той мере, в какой жена открывала ему на них глаза. Да и когда ему давали прикоснуться к истине, она не удерживалась у него в голове и очень скоро он подменял ее некими собственными представлениями о Мари-Анн и Пьере. Впрочем, госпожа Аршамбо и не считала нужным держать его в курсе и даже находила весьма удобным, чтобы он оставался в полуневедении относительно домашних реальностей.
Однажды вечером, на восьмой день пребывания Максима Делько в доме Аршамбо, семейство складывало после ужина салфетки. Было жарко, и дверь в комнату оставили открытой, чтобы тянуло сквозняком. Мужчины были без пиджаков, и Делько в сравнении с Аршамбо и даже с Пьером из-за узкого торса и покатых плеч выглядел этаким изголодавшимся поэтом. Из-за этой его щуплости госпоже Аршамбо казалось, что она в один прекрасный день легко сможет овладеть им. Низкий вырез ее летнего платья в белый горошек щедро открывал взору верхнюю часть ее наливных грудей с глубокой ложбинкой между ними. Максим не мог не заметить выставленного напоказ изобилия, но был слишком поглощен Мари-Анн, чтобы проявить к этому какой-то интерес. Хотя он никогда не считал себя рьяным поклонником кинематографа, его познания по части кинозвезд оказались почти неисчерпаемы, и он рассказывал о них уверенней любого подписчика «Синемонд», чем снискал уважение Мари-Анн. Установленную на первых порах жесткую дисциплину соблюдать перестали, и за столом никого уже не обрекали на молчание. Риск, похоже, уменьшился. В первые два дня после бегства Делько полиция и жандармерия получили в общей сложности десятка три анонимных доносов на граждан, якобы укрывавших предателя. После этого фейерверка дело, судя по всему, предали забвению: разговоры о нем прекратились.
Аршамбо надел пиджак и, как обычно, объявил, что выйдет прогуляться. Пьер удалился в спальню и затворил дверь. Приближался экзамен, и он до поздней ночи готовился. Женщины отправились мыть посуду, и Максим Делько остался в гостиной один. Неподалеку от него, за дверью, учитель Ватрен в ожидании часа Урана, проверял, должно быть, письменные работы. Делько было нечего делать и ожидать тоже нечего. С Ватреном или Аршамбо он мог поговорить о проблемах оккупации – оправдывался, подыскивая новые доводы и увлекаясь спором. Когда же он оставался один, все эти оправдания, доводы утрачивали свое значение и даже смысл, как фишки, предназначенные для игры с партнерами. Проблемы уже не вставали перед ним, и совесть его пребывала в оцепенении. Какая разница, правильным или неправильным, полезным или вредным было его сотрудничество с немцами. Оно давило на него тяжким грузом, как Уран на учителя, но без надежды проснуться. Аршамбо не будут держать его у себя вечно. Да он и сам не сможет долго сидеть у них на шее, быть им обузой. Когда настанет время уйти, у него не будет ни сил, ни желания искать очередное ненадежное убежище. Он явится с повинной в полицию. Судьи, давно переставшие верить в справедливость, глухие к голосу совести, с безразличием отправят его на смерть, рассчитывая на то, что его труп добавит им народного уважения. И перед этим невозмутимым трибуналом, перед этими сурово нахмуренными лбами, на которых уже можно будет прочесть приговор, он все равно будет лелеять несбыточную надежду. Он почтительно примет правила игры, будет послушно соблюдать все процессуальные нормы, помогать членам высокого суда искать истину там, где любой другой нашел бы способ упрятать ее поглубже. Впрочем, ему совершенно ни к чему пытаться нарушить ход спектакля под названием казнь. Даже если бы это могло склонить в его пользу чашу весов правосудия, он и тогда не сумел бы исторгнуть наружу тот вопль, который держал глубоко в себе с тех пор, как вступил в возраст, когда человек уже умеет страдать. Вопль, в котором излилась бы вся накопившаяся в нем тоска; а породило ее одиночество: одиночество ребенка, помыкаемого бедными и суровыми родителями, одиночество школьника, над замкнутостью и неловкостью которого потешаются соученики, робость юноши перед девушками, разочарование мелкого служащего, который хотел любить братьев по несчастью, разочарование поэта, просветителя – и опять одиночество, с годами становящееся все горше, все неизбывней, одиночество и, боже мой, гордыня. Судьи рассмеялись бы ему в лицо, скажи он им правду: что, сотрудничая с создателями Бухенвальда, он рассчитывал вырваться из одиночества и раствориться в любви и самоотречении. Трибунал вынесет смертный приговор, и это будет к лучшему. Когда тебя приговаривает к смерти, отторгает, признает недостойным жить целый народ – вот подлинное одиночество. В ожидании этого ты, несчастный изгой, которого приютили из жалости и над которым, должно быть, втайне потешаются, безнадежно влюбился в восемнадцатилетнюю фею. Только этого тебе и не хватало перед тем, как картину твоего нечеловеческого одиночества довершит последний штрих: тебя привяжут к позорному столбу и оставят одного под нацеленными в упор ружейными дулами. Ни солдаты, которые расстреляют тебя, ни белокурая девушка не узнают, что ты их любил.
Из кухни до него донесся шум ссоры. То был пик вот уже полчаса происходившей между женами Аршамбо и Генё перебранки по поводу засорившегося стока в раковине. В столовую вошла Мари-Анн с горкой тарелок и водрузила ее на стол.
– Давайте я поставлю тарелки в буфет, – предложил Делько.
– Да, спасибо, – ответила Мари-Анн, – так я быстрее управлюсь.
Выходя, она включила свет. Делько отодвинул шкафчик и кресло, чтобы можно было подойти к буфету, и принялся ставить тарелки. В кухне шум продолжал нарастать. Максим услышал голос Марии Генё, сыпавшей отборной бранью. Мари-Анн еще два раза приходила из кухни в столовую. Они вместе уложили столовое серебро в ящик и расставили на полке стаканы.
– Для мужчины вы справляетесь с этим совсем неплохо, – заметила Мари-Анн.
– Не хочу вас обидеть, но у меня в этом деле опыт, наверно, побольше вашего: всю домашнюю работу я почти всегда делал сам.
– Вы никогда не были женаты?
– Нет, – ответил Делько.
Они придвинули шкафчик и кресло назад к буфету и оказались лицом друг к другу. Мари-Анн не удивилась бы, если бы он объяснился ей. Она ждала этого со дня на день и для себя уже решила недвусмысленно лишить его всяких надежд, но смягчить отказ выражением дружеской симпатии. К тому же она считала маловероятным, чтобы он вообще мог понравиться кому-нибудь из ее сверстниц, и в его присутствии чувствовала себя в безопасности. Не будь он так явно влюблен в нее, ей было бы приятно поболтать с ним и даже пооткровенничать. К примеру, она могла бы спросить у него совета, как ей поставить себя с Мишелем Монгла. Быть может, он подсказал бы ей и как держаться с Генё, который после той встречи на кухне ждет продолжения и вряд ли поверит, если она честно ответит, что сама не понимает, отчего была тогда так податлива. Но, увы, на эти темы с Делько не поговоришь. С ним было тяжко оставаться наедине – слишком красноречив был его хмурый, подернутый пылкой печалью взгляд. Мари-Анн побаивалась выдать свою жалость и чувство неприязни, которое внушала ей мерцающая в этих скорбных глазах любовь. Глядя на Делько, девушка с особым удовольствием вспоминала жизнелюбие этой туши Мишеля Монгла, его плотоядный смех и грубый цинизм.
Делько заговорил о том, как хорош нынешний вечер и как чуден в лунном свете берег реки. Объясняться он, похоже, не собирался.
– Простите меня, – перебила его Мари-Анн, – но сегодня я проехала на велосипеде километров тридцать по жаре и сейчас валюсь с ног.
Делько проводил ее глазами до самой двери и сел в кресло. Его взгляд случайно остановился на «Благовещении», висевшем на стене у изголовья супружеской кровати Аршамбо. То была старая гравюра в духе итальянского Возрождения, но раскрашенная резко, как оконный переплет: святая Дева внимает ангелу-благовестнику, прелестному кудрявому подростку, который говорит, опустив очи долу и прижав ладони к груди. Ей наверняка открылось все величие обещанного, потому что радость ее серьезна, взгляд задумчив. Делько мысленно перенес эту сцену на себя. Вот он сидит на кровати в комнате Ватрена в час, когда на развалины Блемона спускаются сумерки. В окно влетает ангел, чтобы обрадовать его важной новостью. Но он, Делько, холоден и не испытывает радости. Уязвленный его равнодушием, ангел настойчиво твердит: «Да поймите же, господин Делько: свобода, я возвещаю вам свободу!» И широким жестом обводит небо и поля. «Нужна мне эта свобода, как собаке пятая нога», – недовольно бормочет Делько. Внезапно ангел сгинул: в столовую вошла госпожа Аршамбо.
– Гнусное создание, – проговорила она, все еще разгоряченная ссорой. – Настоящая мегера. Возможно ли, чтобы в одном человеке вмещалось столько злобы, глупости, хамства? И подумать только, ведь эти люди претендуют на то, чтобы управлять страной! Это неслыханно, господин Максим.
– Действительно, неслыханно, – из вежливости поддакнул Делько.
– Муж говорит, я не подобрала ключ к этой женщине, мне недостает простоты, я слишком кичусь превосходством своего происхождения. Смешно. Во мне нет ни гордыни, ни каких бы то ни было предрассудков. Разумеется, если бы я пресмыкалась перед этим солдафоном в юбке, потакала всем ее прихотям, она, может, и простила бы мне то, что я все еще занимаю часть собственной квартиры. Но, думаю, нет нужды говорить вам, что пресмыкаться я не собираюсь. Как по-вашему, я права?
– Ну конечно же.
Делько поднялся с кресла. Взгляд его был рассеян: он продолжал думать об ангельском создании, которое только что обратил в бегство. Собственному поведению он не удивлялся. Лишь с горьким удовлетворением констатировал, что утратил даже способность лелеять в себе надежду.
– Какой у вас печальный вид, господин Максим, – заметила госпожа Аршамбо.
– Это верно, настроение у меня отнюдь не лучезарное, – пробормотал он. – Простите меня.
Делько понурил голову и принялся разглядывать свои крупные костлявые руки, которыми упирался в столешницу. Госпожа Аршамбо приблизилась к нему и сочувственно вздохнула, стараясь, чтобы ее пышная грудь оказалась у него под самым носом. Испугавшись того, что сейчас польются слова утешения, Делько решил упредить события, но нетерпение и спешка не позволили ему как следует обдумать свою тираду.
– Госпожа Аршамбо, вы были очень добры ко мне, и все остальные тоже. Я чрезвычайно благодарен вам, но мне нужно уходить. Я не могу больше оставаться здесь обузой, быть помехой и подвергать вас бессмысленному риску. Это слабость с моей стороны и большая непорядочность, поскольку я не имею никакой надежды избежать уготованной мне судьбы, да и не только этого. Благодарю вас от всего сердца и прошу передать господину Аршамбо, как сильно тронуло меня его великодушие. Я прощаюсь с вами и вашими близкими.
Выпалив все это одним духом, он зашагал к двери в коридор, но госпожа Аршамбо успела его опередить и, ласково и крепко обхватив за талию, повлекла назад, в глубь столовой.








