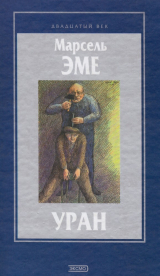
Текст книги "Уран"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Молодые люди заговорили о киноактерах: Гари Купере, Мишлине Прела, потом о Жане Маре. Оказалось, Жан Маре очень нравится госпоже Аршамбо. Мари-Анн отпустила по его адресу весьма нелестные замечания. Призванный высказать свое мнение, отец заявил, что считает его выдающимся артистом, но очень скоро выяснилось, что за Жана Маре он принимает Жюля Берри. Спустилась ночь. Дали свет. После ужина Аршамбо по своему обыкновению облачился в пиджак и вышел на улицу подышать воздухом.
III
Ночь была темна, безлунна, и вдобавок за время ужина небо затянуло тучами, скрывшими звезды. Напротив дома в развалинах перемещались огни, но Аршамбо не придал этому особого значения, успев погрузиться в прерванные размышления. Он думал обо всех этих лицемерах, к числу коих относил и себя; их ничто не вынуждало скрывать свои убеждения или притворяться, будто они разделяют чужие. Выйдя за пределы Блемона, он рассмотрел этот вопрос в масштабах департамента, а затем и всей нации в целом. Теперь счет лицемерам шел на миллионы. Все провинции Франции, все деревни, большие и малые города кишели этими двуличными людьми, легко узнаваемыми по несколько стесненной манере держаться, по слащавому тону, по искусству использовать в разговоре молчание, по примирительным и угодливым, как у нижних чинов, улыбочкам. Эти миллионы граждан, думал он, пытаясь хоть как-то их оправдать, были поставлены перед необходимостью выбирать из политических партий, которые гневно осуждали все то, что они прежде считали и продолжают считать истинным и разумным. Однако политический аспект проблемы менее всего интересовал Аршамбо. Гораздо больше занимали его те затруднения, которые создавались таким положением в повседневной жизни, а также связанные с этим моральные и психологические перекосы.
Обутый в парусиновые туфли на веревочной подошве, Аршамбо ступал бесшумно. Поглощенный размышлениями, он все же смутно осознавал, что в городе происходит нечто необычное для столь позднего часа. Пересекая большой перекресток, он услышал звук шагов, оклики и внезапно оказался в луче света, который погас лишь после того, как довольно долго задержался на нем. Маршрут вечерних прогулок Аршамбо был неизменен. Вот и сейчас он направился по проспекту Аристида Бриана, который двумя рядами развалин спускался к реке. Там среди руин тоже метались огни, и люди перекрикивались во тьме. Это оживление было по меньшей мере непривычным, но он не удивился ему. В подвалах разрушенных домов ютилось немало семей, и, в конце концов, в том, что в десять часов вечера город еще не затих, не было ничего невероятного. Аршамбо вернулся к своим мыслям. Волна лицемерия, которая, как он считал, захлестнула Францию, приобретала в его глазах исполинские размеры. То, что вся пресса дружно притворяется, будто не знает о существовании миллионов людей, придерживающихся подобных взглядов, или же сводит их число к нескольким десяткам тысяч отщепенцев и глупцов, являло собой чудовищную ложь. Он пришел к заключению, что одна часть Франции идет на всяческие ухищрения, чтобы скрыть свои убеждения, тогда как другая делает вид, будто считает, что определенного образа мышления в стране не существует и не существовало никогда.
Дойдя до моста, конечной точки маршрута, Аршамбо склонился над парапетом, чтобы ощутить на лице идущую от реки прохладу. До него доносился плеск гонимой течением воды – она разбивалась о каменные опоры, – но ночь была так черна, что он ничего не видел. Небо и гладь реки озарились вспышкой молнии, послышалось далекое еще ворчание грома. Все более волнуясь, Аршамбо перебирал в уме горькие слова: национальное лицемерие, ханжество, двуличие, ложь, наушничество. Внезапно в спину ему уперлись два винтовочных ствола, и звонкий голос разорвал тишину:
– Руки вверх, подонок, или простишься с жизнью.
Он поднял руки, и на миг у него мелькнуло чувство, будто его застигли на месте преступления, как если бы его крамольные мысли могли быть прочитаны на расстоянии. Потом он попытался заговорить, но один из напавших оборвал его:
– Заткнись… Луи, зажги-ка фонарь. А ты не шевелись. Одно движение, и я стреляю… Ну где же твой фонарь?
– Похоже, сломался.
– Позовем остальных… Эй! Сюда! Мы его поймали! Эге-ей!..
Голоса у неизвестных были молодые. Аршамбо решил, что имеет дело с бойцами ФФИ[1]1
ФФИ – Французские внутренние силы, один из вооруженных отрядов Сопротивления.
[Закрыть], и не особенно встревожился, полагая, что случилось небольшое недоразумение. Однако молодые люди проявляли чрезвычайную нервозность и с такой силой упирали стволы ему в спину, что она заныла. «Только бы эти болваны не нажали на спусковой крючок», – подумал он. На их крики отозвались другие, послышался звук шагов, и у входа на мост зажглись огни. Подошедшие направили на всю группу лучи фонарей.
– Тут ошибка, – сказал один голос. – Это Аршамбо, инженер с завода.
– Да, это Аршамбо, – подтвердили другие.
Двое бойцов по-прежнему упирали винтовки в спину инженера. Он опустил руки.
– Интересно, что этот тип забыл на мосту в такое время? – со злобным недоверием спросил один.
– Я гуляю, как делаю это обычно после ужина. Что, теперь уже и прогуляться нельзя? Что происходит?
– Не ваше собачье дело.
– Так вы арестовали меня или все-таки отпустите, хотел бы я знать?
– Не умничайте. Это может вам дорого обойтись.
Яркая вспышка воспламенила половину неба. Благодаря ей Аршамбо увидел одного из бойцов ФФИ, юношу лет шестнадцати-семнадцати, и пятерых мужчин, пришедших на подмогу, среди которых один был жандарм. Раскат грома заглушил звук голосов. До моста долетел порыв свежего ветра. Жандарм, выйдя из тени, вошел в свет фонаря и обратился к бойцам доверительным, вкрадчивым тоном, явно стараясь не всколыхнуть ненароком их подозрительности.
– Если вы не откажетесь выслушать мое мнение, то, право же, нет никакого смысла задерживать этого человека. Он действительно каждый вечер здесь гуляет. На мой взгляд, у нас есть дела поважнее, чем заниматься им. И вообще, арестовывать господина Аршамбо, который известен всему городу, нам было бы не с руки. Вы ведь тоже так считаете?
Вопрос жандарма повис в воздухе, но винтовки бойцов все-таки опустились. С чувством облегчения Аршамбо обернулся к своим стражам. Они продолжали хранить молчание, и по их поведению было не ясно, можно ли ему уходить.
– Что ж, возвращайтесь к себе, – сказал жандарм.
Фонари погасли, и Аршамбо пошел прочь, слыша за спиной разговор, вдруг ставший оживленным. Он шел быстро, спасаясь не только от грозы, но и от оставшихся позади молодчиков – вдруг им взбредет в голову снова его задержать. Молнии теперь уже регулярно выбеливали развалины и шоссе. При каждой вспышке Аршамбо ждал, что вот сейчас его окликнут и догонят люди с винтовками. Спина до сих пор ныла от тычков ствола. Он с гневом думал, как безобразно вели себя бойцы ФФИ, называя их про себя головорезами. Эти юнцы, которые, похоже, участвовали в полицейской облаве на какого-то коллаборациониста, наверняка знали, кого именно ловят. И тем не менее, после того как его, Аршамбо, личность была должным образом установлена, все же никак не хотели отпускать его на свободу. Слишком большое удовольствие доставляло им, мерзавцам, держать человека на мушке, всеми силами уповая на случай, который дал бы повод спустить курок и вогнать свинец в живую плоть. Подонки. Уж они-то не лицемерят. Они дают вволю разгуляться своим низменным инстинктам. На этот счет у многих открылись глаза в час Освобождения, но никто не восстал против скоропалительных расправ и мародерства. Все аршамбо города, все обладатели благородных сердец и чистой совести, пряча страх под маской одобрения, наблюдали за казнью другого молодого мерзавца, доносчика Леньеля, которого бойцы ФФИ поставили к стенке в присутствии его отца и матери, после того как вырвали у него глаза и заставили обойти на коленях центральную площадь.
Отвлекшись от мыслей о юных агрессорах, Аршамбо перенес свой обличительный пыл на все движение Сопротивления в целом. Он как раз собирался предъявить обвинение генералу де Голлю, когда, пересекая большой перекресток, услышал шаги человека, который подошел к нему и осветил фонарем. После этой проверки незнакомец, не сказав ни слова, выключил фонарь. Не зная за собой никакой вины, инженер тем не менее чувствовал себя дичью, на которую ведется охота, – ощущение было не из приятных. «В общем, – сказал он себе, – мы вернулись ко временам комендантского часа. Что ж, больше по вечерам выходить не буду. В конечном счете те, из Сопротивления, правы. Человек, который шатается вечером по улицам под предлогом моциона, выглядит подозрительно. За решетку сажали и за меньшие прегрешения». Свернув в крытый проход, ведущий к его подъезду, он слегка устыдился того, что так раздул происшествие, достойное разве что усмешки. Ведь в своем кругу он пользовался репутацией человека весьма уравновешенного, и даже если то была лишь видимость, за которой скрывалась другая правда, все равно вряд ли у кого повернулся бы язык сказать, что он склонен к запальчивым суждениям и поспешным выводам.
Дойдя до конца прохода, он нажал кнопку автомата освещения. Под навесом из оцинкованного железа жильцы дома держали велосипеды, баки для кипячения воды, игрушечные машины и пустые ящики. Аршамбо направился к лестнице и вдруг увидел выходящего из-за баков человека. Он не сразу узнал Максима Делько, некогда служившего на его заводе, а при немцах ставшего редактором газеты в окружном центре. По бледному, изможденному лицу, блуждающему взгляду и изношенной одежде, болтавшейся на исхудавшем теле, Делько можно было дать все сорок пять лет, тогда как в действительности ему не было и тридцати пяти. С туфлями в руках, прихрамывая, он выступил вперед и пролепетал:
– Господин Аршамбо, спасите меня.
При виде преследуемого человека Аршамбо испытал глубокое волнение и, сам еще не успевший прийти в себя от неприятных переживаний, живо представил себе ужасы, через которые, должно быть, прошел несчастный беглец. Впрочем, он тотчас постарался взять себя в руки и не поддаться порыву жалости. Не зная в точности, какого рода деятельностью занимался Максим Делько при оккупантах, он все же помнил кое-какие его статьи, и в частности одну, на все лады восхвалявшую гитлеровский режим. Не чувствуя себя ни в коей мере солидарным с этим человеком, Аршамбо осуждал его за то, что тот видел в коллаборационизме средство подчинить Францию, тогда как для него, Аршамбо, это было средство защиты.
– Спасите меня, – тихо повторил Делько, умоляюще глядя на инженера.
– Я могу лишь дать вам совет, – пробормотал тот. – Сдайтесь властям.
Лицо беглеца, которое до сих пор оживляли надежда и мольба, застыло. Словно покоряясь судьбе, он понурился. У инженера перехватило горло.
– Во времена оккупации, – сказал Делько уже громко и не глядя на него, – если бы вы увидели меня тонущим в реке, то протянули бы мне руку.
Аршамбо не ответил. Он не чувствовал себя вправе затевать спор с приговоренным к смерти и уж тем более попрекать его чем бы то ни было. Несколько мгновений они молча стояли друг против друга, потом услыхали, как в другом конце прохода открывается дверь – возвращался домой кто-то из жильцов. Дверь захлопнулась. Делько пошевелился. Аршамбо взял его под руку и шепнул: «Пойдемте». Один был в мягких туфлях, другой вообще в носках, так что по лестнице оба взбирались бесшумно. Они были уже на втором этаже, когда прямо под ними раздались шаги жильца, и он включил освещение, которое только что перед этим погасло. Из-за ушибов, полученных при падении в развалинах, Делько поднимался с усилием, но быстро. «Если нас заметят Генё, – подумал Аршамбо, – нам крышка». Войдя в коридор, он увидел, что в кухне горит свет. Дверь в нее была, как всегда, открыта, так что предстояло преодолеть ярко освещенный участок. К этому часу в кухне обычно оставалась только госпожа Аршамбо, но осторожность требовала действовать так, как если бы Мария Генё была еще там. Он загородил собою Делько и, приноравливаясь к его шагу, пересек с ним зону света, не поворачивая головы. Навряд ли человека рядом с ним кто-нибудь заметил, иначе не миновать бы беды. Открыв дверь в столовую, Аршамбо подтолкнул беглеца вперед и увидел жену за шитьем. Мари-Анн подстригала ногти.
IV
Учитель Ватрен соскочил с кровати без четверти семь, минут пять постоял у окна в ночной рубашке, созерцая природу в свете утреннего солнца, и, натянув кальсоны, отправился к туалетному столику. Умывшись, он увидел большого шмеля, с жужжанием бьющегося о стены и мебель. Учитель устремился за ним в погоню, смеясь и напутствуя его, пока насекомое, обнаружив наконец окно, не вылетело наружу. Ватрен надел брюки, обулся и снова принялся любоваться пейзажем. Потом в рассеянности взял стоявший на углу стола глобус. Когда Аршамбо, постучавшись, вошел, он держал его на руках, как мать дитя.
– Доброе утро, Ватрен. Извините меня…
– Доброе утро. Погода сегодня такая же замечательная, как и вчера.
Но погодой Аршамбо, похоже, нисколько не интересовался. Ватрен указал ему на развалины, залитые утренним светом:
– Поглядите. Я уверен, что там, среди них, полным-полно ящерок.
– Вполне возможно. Скажите, вы можете уделить мне пять минут? Мне нужно кое о чем вас попросить.
– Я к вашим услугам. Садитесь.
Вместо того чтобы сесть, Аршамбо приблизился к учителю и заговорил ему чуть ли не на ухо:
– Вы случайно не знали до войны некоего Максима Делько? Он был служащим заводоуправления. Помните, он публиковал книжечки стихов. Еще он выступал с докладами в зале торжеств. Основал кружок чьих-то там друзей.
– Друзей Прудона. Да-да, припоминаю. Но это же он во времена оккупации возглавлял ту газету…
– Совершенно верно. Его разыскивает правосудие, а там приговор и расстрел. Сразу после Освобождения он спрятался у нас в городе, у людей, которые живут в подвале одного из разрушенных домов. Там он прожил восемь месяцев, выходя подышать воздухом только ночью. Не знаю, то ли приметил его кто-то, то ли на него донесли, но так или иначе вчера за ним пришли к приютившим его людям. Ему удалось сбежать через подвальное окно, и, поскольку ночь стояла темная, он мог бы, если б обладал бо́льшим хладнокровием, укрыться в лесу. Правда, на хвосте у него висели бойцы ФФИ, жандармерия и полиция, не считая многочисленных добровольных помощников. В итоге он подвернул ногу, карабкаясь по камням. Короче, вчера вечером, когда я вышел прогуляться, он прятался за углом скобяной лавки. Было темно, хоть глаз выколи, но, услышав, как я выхожу, и воспользовавшись тем, что я оставил дверь приоткрытой, он проскользнул в проход. Возвращаясь домой, я обнаружил его в подъезде.
– И что дальше? – возбужденно спросил Ватрен.
– Дальше я оказался в серьезном затруднении. Я мог выдать его жандармам, как сделал бы на моем месте любой истинный патриот. Я мог предоставить ему выкручиваться самому, и это, вероятно, было бы самым мудрым. Или же, наконец, выручить его из беды. Что я и сделал. Он здесь, у меня. Спит в комнате детей. Пьер делит с ним постель. Не знаю, как долго он пробудет у нас на шее…
– Невозможно его выставить, не подыскав ему прежде надежного убежища, – решительно заявил Ватрен, надевая пиджак.
Он увидел, как скривилось лицо инженера, и с разочарованием отметил, что тот без особого энтузиазма воспринимает приключение.
– Все это чрезвычайно обременительно, – пробормотал Аршамбо. – Я говорю не о тех неудобствах, которые он причинит нам, а о том, как трудно прятать его в наших двух комнатах. Вы не представляете себе, какую массу мелких проблем ставит перед нами его присутствие. Малейшая неосторожность, рассеянность, и все пропало. И соседство Генё тут ни от чего не оградит. Напротив, в нем-то и кроется главная опасность.
– Если я могу быть вам полезен…
– Можете. Бывают обстоятельства, когда его необходимо убрать с глаз. Гости к ужину, просто чей-то визит. Да вот хотя бы сегодня утром: в девять приходит служанка и будет, естественно, сновать из одной комнаты в другую. Вы не позволите нашему беглецу укрыться у вас до полудня?
– Ну разумеется. Нечего и спрашивать. Пусть приходит ко мне когда захочет, неважно, дома я или нет.
– Спасибо, Ватрен. Вы оказываете мне неоценимую услугу.
– Не беспокойтесь, все пройдет благополучно, – сказал Ватрен и добавил смеясь: – Главное, не вешайте носа. Подумайте о том удовлетворении, какое вы теперь будете находить в лицемерии.
Аршамбо посмеялся вместе с ним, но больше из вежливости, и покинул комнату с озабоченным выражением лица. Ватрен посвятил пять минут уборке постели и прочим мелким делам и в свою очередь вышел из комнаты, прихватив с собой кипу проверенных письменных работ.
Единственная уцелевшая от бомбежки часть Блемона представляла собой островок из дюжины улиц. Плотности населения тут почти утроилась в сравнении с прежней, так что в утренние часы, когда блемонцы шли на работу, весь квартал наполнялся гулом спешащей толпы. Ватрен вышел на площадь Святого Евлогия и направился в кафе «Прогресс», неказистое с виду заведение с полусгнившим, трухлявым, хоть и свежевыкрашенным коричневой краской фасадом. Внутри же, где царил запах плесени, было чисто и довольно светло. Посреди зала толстый брус подпирал потолок, который без этого уж давно рухнул бы на столики. За стойкой Леопольд, хозяин заведения, вместе с женой обслуживал утренних клиентов, пришедших пропустить стаканчик марка[2]2
Марка́ – вино из виноградных выжимок.
[Закрыть] или чашечку суррогата под названием «национальный кофе». Бывший ярмарочный борец, Леопольд обладал чудовищно развитым торсом и глубоко утопленной в плечи огромной лысой головой. Одутловатая багровая физиономия свидетельствовала о его неумеренном пристрастии к спиртному. Перед войной он славился силищей на всю округу и на потеху посетителям еще и сейчас, когда бывал в ударе, мог отгрызть зубами горлышко бутылки из-под шампанского. Ватрен облокотился на стойку рядом с подмастерьем парикмахера по имени Альфред, которого донимали три других посетителя. Один из них как бы от имени остальных с неприкрытой злобой угрожал:
– У-у, падла, мы тебя прикончим. Слышь? И мокрого места не останется.
– Ну-ну, полегче, – сказал Леопольд.
Подмастерье парикмахера, высокий худосочный блондин с покатыми плечами, угрюмо помалкивал, опустив глаза.
– Уж ты-то, наверно, знаешь, где Максим Делько. Бошей ты подстригал с радостью, улыбался направо и налево. Ну, подлюга, скоро мы тебя шлепнем.
– Эй вы, полегче, – вновь одернул их Леопольд.
– Мразь такая, перед девками ходил гоголем. Погоди, я до тебя доберусь. Сверну твою поганую шею, так и знай.
– Ну-ну…
Альфред упорно отмалчивался. Хозяйка, маленькая, седая, с изможденным морщинистым лицом, подала ему «национальный кофе». Он попытался было взять чашку, но рука его дрожала так сильно, что ему пришлось от этого отказаться. Ватрен дружески похлопал его по плечу.
– Не огорчайтесь, старина. Все это в шутку. Этот господин сам не верит ни единому своему слову.
Альфред вяло улыбнулся, зато его обидчику вмешательство Ватрена явно пришлось не по вкусу.
– А вы, жердина долговязая, – сказал он учителю, – лучше помалкивайте себе в тряпочку. Я не допущу, чтобы…
Досказать он не успел. Леопольд перегнулся через стойку, сграбастал его за шиворот, оторвал от пола и, удерживая на весу, прорычал:
– Что я слышу? Ты осмелился назвать господина Ватрена жердиной долговязой? Ты осмелился проявить неуважение к преподавателю блемонского коллежа? Ну-ка, гони монету и катись отсюда колбасой!
Задыхаясь в железной хватке кабатчика, бедняга выкатывал глаза и дергался, пытаясь достать ногами пол. Двое его приятелей предприняли робкую попытку за него вступиться. Да и сам учитель призвал к снисхождению.
– Ну уж нет! Я никому не позволю оскорблять господина Ватрена! К тому же вам обоим должно быть стыдно, что вы аж втроем набросились на такого жалкого беззащитного идиота, как Альфред. И поимейте в виду: если я узнаю, что кто-то из вас тронул хоть волос на его голове, буду считать это своим личным делом. Вдолбите это себе в черепок. А ты давай плати и проваливай!
Все еще плененный ручищей Леопольда, недавний задира, едва оказавшись на ногах, вытащил двенадцать франков. Бледный от ярости и унижения, он судорожно сглатывал воздух, буравя кабатчика убийственным взглядом. Еще как следует не отдышавшись, он хриплым голосом проговорил:
– Запомни, что я тебе скажу…
– Вон из моего заведения, алкоголик! – рявкнул Леопольд, указывая на дверь.
Опасаясь возобновления взбучки, тот молниеносно ретировался. Леопольд налил себе большой стакан белого вина и осушил его залпом. Время подходило к восьми, и последние посетители заторопились уйти. Когда Ватрен остался у стойки один, хозяйка принесла ему чашку настоящего кофе и тартинку с маслом.
– Послушайте, – сказал учитель, – за что они взъелись на этого несчастного?
– А-а, все из-за юбок, – ответил хозяин. – Послушать их, так получается, что Альфред был правой рукой Гитлера, хотя правда в том, что при всей своей придурковатости и с помятой физиономией Альфред пользуется бешеным успехом у женщин, и кое-кому, естественно, завидно.
В кафе вошел господин Дидье, коллега Ватрена, и устроился рядом с ним у стойки. Принятый со всем радушием, он тоже удостоился настоящего кофе и тартинки.
– Возьмите, к примеру, Рошара – того, кому я сейчас вправлял мозги. Он облизывается на вдову старшего мастера. Но ей-то как раз рабочие не по нраву. Ей подавай человека с приличной профессией, с деликатным обхождением, а у Альфреда и завивка, и перманент на дому, и пальчики ласковые, вот и кумекайте.
Тем временем в кафе начали заходить подростки лет тринадцати-пятнадцати с книжками и тетрадками под мышкой и, здороваясь с учителями и хозяевами, рассаживались за деревянными столиками. Дело в том, что блемонский коллеж тоже разбомбили, и муниципалитет реквизировал для занятий учеников несколько кафе – по утрам с восьми до одиннадцати и днем с двух до четырех. Посетителей в эти часы все равно практически не бывало, так что особого ущерба владельцы не несли. Тем не менее сам факт, что кто-то вздумал распоряжаться его заведением, возмутил Леопольда до глубины души, и площадь Святого Евлогия сотрясалась от его громовых проклятий. Весь первый день, когда ученики расположились за столиками «Прогресса», он проторчал за стойкой, всем своим видом показывая, что не допустит посягательств на свои бутылки. Однако быстро пробудившееся любопытство побороло злость, и Леопольд стал прилежнейшим из учеников. Его интересовало буквально все – даже то, чего он не понимал. Он с благоговением ловил каждое слово, слетавшее с губ учителя. Правда, на уроках математики он лишь восхищенно изумлялся, а та малость, которую ему удалось вынести с уроков истории, смешалась в его голове в невообразимую кашу. Иначе обстояло дело с уроками французской литературы: Леопольд, хотя и плутал порой в дебрях комментариев, уверенно чувствовал себя среди авторских текстов.
– Я побежал, – сказал Ватрен. – Меня ждет урок математики в «Золотом яблоке».
– Но ведь скоро еще увидимся? – спросил Леопольд.
– Да, в десять у меня урок с самыми старшими, с первоклассниками.
Когда Ватрен вышел, у стойки за чашкой кофе остался только учитель Дидье – старый человек, печальный и усталый, который вернулся к преподаванию с началом войны. Он давно уже не верил в полезность своего предмета и частенько говаривал коллегам, что будущим офицерам запаса и избирателям вовсе не требуется так напрягать мозги. Сколько бы он ни всматривался в события, в сердца и умы, ему не удалось обнаружить там ни следа латыни и бессмертной классики, которые он так щедро расточал на протяжении сорока лет.
– Выходит, господин Дидье, сегодня вы начинаете?
– Да, у меня французский с третьим классом.
– «Андромаха», верно? – осклабясь, спросил Леопольд. – «Андромаха» – это замечательно. Верно, господин Дидье?
Из-под очков в металлической оправе учитель поднял страдальческий взгляд на неохватную багровую физиономию кабатчика. У него не хватало духу признаться, что от многолетнего пережевывания Расин и прочие классики сильно поблекли в его глазах, превратившись всего лишь в темы домашних заданий по литературе.
– Вы правы, господин Леопольд, «Андромаха» – это замечательно. Ну, мне, наверное, пора начинать.
Леопольд удостоверился, что третий класс присутствует на занятиях в полном составе. Учеников было двенадцать: четыре девочки и восемь мальчишек. Все они сидели к стойке спиной. Пока учитель шествовал на свое место в глубине зала, владелец кафе вынул из входной двери ручку, чтобы оградить урок от случайного вторжения. Вернувшись к стойке, он тяпнул еще стакан белого и уселся на табурет. Учитель Дидье сидел лицом к нему за своим столом, под висящей на стене рекламой аперитива. Он открыл тетрадь, окинул взглядом учеников и сказал:
– Отмен, рассказывайте.
Леопольд наклонился вбок, чтобы увидеть вызванного ученика, которого загораживал от него подпирающий потолок брус. Несколько неуверенно Отмен продекламировал:
– Садитесь, – сказал учитель, когда Отмен окончил. – Пятнадцать.
На хорошие оценки он не скупился. Считая, что ребята и без того живут и учатся в тяжелых условиях, он всячески стремился их поощрить. Пускай хоть в школе почаще улыбаются, думал он, раз уж их детство опалила война.
За стойкой Леопольд, беззвучно шевеля губами, вторил ответам учеников и беспокойно сглатывал слюну, когда чувствовал неуверенность или пробел в памяти отвечающего. Единственное, что огорчало его на этих занятиях, – правда, в этом он никогда бы не признался господину Дидье, – что он присутствует на них всего лишь зрителем. Леопольд тоже с огромным удовольствием продекламировал бы:
Вы домогаетесь любви. Но до того ли
Измученной вдове, томящейся в неволе?
Несмотря на трепетное почтение, которое внушала Леопольду Андромаха, ему казалось, что уж он-то нашел бы тон, способный тронуть молодого воина. Ему нравилось представлять себе ее голос, истонченный меланхолией и испаряющийся с цинковой стойки дымком скорби и нежности.
– А теперь тетради с домашним заданием, – потребовал учитель Дидье.
Ученики разложили перед собой тетради, и он прошелся между столиками, проверяя, все ли выполнили работу над очередным отрывком из «Андромахи». Пока он добирался до своего места, Леопольд снова налил себе стакан белого вина.
– Мадемуазель Одетта Лепрё, прочитайте текст.
Одетта Лепрё, худенькая четырнадцатилетняя девочка, кашлянула, прочищая горло. Леопольд, видевший ее со спины, с отеческой нежностью любовался ее хрупкой фигуркой и ниспадавшими на плечи волнистыми каштановыми волосами. В который уже раз он испытал гордость от того, что собрал в своем кафе такую образованную, серьезную молодежь. Одетта принялась читать чистым, еще детским голосом, в котором словно подрагивали жемчужинки росы:
Царевна, ах, куда вы?
Наверно, видеть вам приятно наяву
У ваших ног, с мольбой, несчастную вдову.
При этих словах Андромахи за стойку тихонько прошмыгнула пришедшая с кухни хозяйка. Она с изумлением увидела, что по багровым щекам мужа ручьями сбегают слезы.
– Что с тобой?
– Отстань, – буркнул Леопольд. – Тебе не понять.
– Нет, все-таки, что с тобой?
– Говорю же, не суйся.
Одетта Лепрё продолжала декламировать:
Когда он был пронзен безжалостной рукою,
Я потеряла все: родных, супруга, Трою…
Хозяйка оторопело взирала на этого загадочного человека, своего супруга, из которого все ее упреки и мольбы за тридцать лет совместной жизни так и не выдавили ни слезинки. От удивления она поначалу даже позабыла, зачем пришла. Наконец спохватилась и, наклонившись к мужу, прошептала:
– Леопольд, у нас жандармы. Явились с обыском.








