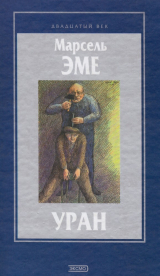
Текст книги "Уран"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– На этот раз, Ватрен, я поймал вас на слове. На днях, за стойкой у Леопольда, вы были коммунистом с вашим коллегой Журданом.
– Я настолько же был коммунистом, насколько я сейчас сторонник Гитлера.
– Это правда, – согласился инженер, – я и забыл о вашем благожелательном безразличии… Нет, скажем так: восторженном любовании. Кстати, напоминаю вам о вчерашнем обещании поделиться со мной рецептом счастья.
Даже наедине с собой Ватрен никогда не переставал слегка улыбаться. На лице его, казалось, постоянно блуждала неуловимая улыбка – такую иногда можно наблюдать на лице покойника. В молчании же, последовавшем за словами Аршамбо, этот свет, обычно озаряющий черты учителя, внезапно погас. Лицо его, дрогнув, окаменело, а светлые глаза, утратив свою мечтательную ясность, сузились в напряженном взгляде.
– Этот рецепт не из тех, которыми легко воспользоваться, – сказал он. – Впрочем, попытаться все-таки можно.
Ватрен указал пальцем на кучку уцелевших деревьев посреди развалин.
– Взгляните-ка на эти четыре липы на площади Агю. Я жил там, в третьем этаже углового дома. Со дня на день должны были подойти американцы. Было ясно, что Германии крышка. Еще несколько месяцев, думал я, и вернется из плена мой младший сын, придут вести от старшего, дезертира, перед самой войной сбежавшего в Мексику. Ах, эти августовские дни, какое чудо! Жена продолжала наставлять мне рога с почтовым служащим, чем я был безмерно доволен. Тереза раздражала меня до такой степени, что само ее присутствие было мне в тягость, и я благословлял мужчин, которым было угодно забрать ее у меня хоть на время. В тот вечер, когда случился воздушный налет, она была у своего почтаря на улице Тьерри де Бора, и там оба, должно быть, и погибли в объятиях друг друга. Что до меня, то я лежал в постели и дожидался сна, листая популярную брошюру по астрономии. Когда объявили воздушную тревогу, у меня было предостаточно времени, чтобы одеться и спуститься в подвал, но я в бомбардировку не верил. Немцы еще около полудня убрались восвояси, и можно было предполагать, что союзникам об этом уже известно. Так что сирена не согнала меня с кровати. Я читал про Уран и до сих пор дословно помню последние фразы: «Несчастная планета! Хмурый колосс, вращающийся на рубеже бесконечности. Твоя судьба лишена будущего и заключена лишь в нескольких математических формулах. На холодном твоем небосводе Солнце – лишь крохотная точка, и никогда свету его не рассеять мрака, в котором продолжаешь ты свой бег слепого гиганта. Уран, имя твое обманчиво, потому что тебе неведома красота неба. Неведомы тебе ни радость текучей воды, ни тайны морских пучин, и угрюмое твое одиночество не отражается в зеркале жизни. Вся любовь Земли бессильна тебе помочь, бессильна даже вообразить этот чудовищный мертвый груз, путешествующий вместе с ней в межпланетном пространстве». Когда я заканчивал это читать, обрушилась первая волна. В грохоте взрывов, охвативших дом огненным кольцом, заходили ходуном стены, повыпадали оконные рамы, потух свет. Я с головой забрался под одеяло, и тотчас раздался совсем близкий, ужасающий взрыв, от которого рухнули стены моей комнаты. На одеяло градом посыпались обломки кирпича и куски штукатурки. До конца бомбежки я, скрюченный, лежал под одеялом, вцепившись руками в край матраса. Когда первый налет закончился и стали слышны лишь вопли раненых, я несколько успокоился и высунул из-под одеяла голову. Надо мной раскинулось небо, прекрасное бездонное небо, усыпанное звездами. Вскоре после этого я, должно быть, заснул или лишился чувств, потому что о втором налете у меня остались лишь самые смутные воспоминания. На рассвете меня обнаружили в кровати на третьем этаже, на чудом уцелевшем от взрыва куске перекрытия.
– Я присутствовал при вашем спасении, – заметил Аршамбо. – Задача оказалась не из легких.
– Ничего этого я не помню. Меня перенесли в зал торжеств, и я проспал там на матрасе целый день и целую ночь. На следующее утро я проснулся с тяжелой головой, но в полном здравии, и смог подняться и побродить по городу и по развалинам, в которых спасательные команды продолжали разыскивать трупы. Останки моей жены и почтальона к тому времени уже были опознаны и погребены. С наступлением вечера я вернулся на свой матрас в зале торжеств, но сон не шел ко мне. Широко открытыми глазами я смотрел сквозь разбитое окно на звезды, слушая дыхание спавших вокруг двух или трех сотен других пострадавших. И вот в четверть двенадцатого это и произошло. Я услышал, как бьют часы в мэрии…
Лицо Ватрена помрачнело, и голос словно бы помрачнел тоже.
– Вы помните, в четверть двенадцатого как раз началась бомбардировка. Внезапно ко мне вернулось утраченное было воспоминание о читанном позавчера: «Несчастная планета! Хмурый колосс, вращающийся на рубеже бесконечности…» Одновременно на меня накатило страшное головокружение. В отяжелевшей голове слова, застывая, превращались в чудовищные числа, которые мало-помалу сами по себе обретали форму и содержание. Меня словно распирало изнутри массой Урана. Я обнимал огромную темную планету во всей ее неохватности, деля с ней ее одиночество. Разве вы поверите, если я скажу просто, что физически ощущал ее размеры и тяжесть? И даже если вы это допустите, вам не представить себе моей муки. Угрюмая заледенелая планета заполонила собою все мое существо до самых дальних его закоулков, оставив во мне лишь еле теплящийся огонек разума, и огонек этот безуспешно пытался противостоять давящей массе тьмы, отрицания, уныния, отчаяния, запустения. Но я вижу, что мои слова лишены для вас всякого смысла. Когда я говорю: «Давящая масса тьмы и отрицания», вы не допускаете и мысли, что каждое из этих слов обозначает нечто вполне конкретное. Воспринимая их как поэтическую метафору, ораторский прием, вы подыскиваете для них подходящие эквиваленты в ряду привычных ощущений. А что может представлять для вас эта сведенная к колеблющемуся огоньку битва ума? Дурной сон. И однако, до чего все это реально! И с какой дьявольской пунктуальностью повторяется! Каждый вечер, ровно в одиннадцать пятнадцать, сражение возобновляется и длится во сне всю ночь. До пробуждения, до утреннего избавления.
Ватрен оглядел убогую обстановку комнатушки, посмотрел в окно на дождь, на развалины, на поля под дождем.
– Как я каждую ночь умудряюсь напрочь забывать обо всех этих чудесных вещах? Утром, открывая глаза, я наконец обретаю Землю, возвращаюсь на родину цветов, рек и людей. Как она прекрасна, Земля, с ее вечно меняющимся небом, голубыми океанами, материками, островами, горными отрогами, со всеми ее жизненными соками, бурлящими под ее оболочкой и выходящими на воздух, на свет. Дорогой мой Аршамбо, вы, я вижу, улыбаетесь. И без того счастливый, вы и думать забыли обо всех этих красотах. Но я, когда пробуждение дарует мне свободу, ощущаю себя первым человеком на заре мироздания, в его первом саду. Душа моя переполнена ликованием и признательностью. Я думаю о лесах, о зверях, о цветочных венчиках, о слонах (симпатяги слоны!), о людях, о вересковых зарослях, о небе, о селедках, о горах, о хлевах, о сокровищах, подаренных нам в таком изобилии, и мне кажется, что предстоящий день будет слишком короток для того, чтобы сполна насладиться всем этим великолепием. Мне всегда хочется смеяться и петь, а если я и плачу, то от любви. Ах, как я люблю Землю и все, что ей принадлежит, жизнь и смерть! И людей. Невозможно вообразить себе ничего прекрасней, ничего милее сердцу, чем люди. Нет-нет, Аршамбо, не говорите ничего, я знаю. Но их войны, их концлагеря, их казни представляются мне шалостями и проказами. Ведь страдать можно и от песен. И не говорите мне об эгоизме и лицемерии. Эгоизм человека так же восхитителен, как эгоизм бабочки или белки. В нас нет ничего плохого, ничего. Есть только хорошее и лучшее, а еще – привычка называть плохим просто хорошее. С восхищением думаю я о том, что на свете много людей, жаждущих лучшего. Поверьте мне, жизнь всегда и везде чудесна. Вчера Дидье сказал мне, что она не стоит того, чтобы ее прожить. Думаю, это его расстроили ученики, не усвоившие задание по латыни. Бедный мой, дорогой мой Дидье, мне так захотелось его расцеловать. Вы только подумайте: сказать, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить! Земля, деревья, слоны, лампы… Да если человек придет в мир для того лишь, чтобы один-единственный раз увидеть одну-единственную полевую ромашку, он и тогда, я считаю, не напрасно потеряет время. А ведь есть еще, повторяю, леса, слоны, коммунисты…
Ватрен умолк, подошел к двери и приотворил ее. В столовой Мари-Анн играла на пианино сонату Моцарта. Играла не слишком умело, с заминками и повторами, от чего музыка становилась еще трогательней. Учитель, присев на кровать, слушал и поглядывал на своих гостей, как бы говоря им: вы свидетели, что и Моцарт подтверждает правоту моих слов.
VII
Закончив пассаж, Мари-Анн захлопнула крышку пианино и повернулась к окну. Погода не улучшилась. Шел дождь. Хороший предлог, чтобы не пойти на свидание, назначенное на пять часов. Отец прав, этот Мишель Монгла очень вульгарен. А ведь он еще ничего не знает. Позавчера в лесу Слёз, разжимая объятия, Мишель с багровым лицом человека, с набитым животом отваливающегося от стола, сказал ей: «Это по-нашему». А потом добавил: «Вот и еще кое-что бошам уже не достанется», – и засмеялся. Потом он прямо тут же, в трех шагах от нее, стал мочиться на дерево, продолжая переговариваться с ней через плечо. У Мари-Анн свело желудок, и она почувствовала себя очень неуютно. Тем не менее тогда ей не приходило в голову, что Мишель вульгарен, и только благодаря словам отца происшедшее предстало перед ней в истинном свете. Оставалось решить, не пора ли покончить с приключением, которое продолжалось около двух недель и разрешилось всего лишь позавчера. Порвать сейчас было бы нехорошо. Это выглядело бы так, будто она опробовала парня, как опробуют инструмент, а для того, чтобы сейчас правдоподобно сыграть роль ветреницы, она выказала чересчур много робости и смущения. И как бы он ни был вульгарен, это не значит, что ей безразлично, кем он ее будет считать, даже если она и не собиралась с ним больше встречаться. Ощущение, что она ему принадлежит, – отнюдь не иллюзия, порожденная расхожим словцом. Да и то, что она вынуждена скрывать ото всех свое приключение, поставило ее в зависимость от Мишеля. И много еще было такого, что трудно поддавалось объяснению, но главным все-таки оставалось ощущение, что она ему принадлежит.
Мари-Анн еще пребывала во власти любовных переживаний, когда услышала, что во входную дверь стучат. При мысли о Максиме Делько она пришла в замешательство, а когда открывала, и вовсе перепугалась – ведь дверь к Ватрену так и осталась приотворенной. На пороге стоял Журдан, молодой учитель-коммунист.
– Здравствуйте, мадемуазель. Я к господину Ватрену.
– Господина Ватрена нет дома, – залившись краской, пролепетала Мари-Анн.
Тут совершенно явственно раздался голос Ватрена, произнесшего: «Целый день любви». Поверх плеча девушки Журдан увидел приоткрытую дверь в комнату его коллеги.
– Ну и ладно, – сказал он с любезной улыбкой. – Я просто по пути зашел к нему поздороваться. Впрочем, если он в ближайшее время вернется, то может найти меня у Генё. Прошу прощения, что побеспокоил вас.
Не зная, куда деваться от стыда, Мари-Анн промямлила в ответ какие-то вежливые слова и закрыла дверь. На губах Журдана, когда он входил к Генё, еще играла лукавая улыбка. Тот принял его в «голубой комнате», получившей свое название от цвета обоев. Комната была светлая, просторная, ее окна выходили на широкий обсаженный деревьями тупик. На стене висела литография Сталина в маршальской форме. Всю обстановку голубой комнаты составляли грубая деревянная кровать, плетеный стул, два ящика, покрытых красной материей, и положенная на два других ящика обструганная доска, служившая столом. Когда семья Генё вселялась в эти комнаты, Аршамбо хотел предоставить им всю находившуюся там мебель, но его супруга решительно этому воспротивилась, и ему с превеликим трудом удалось настоять лишь на том, чтобы жильцам оставили две кровати.
Журдан снял намокший плащ и сел на стул. Из соседней комнаты доносился шум – там бегали и горланили дети. Генё открыл туда дверь и раздраженно прикрикнул:
– Кончайте ходить на головах! Еще раз услышу – уложу в постель. Неужели нельзя играть тихо?
Галдеж прекратился, но стоило Генё закрыть дверь, как дети снова затеяли возню, хоть и не такую шумную.
– Матери нет дома, вот они и куролесят. Не выгонять же их под дождь.
– Разумеется, – кивнул Журдан и вдруг без всякой видимой причины рассмеялся.
– Чего смеешься?
– Да так, глупости. Впрочем, тебе я могу сказать, но только особо не распространяйся. Ну как тут не засмеяться: Ватрен уж такой с виду тихоня, а завел шуры-муры с малышкой Аршамбо. Хорош гусь, а?
– Ты с ума сошел, – насупился Генё. – Что это ты выдумываешь?
– Ничего я не выдумываю. Представь себе, перед тем, как зайти к тебе, я решил перекинуться парой слов с Ватреном. Стучусь к Аршамбо, и мне открывает малышка, перепуганная и пунцовая, как пион. Говорит, что Ватрена нет дома, а я в это время замечаю, что дверь в его комнату приоткрыта. Но погоди, это еще цветочки. Только она сказала, что его нет, как я слышу из той комнаты вздох и голос Ватрена: «Целый день любви». Ничего я не выдумываю. Вот так, слово в слово, он и сказал. Девчонка готова была провалиться сквозь землю.
Генё прошелся по комнате. Он казался спокойным, но по-прежнему хмурился.
– Странный тип этот Ватрен, – продолжал Журдан. – Пожалуй, с ним надо держать ухо востро. Так-то разговариваешь с ним – он вроде на нашей стороне и смотрит на все теми же глазами, что и мы. О политике рассуждает как сочувствующий, но черт его знает, что у него на уме. Во всяком случае, Аршамбо и не подозревают, что с ним опасно оставлять дочку.
– Все это ерунда, – сказал Генё.
– Что, по-твоему, ерунда? Что восемнадцатилетняя девушка отдается мужчине, который на тридцать пять лет ее старше? Не торопись. Давай рассуждать здраво. Ватрен не тянет на роль первого любовника? Согласен, но он под боком. На его стороне фактор близости. А чем ближе субъекты, тем сильнее половое влечение. Доказывать эту очевидную истину я не собираюсь. Во-вторых, на стороне Ватрена фактор удобства. Никаких тебе хлопот. В определенные часы они остаются в квартире одни. Благодаря этому малышка Аршамбо избавлена от унизительной для женщины процедуры проникать в чужой дом. В-третьих, фактор безопасности. Седина. Богатый жизненный опыт. В-четвертых, фактор послушания. Говоря «учитель», мы подразумеваем и «воспитатель», и раз учитель Ватрен предлагает сожительство, то в этом нет ничего худого. В-пятых…
– Ладно, хватит об этом, – с досадой прервал его Генё.
Резкость тона несколько покоробила Журдана. Стоя к учителю боком, Генё смотрел на него искоса, с хмурым и недоверчивым видом. Молодому преподавателю словесности почудилась в этом взгляде органическая неприязнь, намек на которую ему случалось улавливать и прежде. Но тут, спохватившись, Генё смягчил свой взгляд и даже попытался улыбнуться. По правде говоря, никакой неприязни к гостю он не питал. Напротив, восхищался его образованностью, начитанностью, преданностью делу, ему даже льстили дружба с этим молодым человеком и его доверие. И все-таки он не мог перешагнуть разделявший их барьер и относился к нему неоднозначно. В молодом учителе, пришедшем к коммунистическим убеждениям через книги, он чувствовал нечто препятствующее их сближению – за неимением более подходящего слова он называл это школярством. В искренности и бескорыстии этого двадцатисемилетнего парня из семьи мелких парижских лавочников, наверняка маменькиного сынка, сомневаться не приходилось, однако трудно было отделаться от впечатления, что коммунизм остается для него пусть серьезной, но все же игрой, этаким конструктором для посвященных. Не похоже было, чтобы склонность к умственным построениям и марксистская эрудиция, которой Генё по-товарищески завидовал, хоть как-то пересекались у него с жизненным опытом. Ощущение этого несоответствия и не давало покоя Генё, пока он слушал, как Журдан, все больше и больше вдохновляясь, покровительственным тоном и цветистым слогом литературных обозрений разглагольствовал о трудящихся. В его речах рабочий класс выглядел этаким тысяченогим божеством, предстающим одновременно вереницей святых мучеников, армией взыскующих подвига странствующих рыцарей в рубище и процессией розовозадых архангелов. В такие минуты Генё от злости так и подмывало влепить Журдану затрещину.
– Ты, никак, расстроился, – заметил учитель.
– Я? С чего бы это мне расстраиваться? То, что творится у Аршамбо, меня совершенно не касается. И все-таки, чтобы Ватрен спал с девчонкой, – тут ты хватил лишку. Это всего лишь твои домыслы.
– Разумеется, я не застал их в момент совокупления, но ведь налицо безошибочные признаки. К тому же, повторяю, логически…
– Да-да, знаю, – нетерпеливо перебил его Генё. – Во-первых, во-вторых, в-третьих. Но девушку ты знаешь? Ты хоть видел ее?
– Я хорошо знаю ее брата – он в моем классе. Ее я знаю меньше, но несколько раз видел. Ну и что?
– Парень-то балбес, но на его сестру достаточно взглянуть… В ней есть что-то… Она…
Генё сделал неопределенный жест и бессильно умолк.
– Я понимаю, что ты хочешь сказать, – подхватил Журдан. – По ее виду не похоже, что она способна спать с Ватреном. Если выражаться салонным языком, у нее есть душа, прелестная невинная душа, которая отражается в ее личике. Ну так вот, меня не проведешь. Во-первых, ни ты, ни я не верим в существование души. Во-вторых…
– Кончай, хватит. Не будем больше об этом говорить. Осточертело.
Генё принялся расхаживать по комнате. Проходя мимо одного из ящиков, служивших сиденьем, он пнул его ногой.
– Как ты разнервничался, – удивился Журдан. – Обычно такой спокойный…
– Ты прав. Меня взбесила эта история с Рошаром. Кстати, поговорим-ка лучше об этом. Надо что-то решать. После обеда я заходил в жандармерию. Все, что рассказывал Леопольд, – чистая правда, и Рошар, на мой взгляд, совершил серьезный проступок. До сих пор он всего лишь чрезмерно усердствовал. Теперь он перешел всякие границы. Согласен?
– Что ж, возможно.
– Рошар не из тех, на кого можно положиться. Он вообще с придурью. Верно?
– Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы составить какое-то мнение.
Генё поведал молодому учителю о безобразиях, которые натворил Рошар, прикрываясь славным званием коммуниста. Все это явно дискредитирует партию в блемонском общественном мнении, сказал он. Что же касается личности этого человека, то Генё живописал его как тщеславного и жадного бабника, лишенного классового сознания и склонного к насилию и злодейству. Журдан слушал с интересом, однако, вопреки ожиданиям Генё, было незаметно, чтобы он разделял его неодобрение. Развеселившись, он с улыбкой внимал рассказу о подвигах железнодорожного служащего и выказывал даже нечто вроде удовлетворения.
– Ей-ей, этот Рошар не так уж и плох, – сказал учитель, когда Генё закончил свой рассказ. – По-моему, парень что надо.
– Ты что, одобряешь его гнусные проделки?
– Гнусные проделки… Видишь ли, наша точка зрения совсем не обязательно должна совпадать с точкой зрения нотариуса или полицейского комиссара. Я допускаю, что Рошар был немного крут, но уж мы-то с тобой как раз из тех людей, кто способен его понять.
– Понять что? – раздраженно спросил Генё.
– Ну, понять его самого, его рвение, наконец, то, что ты называешь гнусными проделками, – одним словом, все! – распаляясь, воскликнул Журдан. – По-твоему, я должен возмущаться человеком, который стремится сбросить с себя ярмо, у которого открылись глаза на всю постыдность его положения эксплуатируемого? Человеком, который страдал, исходил кровью, бесправным трудящимся, наконец-то осознавшим свой священный долг мести? Бойцом революции, который сражается за то, чтобы приблизить час расплаты со своими закосневшими в эгоизме угнетателями?
– Что ты городишь? Рошар никогда не страдал.
– Как это, никогда не страдал?
– Не вижу, когда бы он мог страдать. Его родители – крестьяне, они живут неподалеку. Сам он решил, что копаться в земле – занятие для него недостойное, и подался в железнодорожные служащие. Кто его эксплуатировал? Даже в оккупацию он ни в чем не нуждался – его всем снабжали родители.
– И все-таки он пролетарий, – зло бросил Журдан.
Генё побагровел, и ему стоило большого труда взять себя в руки и не высказать этому безмозглому школяру все, чего он заслуживал. Пока он обдумывал, как бы ответить посдержаннее, мысли его вдруг непроизвольно устремились к тому, что происходило в глубине квартиры. Ему очень хотелось верить, что между Мари-Анн и Ватреном ничего нет, но что ни говори, а Журдан, на чьи комментарии по этому поводу он решил не обращать никакого внимания, встретил по меньшей мере необычный прием. Почему она соврала, что Ватрена нет дома? Сама девушка не додумалась бы спровадить гостя – об этом ее должен был попросить Ватрен, если только ответ не диктовался самой обстановкой. Генё вспомнил, что часа в два, вернувшись из жандармерии, встретил на улице госпожу Аршамбо. Сам Аршамбо по субботам после обеда имел обыкновение проводить час-другой на заводе – это сказал ему сын консьержки, член партии. Брата Мари-Анн тоже, вероятно, не было дома. Значит, она осталась с Ватреном наедине. Наконец, эти загадочные слова, которые услышал Журдан: «Целый день любви». Старикан, вероятно, имел в виду полдня. И все-таки Генё не мог в это поверить. Он спросил себя, какое ему-то до всего этого дело. Влюблен он не был. Мари-Анн он находил пригожей, ладной, ему нравились ее открытость, порядочность, приветливость и простота в обращении, встречаться с ней в квартире было приятно. Нет, он не был влюблен и тем не менее при мысли о ней испытывал странное волнение. Ее изящество, манеры, а в особенности то, что она дочь главного инженера, играет на пианино, живет жизнью своего сословия – все вызывало в нем противоречивые чувства: глухое раздражение, нежность, сожаление, и иногда им овладевало острое желание сломать разделяющий их барьер и хоть в этом найти удовлетворение.
– Чувства оставь в покое, – сказал он. – В истории с Рошаром они ни при чем.
Такое вступление не понравилось Журдану. Намек, обращенный к столь сдержанному в выражениях партийному активисту, каким он считал себя, показался ему оскорбительным. Получается, нельзя уж и воздать хвалу пролетариату в лице одного из его представителей, каким бы он ни был, не рискуя навлечь на себя упрек в сентиментальности. К тому же в умеренных дозах сентиментальность и романтический настрой можно считать превосходным революционным материалом.
– Я не отказываюсь ни от одного из своих слов, – холодно заявил он.
– Как тебе будет угодно. Раз уж тебе так хочется видеть в пролетарии недоделанного уродца, это твое дело.
Генё умолк, давая себе время насладиться видом Журдана. Приятно было посмотреть, как тот яростно выкатывает глаза и возбужденно сопит.
– В общем, – продолжал Генё, – с Рошаром дело ясное. Ради сведения личных счетов он, ни с кем не посоветовавшись, натравил на человека жандармов. Тем самым он нарушил дисциплину. Но гораздо важнее то, что Леопольд, изобличенный коммунистом, иначе говоря – партией, так и не был арестован. В результате весь Блемон потешается над нами. Еще парочка таких проколов – и коммунизму в Блемоне крышка. Сам понимаешь, социалисты момент не упустят. А если Рошару не дать по рукам, он на этом не остановится, я его знаю. И чтобы ты яснее представил себе, какой он нам нанес вред, приведу тебе наглядный пример: бригадир, с которым я разговаривал в жандармерии, заявил, что задал Рошару выволочку. Хорошенькое дело: бригадир жандармов похваляется передо мной, что расчихвостил одного из наших! Как тебе это нравится?
Журдан ответил не сразу. Ему хотелось вынести суждение со всей объективностью, исходя исключительно из интересов партии, но втайне он лелеял надежду, что его ответ придется Генё не по вкусу.
– Нет сомнения, – сказал он, – что Рошар допустил ошибку. С другой стороны, его нельзя обвинить в том, что он намеренно действовал во вред партии. Быть может, он считал, что этим оказывает ей услугу.
– Стоп. Мы не священники. Сам ведь говорил, что копаться в душах – не наше дело.
– Согласен. Но не стоит… – тут Журдан ввернул крепкое словцо.
– Не стоит что? – спросил Генё, делая вид, что не понял, – его коробила манера Журдана уснащать речь простонародными выражениями. Пытаясь таким образом теснее слиться с пролетарской массой, молодой учитель выглядел полковником, который решил отведать с солдатами их похлебку.
Прозвучавшая в вопросе Генё ирония больно ранила Журдана. Отказавшись от крепких словечек, он продолжал сухо и напористо:
– Разумеется, Рошар допустил ошибку. Но в его пользу говорит все его прошлое поведение – то, что ты изволишь называть гнусными проделками, а я считаю послужным списком бойца партии. Рошар доказал, что принадлежит к той категории людей, на которую партия сможет опереться, когда наступит время перейти к террору. Такие, как ты и я, способны самое большее отправлять врагов на казнь. Только рошары создадут столь необходимую для победы обстановку подлинного террора.
– Прошу прощения! – не выдержав, воскликнул Генё. – О терроре поговорим после. А пока надо множить число избирателей, голосующих за коммунистов, и я считаю, что каждый лишний день пребывания Рошара в партии будет стоить ей потери сотни голосов в Блемоне. Главное, что объективно такие вот типы работают против партии и всегда работали против нее.
– Теперь я прошу прощения. Если коммунисты держат в руках муниципалитет, жандармерию, судей и если блемонцы боятся их, то, скажи-ка мне, кому мы этим обязаны? Вот ты лично скольких выдал правосудию? Молчишь, разумеется. Ты никого не выдал! Сколько смертей в твоем активе, сколько притеснений, самосудов, экспроприаций? Опять молчишь. Зато Рошар – он доносил на всех и вся и, заметь, ни у кого ничего не спрашивал. Он вырвал предателю глаза. Он был в расстрельной команде. И со дня Освобождения неустанно отравлял блемонцам жизнь. Благодаря чему ты сегодня можешь пойти в жандармерию и потребовать у бригадира отчета. Имей в виду, Рошар – плоть от плоти революции. Он самый ее дух, и это-то тебя, в сущности, и злит. Тебе было бы куда удобней забыть, что революция еще только началась, ты был бы рад втиснуть ее в картотеку, чтобы она там лежала и пылилась. А рошаров, которые идут вперед, ты терпеть не можешь – они, видишь ли, доставляют тебе беспокойство. Крахмальные воротнички и благочинные обыватели с приклеенной к губам улыбочкой – вот какие тебе надобны коммунисты.
Журдан поднялся со стула и, стоя напротив Генё, сверлил его взглядом. Теперь оба без лишних слов понимали, что ненавидят друг друга. Каждый из них воплощал собою в глазах другого презираемую категорию людей: рабочий – здравомыслящих тугодумов, которые все меряют на свой аршин, учитель – вертопрахов и пустозвонов, которые ищут в идеях возбуждающее средство и видят в классовой борьбе игру. Каждый миг молчания лишь усугублял взаимную неприязнь.
– Тебе кажется, что ты читаешь лекцию студентам, – проворчал Генё. – Куда как просто. Мсье выступает против дисциплины, за поэзию революции и гениальное вдохновение. Перед кучкой мелких пижонов такое проходит на ура. Но я-то не студент, меня на мякине не проведешь, и я тебя вижу насквозь, Журдан. Ты сынок буржуа, небогатых, но все-таки буржуа, которые гордились своим единственным отпрыском. Для домочадцев ты был образованным молодым человеком, которому смотрели в рот. Беда в том, что ты не любил ни женщин, ни дружбы, ничего на свете. Выпорхнув из родного гнезда, ты продолжал вещать как оракул, но твои слова падали в пустоту – до тебя никому не было дела. Тогда ты прилепился к коммунизму. Ты сказал себе, что тут, чтобы найти отклик, вовсе не обязательно любить жизнь, и в некотором смысле ты был прав. Но ты все равно просчитался, Журдан. Сегодня, когда ты разглагольствуешь о революции, кто-нибудь обязательно да отзовется, но по сути дела ты не наш. И даже если ты выслужишься у нас, что вполне вероятно, даже если ты станешь оракулом титулованным, ты никогда не будешь нашим, уж это дудки. Но тогда-то тебе будет на это наплевать с высокой колокольни, ведь так?
Журдан не раз и не два почувствовал себя больно задетым словами Генё, но постарался ничем не выдать своей досады. Он ответил спокойно, с учтивой улыбкой оратора, уверенного в легкой победе над соперником:
– Ты нагородил столько беспочвенных предположений и домыслов, а теперь на их основании пытаешься вынести суждение. Такой легкой, ни к чему не обязывающей игре обожают предаваться женщины, когда чешут языки, и ты, конечно, волен ею забавляться. Во всей твоей тираде внимания заслуживает лишь ее язвительность, выдающая твое ко мне нерасположение, которое до сих пор тебе более или менее удавалось скрывать. Впрочем, я понимаю, откуда взялась эта враждебность. Будучи прежде всего блемонцем и заделавшись коммунистом против местных дюранов и дюпонов, ты рассматриваешь коммунизм просто как желательное состояние своего родного городишки, так что я для тебя – чуждый элемент, пришелец, несущий извне более широкие взгляды, более общие идеи, а ведь они-то как раз и обладают той способностью служить высшим интересам партии, каковой начисто лишен всякого рода партикуляризм. Твой доморощенный коммунизм яростно сопротивляется…
– Заткнись, – сквозь зубы процедил Генё.
Он глядел на Журдана исподлобья, и у него чесались кулаки. Несмотря на то что в отрочестве учитель каждый год проводил каникулы в горах и делал робкие попытки заниматься спортом, со своей худосочной фигурой и покатыми плечами он выглядел почти подростком. Генё, плотный и кряжистый, не сомневался, что уложит его одним ударом. Мысленно нацеливаясь в челюсть, он изо всех сил сдерживал себя. Журдан, который никогда в жизни не дрался и даже не задумывался над тем, что уступает Генё в силе, не сознавал нависшей над ним опасности и чувствовал себя в выигрышном положении.
– Твой доморощенный коммунизм, – повторил он со снисходительной усмешкой, – яростно сопротивляется вторжению, грозящему взбаламутить уютное болото.
Качнувшись пару раз, как медведь, Генё с усилием оторвал взгляд от Журдана и подошел к окну вдохнуть свежего воздуха. Справа открывался вид на развалины и поля, слева же, в глубине тупика, виднелся богатый дом Монгла, крупного виноторговца, с лужайкой и фонтаном. Дом этот служил для Генё предметом привычных мечтаний. Две комнаты на первом этаже занимал отставной майор, пострадавший от бомбежки, прочие же десять оставались в распоряжении семьи Монгла. Обратив как-то внимание партийцев на такое положение дел, Генё услышал в ответ, что данная частная несправедливость с лихвой компенсируется существенными выгодами для партии в иной области. И хотя он понимал, что без гибкости и компромиссов на извилистом политическом пути не обойтись, с того дня при виде дома Монгла на сердце у него всякий раз скребли кошки. С большим трудом укладывалось в его голове, что несправедливость может служить интересам справедливости. В случае же с Рошаром он этого допустить не мог.








