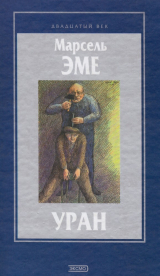
Текст книги "Уран"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
V
Жандармы топтались в сыром закутке, служившем кухней, где с утра до ночи горела электрическая лампочка.
– Ордер на обыск, – кратко произнес бригадир, показывая бумагу.
– Валяйте.
Жандармы открыли стенной шкаф в глубине кухни и большой буфет, но особенно шуровать в них не стали – к великому облегчению Леопольда, который прятал на дне супницы уложенные в несколько колбасок золотые монеты. В спальне они также всего-навсего заглянули в шкаф и под кровать. Леопольд понял: ищут человека.
– У вас есть погреб? Чердак?
– Погреб имеется. Чердак реквизировали для пострадавших от бомбежки.
В погребе жандармы наконец ответили, кого ищут: Максима Делько. Завершился обыск на кухне, за бутылкой белого вина.
– Ну вы даете, – говорил Леопольд. – Искать немецкого прихвостня у меня, участника Сопротивления, – это, признайтесь…
Жандармы расхохотались:
– Вы, Леопольд, – участник Сопротивления? Вот так новость!
– Ну, бахвалиться я не привык, но если б захотел рассказать обо всем, что сделал для страны, то многие здесь поразевали бы рты. Достаточно напомнить то, что известно всему Блемону: до самого Освобождения я держал гарсоном еврея. И это влетело мне в копеечку. Сами посудите, нужен ли в таком пустячном заведении, как мое, еще и гарсон…
– Положим, дела в вашем пустячном заведении шли не так уж плохо. Недаром его облюбовали боши.
– Что ж, их приходилось терпеть, никуда не денешься, но можете мне поверить: уж на них-то я не подзаработал. Особенно если подсчитать, сколько всего они тут спьяну покрутили. Это как мой еврей. Мерзавец то и дело бил у меня стаканы. И не сосчитать, сколько раз у меня чесались руки взять его за шиворот и вышвырнуть за порог. Но когда на меня накатывало такое желание, я стискивая зубы и твердил себе: «Нет, Леопольд, ты не имеешь права. Еврей по нынешним временам – это святое».
Леопольд скромно потупился. Бригадир усмехнулся и подмигнул своему напарнику.
– С вашей стороны это действительно подвиг. Но, сдается мне, ваш еврей – не такой уж и еврей. Ведь он как-никак приходится вам племянником?
Леопольд лукаво глянул на бригадира и громогласно расхохотался. Наполнив стаканы, он чокнулся с жандармами:
– Да, в жандармерии меня не особенно жалуют. Нельзя даже заиметь племянника-еврея.
– А вы шутник.
– Ну конечно, у вас зуб на бедного Леопольда. Достаточно, чтобы на меня донес первый встречный, и вы тут как тут. А ведь вам прекрасно известно, чего стоит человек, который донес на меня. Просто вы его боитесь.
Бригадир приосанился и нахмурил брови. Слова Леопольда его задели.
– И доказательство тому – что он сумел выставить Жакленов из их собственной квартиры, чтобы вселиться туда самому. А вы смотрели на все это сквозь пальцы.
– Жалобы никто не приносил, так что у жандармерии не было основания вмешиваться.
После ухода незваных гостей Леопольд отправился подышать воздухом «Андромахи», но закипавший в нем гнев мешал по-настоящему насладиться уроком. Покинув зал, он надел пиджак и кепку.
– Вернусь к половине двенадцатого, – сказал он жене.
У блемонских шляпников не нашлось головного убора под стать Леопольдовой голове. Прилепившаяся к затылку кепка едва покрывала половину лысины. На улице прохожие с симпатией поглядывали на великана, напоминавшего то ли гориллу, то ли робота. В городе Леопольд был личностью довольно популярной. Но в это утро он никого не замечал, не реагировал ни на одно из обращенных к нему приветствий. Он полностью ушел в себя, сосредоточившись на непонятном поведении Рошара, коварство которого ему только что подтвердили жандармы. Возможно, доносчик действовал в приступе ярости, считая, что его выходка останется без последствий. Возможно также, он рассчитывал, что в поисках Максима Делько жандармы обнаружат у него припасенное для черного рынка, и, по правде говоря, этот расчет оправдался бы, произойди обыск, к примеру, накануне или два дня спустя. У этого проклятого Рошара нюх, как у ищейки.
Шагая по городу, Леопольд слегка поостыл, предавшись воспоминаниям об Андромахе. Все эти людишки, что крутятся подле вдовы Гектора, так же мелки и ничтожны, как этот Рошар. Злопамятные, помышляющие только о постельных делах. Как говорила вдова: «Откуда слабость в вас, великом человеке?» Когда имеешь дело с такой достойной женщиной, думал он, негоже помышлять о всякой ерунде. Лично ему, Леопольду, было бы стыдно, особенно если учесть, что уж в чем, в чем, а в женщинах недостатка не бывает, когда у тебя отложено кое-что в заначке. Он принялся рисовать в воображении картину бегства, в котором себе самому отводил роль бескорыстного героя. Вот он вечером приходит во дворец Пирра, подкупает привратника и ночью проникает в покои Андромахи. Вдова как раз плачет горючими слезами из-за этого царственного кобеля, который опять домогался ее руки. Леопольд уверяет ее в своей почтительной преданности, обещая, что скоро благодаря ему она окажется на свободе, не затратив на это ни гроша, и в заключение говорит: «Сынка тащите, и смываемся украдкой». Эти слова Леопольд повторил про себя несколько раз, находя в них странное, волнующее удовольствие. «Сынка тащите, и смываемся украдкой». Ему показалось, что на горизонте его мысли забрезжил некий таинственный свет. Внезапно он остановился посреди улицы, сердце у него заколотилось, и он нараспев продекламировал:
Сынка тащите, и смываемся украдкой!
Черт побери, да это же стих, всамделишный александрийский стих! А какой ритм, какое величественное равновесие в паузе: «Сынка тащите, и…» В восторге Леопольд неустанно твердил про себя сочиненный стих, опьяняющий его своей музыкой. А вокруг между тем ничего не изменилось. Все так же сверкало солнце, хлопотали хозяйки, и жизнь продолжала свое привычное течение, словно бы ничего и не произошло. Только теперь Леопольд начинал осознавать, сколь одиноко духу посреди мирской суеты, но, открыв это, он ничуть не опечалился, а, напротив, почувствовал себя счастливым и гордым.
Оказавшись близ станции, он вернулся к реальности и думал уже лишь о цели своего похода. На станцию, которая как раз являлась границей между развалинами и уцелевшей частью города, не упала ни одна бомба. Для сторонников маршала Петена это служило неиссякаемым источником иронических замечаний, ибо бомбометатели не попали ни в одну из намеченных целей, каковыми в городе могли быть только станция, мост и завод. Хотя национальная принадлежность бомбометателей так и не была установлена точно, никто в Блемоне не сомневался, что это либо англичане, либо американцы, но все притворялись, будто верят, что это немцы. В первые месяцы после бомбежки можно было даже определить политические взгляды человека по тому, как он о ней упоминал. Участники Сопротивления и сочувствующие избегали всякого прямого намека на сей исторический факт. Плохие же патриоты, напротив, охотно прохаживались по поводу жестокости бошей или их неумелости, делая это с подчеркнутой усмешкой и произнося слово «боши» как бы в кавычках. Впрочем, довольно скоро они поняли, что подобными эвфемизмами выдают себя с головой, и впредь иронизировали на этот счет лишь в узком кругу единомышленников. В официальных же речах – например, в выступлении префекта, приехавшего на церемонию заселения первого построенного деревянного барака, – разрушение Блемона приписывалось нацистским варварам. Однако недели две спустя кто-то из коммунистов открыто заявил, что в трагедии повинны американцы, причем подразумевалось, что это было известно всем с самого начала.
Леопольд знал точно, где работает Рошар. Главное состояло в том, чтобы добраться до станции и пересечь пути прежде, чем его смогли бы предупредить. На привокзальной площади он, словно по наитию, зашел в кафе «Путешественник». Там за одним из столиков в компании с двумя другими железнодорожными служащими и впрямь сидел Рошар.
– Пойдем, – сказал ему Леопольд, – у меня к тебе поручение.
С этими словами он взял его под руку и повлек к выходу.
– Что тебе надо? – спросил Рошар высокомерным тоном, не сумев, впрочем, скрыть охватившей его тревоги.
– Вначале найдем местечко, где можно спокойно потолковать.
Все так же под руку они зашли в скверик позади «Путешественника». Леопольд подтолкнул своего спутника к увитой плющом беседке и вошел туда вслед за ним. Место было прохладное, сумеречное и достаточно уединенное для того, чтобы не привлечь ничьего внимания. На железном столе посреди беседки, выкрашенном зеленой краской, стоял ящик с инструментом, соседствуя со старым сифоном в насквозь проржавевшей оплетке. Леопольд усадил Рошара на табуретку и сел напротив него.
– Я тебя слушаю, – сказал он.
Рошар, делая вид, будто собирается с мыслями, попытался незаметно от Леопольда дотянуться рукой до заднего кармана брюк.
– Руки на колени!
Рошар повиновался, но продолжал безмолвствовать. Из стоявшего на столе ящика Леопольд неторопливо извлек молоток и большой плотницкий гвоздь длиною с ладонь. Зайдя Рошару за спину, он приставил гвоздь к его макушке и слегка нажал, чтобы тот почувствовал острие сквозь фуражку.
– Если ты сейчас же не заговоришь, я вобью тебе этот гвоздь в голову одним ударом молотка – это так же верно, как то, что меня зовут Леопольд.
– Ну, я сказал жандармам, что газетчик прячется у тебя.
– Продолжай.
– Я так думал.
– Нет, ты так не думал. Расскажи, что ты сказал жандармам.
– Я сказал, что вчера вечером, часов около десяти, вроде бы заметил газетчика на площади Святого Евлогия – он мелькнул на свету от окон твоего кафе и сразу исчез. Это правда. Мне и впрямь показалось…
– Врешь. Если б ты его видел, то не стал бы дожидаться утра, чтобы сообщить жандармам. Продолжай.
– Еще я сказал, что, зайдя к тебе выпить стаканчик марка, я приметил у тебя в кухне того самого человека, которого накануне видел на площади.
– Признай, что все, от начала до конца, ты высосал из пальца.
– Конечно, я ошибся.
– Нет, не так. Скажи: я не видел ни газетчика вчера вечером на площади, ни кого-либо похожего на него сегодня утром, я не видел никого у тебя на кухне.
Рошар, похоже, заупрямился. Леопольд нажал на гвоздь и занес молоток. Доносчик сознался, что выдумал все от начала до конца.
– На что ты рассчитывал, когда шел на меня доносить?
– Ни на что. Я сделал это со злости.
Леопольд убрал гвоздь и молоток назад в ящик, и они под руку возвратились в кафе. Железнодорожники были еще там, а за другим столиком утоляли жажду шоферы грузовиков. Леопольд подвел своего пленника к стойке.
– Белого, – бросил он официантке.
– Будет сделано. А господину Рошару?
– Обойдется.
Он выпил стакан, расплатился и, не отпуская Рошара, повернулся к железнодорожникам.
– Мне хочется, чтобы вы знали, что за личность ваш коллега, – обратился он к ним. – Сегодняшнее утро он начал с того, что за стойкой моего кафе пригрозил смертью одному человеку и оскорбил другого, почтенного учителя коллежа. Я, разумеется, не мог стерпеть того, чтобы у меня в кафе кто-то взялся вершить самосуд, и аккуратно, не причинив ему никакого вреда, поставил его на место. В отместку он побежал в жандармерию и донес на меня, будто я, видите ли, прячу у себя некоего Максима Делько – ну, вы знаете, того немецкого прихвостня. Якобы вчера вечером он видел, как тот бродит у моего кафе, а утром еще и заметил его у меня на кухне. А рассчитывал ваш коллега Рошар на то, что жандармы, заявившись ко мне искать газетчика, наткнутся на горы припасов для черного рынка. Да только он и тут обмишурился, потому что Леопольд и черный рынок, должен вам заявить, не имеют между собой ничего общего. В конце концов он сам во всем признался. И теперь мы закончим объясняться в жандармерии. Что вы на это скажете?
Он расхохотался и, видя, что железнодорожники и шоферы никак не отреагировали на его слова, смущенные присутствием Рошара, увлек его за собой наружу. Но вместо того чтобы удалиться, он остался со своим пленником на террасе, подле открытой двери, и минуту спустя до обоих донесся грянувший в зале дружный смех.
– Приятно послушать, как люди веселятся, – сказал Леопольд. – Такой случай выпадает нечасто.
Рошар вскипел и разразился бранью, но на Леопольда это не произвело ни малейшего впечатления.
– Давай-давай, дери глотку, парень. Можно и посильнее. Тебе это на пользу, а мне без вреда.
Пришлось Рошару плестись за кабатчиком. Была минута, когда он чуть было не расплакался, притом что еще и не подозревал об истинных намерениях Леопольда. А тот решил добиться ни много ни мало исключения его из коммунистической партии. На Рошара, рассуждал он, там и так уже смотрят косо из-за его излишней нахрапистости и неуместного рвения. Это он вырвал глаза у милисьена[4]4
Милисьен – сотрудник милиции, созданной в период оккупации для борьбы с вооруженными отрядами Сопротивления.
[Закрыть]. Тогда, в горячке первых дней Освобождения, идея выглядела недурной. Потом воспоминание об этом становилось все тягостней, и на истязателя, пока воздерживаясь от открытых попреков, начали поглядывать с неодобрением, а то и с презрением. Генё, к примеру, не подавал ему руки. А Рошар и после этого то и дело напоминал о себе дикими выходками, сквернословием, леденящими душу угрозами и самоуправством. На первый взгляд все это исходило как бы лично от него, но в действительности прикрывалось его политической принадлежностью – она развязывала ему руки и вселяла уверенность в безнаказанности. Особое неудовольствие партии вызвал его последний подвиг. С помощью двух своих приятелей, один из которых также был коммунистом, он выселил семью Жакленов из их квартиры и завладел ею сам, выкинув их мебель на тротуар. Жаклены, мелкие коммерческие служащие, насквозь пропитанные мелкобуржуазным духом, сами по себе никакого интереса не представляли, но их изгнание наделало в городе шуму, и люди стали шушукаться: дескать, коммунисты, поправ все законы, выбросили несчастную семью на мостовую.
Из разговоров, слышанных за стойкой, Леопольд достаточно хорошо представлял себе настроения, царившие в местном отделении компартии по поводу Рошара. Он с полным основанием мог рассчитывать на то, что история с обыском, если потрудиться и довести ее до всех и каждого, переполнит чашу. Прежде всего позорным будет сам факт, что коммуниста Рошара силком провели через весь Блемон, демонстрируя его горожанам как автора заведомо ложного доноса. Но самым серьезным поводом для исключения окажется политический характер доноса. Боец партии не имеет права, не испросив на то ее согласия, раскручивать маховик обвинения против кого бы то ни было в таком преступлении, как коллаборационизм. Тут не может быть ни ошибок, ни извинений. В таком маленьком городке, как Блемон, да еще против столь известного, если не сказать популярного, человека этот выпад будет расценен как злоупотребление авторитетом партии. Леопольд был уверен, что дело в шляпе. Им руководило не столько чувство мести, сколько забота о собственной безопасности: исключенный из партии, низведенный до уровня простого смертного, Рошар станет всего-навсего безобидным горлопаном, если не того меньше.
По пути в жандармерию кабатчик останавливался раз десять, чтобы показать доносчика знакомым и рассказать свою историю. Дважды ему удалось даже собрать небольшую толпу.
В жандармерии, куда он добрался в двенадцатом часу, его встретил тот самый бригадир, который делал у него обыск. Увидев повисшего у него на руке Рошара, жандарм быстренько смекнул, в чем дело, и повел себя сдержанно, почти безразлично.
– Вот он, человек, который на меня донес. Видите, мы с ним успели подружиться. Он не хочет со мною расставаться и привел меня сюда, чтобы заявить, что все его россказни о Максиме Делько, который якобы бродил перед моими окнами, а потом сидел у меня в кухне, высосаны из пальца.
– Позвольте, – сказал Рошар, слегка воспрявший духом, – это вовсе не так.
– Он сам во всем признался! – прервал его Леопольд.
– Все это ваши личные дела, – сказал бригадир, – и жандармерии они не касаются. Господин Рошар мог ошибиться. Это никогда не считалось преступлением.
Леопольд, скользнув рукой по спине Рошара, залез ему в задний карман брюк, вытащил оттуда револьвер и швырнул его на стол.
– А это преступление или нет? Мерзавец собирался пустить его в ход против меня.
Бригадир, который и помыслить не мог о том, чтобы отобрать револьвер у коммуниста, поглаживал оружие тыльной стороной ладони, взглядом как бы приглашая владельца забрать его назад.
– Послушайте, – сказал он, – ваша история мне не совсем ясна, и я не намерен разбираться в ваших личных дрязгах.
Он явно пребывал в замешательстве. Леопольд, чуть отстранив от себя Рошара, шепнул бригадиру на ухо:
– Его исключили из партии.
Бригадир прошелся по кабинету, прокашлялся и, вернувшись к посетителям, изрек:
– Как я уже говорил, в ваши дела я вмешиваться не намерен. Но вот у вас я хотел бы спросить: какого черта вы таскаете с собой револьвер? У вас есть разрешение? Разумеется, нет. Какая ерунда – разрешение, не так ли? На жандармерию мы плюем!
Положив револьвер в ящик стола, он продолжал:
– Знаете, Рошар, вы начинаете нам надоедать. Последнее время о вас что-то слишком часто приходится слышать. Пора положить этому конец. И потом, что это вы вздумали морочить жандармерии голову своими дурацкими выдумками? Вам известно, что это дело нешуточное? Вам известно, что тем самым вы допустили оскорбление властей и это может вам очень дорого обойтись?
На протяжении всего пути от станции до жандармерии Рошар сносил принуждение Леопольда с затаенной яростью и с непрестанной думой о мести. Он знал, что надо только немного потерпеть и все образуется. Но поведение бригадира его ошеломило. Что-то в его мире рушилось, и он почувствовал, что над ним нависла неведомая угроза.
– Я не думал, что это так серьезно, – униженно пролепетал он.
– Ах, вы не думали? Знаете, так и чешутся руки вправить вам мозги.
– Я уверен, что в глубине души он сожалеет, – вступился за Рошара Леопольд. – Он понимает, что сделал явную глупость, и уже достаточно наказан.
– Ладно, Рошар, в последний раз я вас прощаю, но браться за старое не советую.
Леопольд отпустил своего пленника лишь после того, как они вышли за порог жандармерии, – ему было важно, чтобы их увидели выходящими оттуда вместе. Время подходило к полудню, и улицы начали заполняться народом, оживленным, как и всегда по субботам, в предвкушении отдыха. Обретя свободу, Рошар почему-то не спешил ею воспользоваться и покорно льнул к Леопольду.
– Ты можешь идти, – сказал ему кабатчик.
Рошар глянул на него растерянно, словно вдруг почувствовал себя лишенным опоры.
– А! Ну да, – пробормотал он. – Так я пошел. До свиданья.
– Пока.
В кафе «Прогресс» учеников за столами сменили любители аперитива, и никто уже не вел речей о Расине. Толпа страждущих обступила стойку, за которой металась едва успевавшая поворачиваться хозяйка. Не тратя времени на то, чтобы повязаться фартуком, Леопольд ринулся ей на выручку, однако обслужить Генё, ожидавшего у стойки вдвоем с Журданом – молодым учителем словесности, коммунистом, назначенным в блемонский коллеж с начала учебного года, – не торопился. Наконец, когда подошла их очередь, Леопольд встал подле них и, обращаясь словно бы не к ним, а к остальным клиентам, начал свой рассказ:
– Послушайте-ка, что за штука со мною приключилась. Представьте себе, что Рошар, ну, тот самый, железнодорожник, бригадир рабочих станции…
При упоминании о Рошаре Генё насторожился и дал знать молодому учителю Журдану, что ему тоже есть смысл послушать.
VI
Было условлено, что во время еды, то есть в те единственные часы дня, когда Максим Делько бывал в гостиной, он будет хранить молчание. Комнату отделяла от коридора всего лишь дверь, так что приходилось опасаться, как бы кто-нибудь из Генё, проходя мимо, не услышал постороннего голоса. Это могло пробудить подозрения. Вынужденная немота отнюдь не способствовала сближению Максима с приютившими его людьми. Отлученный от общего разговора, он с тем более досадной очевидностью представал незваным пришельцем. Это тягостное ощущение он испытал за первым же обедом, первой трапезой за столом Аршамбо. Не успев еще как следует разглядеть непрошеного жильца, Аршамбо изучали его лицо, манеру держаться, и стоило ему поднять глаза, как он встречал испытующие взгляды, о которых не мог сказать, доброжелательны они или нет. И действительно, определенное впечатление о нем у хозяев так и не сложилось даже к концу обеда. При виде этого молодого лица с мелкими чертами, которое от угла зрения казалось то жестким и волевым, то, напротив, изнеженным и незначительным, Мари-Анн и ее матери не удавалось уловить суть его характера, что позволило бы им вынести определенное суждение. В его влажно поблескивавших черных глазах, в живом и подвижном взгляде иногда появлялось какое-то отталкивающее животное выражение. Тем не менее готовность женщин сострадать склоняла их в его пользу.
Пьер же неприязненно косился на чужака, с которым ему теперь приходилось делить постель. Прикосновение костлявого тела, явно не ведавшего занятий спортом, вызывало в нем чувство гадливости. Он не обнаруживал и следа молодости в этом замкнутом, самоуглубленном человеке, зато чувствовал в нем педагогические наклонности, которые уж никак не могли вызвать его расположения. Не особенно трогала его и романтическая сторона ситуации, поскольку случай Максима Делько представлялся ему совершенно банальным. Впрочем, в тот день, когда расстреливали группу коллаборационистов, Пьер находился в первом ряду зрителей, и, разумеется, наблюдать за казнью в столь непосредственной близости было волнующе, но все же зрелище как-то сильно смахивало на кино. И, как он уже убедился, в смерти человека не было ничего более значительного, чем в кинематографическом эпизоде. Когда спектакль окончился, люди стали обмениваться замечаниями, поводили плечами, стряхивая дрожь, и потом уже никто об этом не думал. Наконец, Пьер, считая себя патриотом, не чувствовал никакого снисхождения к той категории субъектов, которых кино, радио, пресса и книги хором высмеивали и клеймили за низость. За обедом он обратился к отцу:
– Говорят, по квартирам пошли с обысками – ищут сбежавшего вчера вечером коллаборациониста.
Делько поднял голову. Лицо его исказилось, в глазах заметалась паника. Кое-как овладев собой, он негромко произнес, глядя на Пьера:
– Не беспокойтесь. Этой ночью я от вас уйду.
Ответ этот, которого Пьер вовсе не добивался, поверг юношу в смущение. Недовольство собой, однако, не побороло его неприязни к беглецу, сумевшему уязвить его упреком в малодушии. Аршамбо же едва не поддался искушению воспользоваться благоприятным случаем, чтобы отделаться от опасного гостя, но заговорившая в нем совесть взяла верх.
– Да нет, тут другое дело. Утром жандармы действительно пришли с обыском в «Прогресс», но это по доносу Рошара – он перед тем крупно повздорил с Леопольдом.
Вывод напрашивался сам собой, но тем не менее Аршамбо, обращаясь к Делько, добавил:
– Так что уходить вам нет никакой нужды.
Делько взглядом поблагодарил его, и инцидент был исчерпан. К этому человеку, которого Аршамбо знал уже давно, он не питал никакой антипатии – как, впрочем, и симпатии. На протяжении девяти лет он по многу раз за день встречал его в кабинетах заводоуправления, перебрасывался с ним двумя-тремя фразами по поводу работы, никогда особенно им не интересуясь. Это был добросовестный, исполнительный служащий, несомненно, способный занимать более значительную должность, чем та, на которой он прозябал. Было известно, что он пишет стихи, состоит в переписке с политическими журнальчиками и читает титанов социалистической мысли. До самой войны он носил галстуки, завязанные крупным бантом, и черные фетровые шляпы с широкими полями. В течение 1938 года книги и размышления постепенно склонили его к фашизму, хотя открыто он его не исповедовал. Попав в 1940 году в плен, он вернулся несколько месяцев спустя, потому что в армии был всего лишь санитаром, и занял прежнюю должность, но лишь для того, чтобы почти сразу же ее оставить – его забрал в административный центр бывший товарищ по шталагу[5]5
Шталаг – немецкий лагерь для военнопленных низших чинов.
[Закрыть], незадолго перед тем возглавивший местную газету. Аршамбо обычно интересовался служащими и рабочими, тянувшимися к знаниям, и помогал им словом и делом. Но галстуки бантом, пристрастие Делько как к поэзии, так и к политике всегда казались ему легкомысленными. Он считал, что не обделенный умом мелкий служащий мог бы найти занятия поважнее, чем писать стихи и, разгуливая в шляпе художника, грезить об обществе будущего. Покинуть свою ступеньку иерархической лестницы, думал он тогда, можно лишь взобравшись на следующую. Сегодня же, когда он сидел напротив Делько, ему все представилось несколько иначе. При виде этого утонченного лица с почти женственными чертами он начал понимать, что обладатель его не удовлетворил бы своих запросов повышением в должности с прибавкой жалованья в пятьсот или там в тысячу франков. Более того, Аршамбо даже понимал, что́ могло привести мелкого конторского служащего к фашизму. Восстав против гнета буржуазного мира, он обратился к социализму, ища его реальные проявления в рабочих организациях. Там он столкнулся с людьми грубыми и жестокими, которым его галстук бантом, его учтивые манеры, чуть ли не женская изысканность не могли прийтись по сердцу. В довоенную пору в таком маленьком городке, как Блемон, служащий, не желающий быть мелким буржуа, почти неизбежно становился деклассированным элементом, обрекая себя на одиночество. Делько нашел прибежище в интеллектуальном, доморощенном социализме, всецело отдававшем его во власть случайной книги или встречи.
Обед закончился, и Мари-Анн зашла к Ватрену за тарелкой и прибором – от мытья посуды они с матерью старались его избавить. Аршамбо дал знак Делько, чтобы тот прошел с ним в комнату учителя, с которым хотел его познакомить.
– Здесь вы можете вполголоса разговаривать, – сказал он ему. – Стены достаточно толстые.
Делько извинился за то, что был вынужден прятаться в комнате учителя, и поблагодарил его за предоставленное убежище, добавив, как рад он встретить человека, готового поверить, что поставленный вне закона – не обязательно преступник. Ватрен сказал, что, дескать, пустяки, не стоит благодарности, и в свою очередь произнес полную благожелательности и радушия речь. Делько сразу же стало с ним легко.
– Мы не хотели бы задерживать вас дома, – сказал Аршамбо учителю. – Может быть, вы собирались выйти.
– Нет, посмотрите, начинается дождь.
Ватрен показал на луга и поля за развалинами, подернутые дымкой дождя.
– Какая свежесть, какая прохлада. Словно тающий на языке леденец. Люблю ненастную погоду. Не меньше, чем солнечную.
– Для меня истинное счастье любоваться природой – хоть в ясную погоду, хоть в дождь. Ведь я уже больше семи месяцев не видел света дня, – сказал Делько.
Учитель усадил гостей и принялся расспрашивать газетчика о его добровольном заточении в подвале. Делько нашел приют у своей прежней квартирной хозяйки, госпожи Сеген, бывшей галантерейщицы с улицы Чесален. Теперь он мог назвать ее – это не было секретом для жандармов, хотя сам он не оставил никаких следов своего пребывания в подвале, который делила с ним старая женщина.
– Она могла бы все отрицать, но наверняка призналась. Попасть в тюрьму было ее заветной мечтой. Ей, ютящейся в подвале почти без всяких средств к существованию, тюрьма представлялась чем-то вроде рая. Гарантированный кусок хлеба и право видеть белый свет, пусть даже и сквозь решетку. Она частенько говорила мне: «Раньше я не осмелилась бы об этом и подумать, но теперь, когда посадили столько приличных людей, стыдиться нечего». Не знаю, что они с ней сделают.
– Похоже, жандармы ее забрали, – сказал Аршамбо и добавил: – Не хочу быть нескромным, но любопытно было бы узнать, как вы стали фашистом.
Делько не пришлось собираться с мыслями: ответ его был готов уже давно. Обращение в фашистскую веру произошло в результате длительных наблюдений и размышлений. Умозаключения, к которым он приходил на протяжении 1936–1938 годов, выстраивались в нерушимую логическую цепь. Случайные зигзаги, минутные колебания настроения в расчет, естественно, не шли. Что-то в этом роде и ожидал услышать Аршамбо. Человек принадлежит определенной среде, ремеслу, женщине, городу, улице, галстуку бантом – и вдруг его смывает, уносит волной, он теряет все ориентиры, а когда волна, схлынув, оставляет его одного, доводы он найдет для чего угодно. Этот незадачливый журналистишка дорожил своими доводами, как зеницей ока, и для него они и впрямь останутся единственным достоянием, когда его поведут на расстрел. А пока он упивался ими: «Я видел, что Европа зажата между коммунизмом и океаном…» Он был так переполнен своими идеями, что инженер поневоле втянулся в дискуссию.
– Пусть так. Но ваш фашизм был все-таки не французским.
– А французского фашизма и быть не могло, – парировал Делько.
– Вот видите, вы сами это признали. В общем, вы были больше немцем, нежели французом.
– Да. Для меня Германия была превыше Франции. До Освобождения я не осмелился бы признаться в этом и самому себе, но теперь, когда я обречен быть изгоем, мне уже нет нужды лицемерить. Итак, первым делом Германия. Наверное, я оскорбляю ваш слух, господин Аршамбо. Но ведь находите же вы естественным, что в глазах французского коммуниста настоящая родина – это родина марксизма, Россия. Пройдет не так много времени, и вы поймете, что между сороковым и сорок четвертым годами настоящей родиной антикоммунизма была Германия. Пока вы еще считаете, что можно цепляться за оттенки. Этот мерзавец Петен тоже так считал, потому-то я и надеюсь, что его расстреляют. Не будь этого старого хрыча, который беспрестанно ловчил ради Франции – с таким же успехом можно сказать: ради Людовика Четырнадцатого, – Германия выиграла бы войну и коммунизму пришел бы конец. Я снова оскорбляю ваш слух, господин Аршамбо, потому что вы привыкли даже в мыслях позволять себе лишь благонамеренные чаяния, подавляя свои истинные устремления, которые могли бы возникнуть. Ваши чаяния – это временное, переходное состояние, которое будет продолжаться, однако, до конца вашей жизни. Что же до ваших возможных истинных устремлений, то сейчас уже поздно. Франция отдана на растерзание варварам. Гитлер был ее единственным шансом, да еще каким! Но старикан этим шансом пренебрег. Тем хуже для нас.
Аршамбо улыбался с той же ироничной учтивостью, с какой читал бы поэму Поля Валери. Делько повернулся к Ватрену, как бы призывая его в свидетели.
– Вы совершенно правы, – сказал учитель. – Гитлер вполне мог бы оказаться тем самым шансом, о котором вы говорите.








