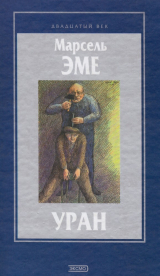
Текст книги "Уран"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
За развалинами типографии, посреди разбомбленной винокурни Монгла-отца, беседовали наедине Мари-Анн и Мишель, укрытые от нескромных взоров остатками стен бывшей конторы виноторговца. В черном костюме, в черной шляпе, с крахмальным воротничком и жемчужно-серым галстуком Монгла-сын говорил добрых сорок пять минут, и Мари-Анн, слушая его, успела уже несколько отупеть.
– Наши предки рыцари, всадники в железных доспехах, вели трудное, но честное и полное идеалов существование. И они были счастливы. Почему? Да потому что совесть у них была чиста. Сегодня люди думают только о деньгах, уровень морали день ото дня падает, и уже меньше счастливых, чем раньше. Я думаю, пора забить тревогу и вернуться к простоте наших отцов. Что касается меня, то я намерен отныне вести достойную жизнь. Наше счастье, дорогая, будет создаваться одним лишь моим трудом. У меня есть сбережения, я куплю большой обувной магазин, и плодами наших усилий станет скромный, но прочный достаток. Он позволит нам воспитывать наших детей и сделать из них впоследствии порядочных мужчин и хороших домохозяек. Я решил, что наша свадьба состоится в октябре.
– Но твой магазин, ты его купишь в Париже?
– Нет, в Бордо или Лионе. Еще я подумываю о Лилле.
– Но мне-то надо жить в Париже. Как раз в октябре начинаются мои театральные курсы.
– Послушай, дорогая, ну при чем тут театр? Мы же говорим серьезно.
– Но и я говорю очень серьезно.
Донесся далекий еще свисток локомотива, потом возбужденный гул толпы.
– Вот и поезд, – сказал Мишель, поднимаясь с груды щебня, на которой они сидели. – Кстати, пока я не забыл: ты ничего не говорила Максиму Делько или кому-нибудь еще о той комбинации, о которой я тебе рассказывал вчера?
– Нет еще.
– Все сорвалось. Утром я получил письмо. Теперь нужно ждать еще дней десять.
Мари-Анн тоже поднялась и, внимательно рассмотрев Монгла-сына, нашла, что он не так привлекателен, как обычно. Черное ему не шло. Он выглядел старше по меньшей мере лет на десять – этакий зрелый муж. Взгляд девушки смутил его, и он отвернулся к дверному проему, как бы обрамлявшему пейзаж из руин.
– Дело в том, – выдавил он из себя, – что в данный момент я ничего не могу сделать, из-за отца. Его просто ошарашила выходка Леопольда.
Поезд прибывал на станцию. Мишель, сняв шляпу, поцеловал Мари-Анн в лоб. Перед тем как расстаться с ней, он выразил сожаление, что они не смогут еще раз повидаться сегодня. Отец договорился о встрече с префектом, и он должен сопровождать его в административный центр.
– Это ничего, – сказала Мари-Анн, проходя в дверной проем.
Выйти на перрон разрешили только близким родственникам пленных. Когда солдаты сошли с поезда, образовался бурлящий водоворот, в котором Ватрен на миг потерялся. Люди обнимались почти в полном молчании. Пережитое все равно не уместилось бы в несколько фраз, и потому обменивались больше взглядами, нежели словами. Ватрен неуклюже пробирался в толпе военных и штатских, наталкиваясь на людей, спотыкаясь о поставленные чемоданы, и подобно перепуганной птице вертел во все стороны головой. Он искал юношу двадцати трех лет с румянцем во всю щеку, а навстречу ему двинулся двадцативосьмилетний мужчина с жесткими, огрубелыми чертами лица. Они обнялись. Молодого Шарля Ватрена сопровождал солдат постарше лет на семь-восемь, невысокий брюнет с веселыми глазами, который с любопытством оглядывался вокруг.
– Это Фернан Галльен, – сказал Шарль отцу. – Мы были в одной команде.
Галльен пожал учителю руку и скромно отошел. Он знал, что встречать его некому: о смерти отца ему сообщили еще в 43-м, и из родственников у него оставалась только престарелая дряхлая тетка, не способная передвигаться.
– А где мама? – спросил Шарль.
Ватрен и думать об этом забыл. Улыбаясь, он ответил:
– Твоя мать умерла.
У молодого человека отвисла челюсть.
– Ее убило при бомбежке. Она была у друзей. Весь дом рухнул.
Окаменевший от ужаса, Шарль силился отогнать от себя кошмарное видение матери, раздавленной подобно огромному насекомому, и вернуться к безмятежным и приятным картинкам безвозвратно ушедших дней. Ватрен, движимый нежностью и сочувствием, попытался прижать сына к своей груди, но сделал это неловко и запутался в багаже, стоящем у него в ногах. Шарль нетерпеливо высвободился из его объятий. Тем временем локомотив выпустил густой дым, туманом растекшийся под стеклянной крышей вокзала. Поезд тронулся, унося к местам назначения остальных освобожденных военнопленных, которые, высунувшись в окна, горланили песни, радуясь возвращению.
– Удивительная штука поезд, – сказал Ватрен. – И эти рельсы, которые парою бегут посреди полей, чистые, сверкающие, нарядные, – какое чудесное изобретение. Мне очень нравятся рельсы.
Он восхищенно улыбнулся. Удивленный таким безоблачным настроением отца, солдат взирал на него с недоумением, начиная догадываться, что вдовство не стало для него тяжким испытанием. Со своей стороны и Ватрен понял, что его поведение не соответствует тем чувствам, которые испытывает сын, и открыл было рот, чтобы вновь заговорить о смерти его матери, но не успел. Полицейский комиссар с помощью двоих ажанов собрал солдат и повел их к ожидавшей толпе и властям. Вслед за ними повалили внутрь вокзала родственники, торопясь занять места у окон вестибюля и зала ожидания, чтобы не пропустить ничего из церемонии. Вышедших на площадь солдат встретил восторженный рев. Их было около сорока – блемонцев и крестьян из близлежащих коммун, нагруженных сундучками, чемоданами, узлами. Почти машинально они выстроились в две шеренги, словно на последнюю перекличку. Когда грянула «Марсельеза», они щелкнули каблуками, вздернули подбородки, выпятили грудь. Но мало-помалу головы их стали поворачиваться влево. Еще по пути домой они узнали о бомбардировке Блемона. Хотя поездка по Германии и приучила их к зрелищу руин, они не могли представить себе, что их родной город разрушен на две трети, что столь обширно поле развалин, под которыми оказалось погребено так много воспоминаний, согревавших их на протяжении долгих пяти лет плена. Застывшие от изумления лица солдат, их округлившиеся при виде масштабов бедствия глаза заставили собравшихся с новой силой пережить свое горе. Толпу охватила общая великая скорбь. Женщины рыдали, мужчины пытались совладать с волнением. Некоторые солдаты отыскивали взглядом место, где прежде находился их домашний очаг. Шарль Ватрен смотрел на липы бывшей площади Агю, благодаря которым смог точно определить, где именно он оставил свою мать в феврале сорокового, во время своего последнего отпуска. А вот его товарищу Фернану Галльену, стоявшему рядом с ним в первой шеренге, никак не удавалось сориентироваться и определить, где же был его отчий дом.
Когда допели «Марсельезу», на середину строя солдат вышел мэр. Глаза его увлажнились, листки бумаги с заготовленной речью дрожали в его руках. «Дорогие мои дети, – начал он, – после пяти лет разлуки, которые были для вас…» Он говорил о моральных и физических страданиях пленников, о тревоге и печали родственников, оставшихся на родной земле, о неугасимой надежде, никогда их не оставлявшей. Внезапно в первых рядах толпы произошло легкое волнение. Группа полицейских, поставленных сдерживать зрителей, раздвинулась, пропуская пятерых парней лет двадцати – двадцати пяти, которые уверенно направились к военным. Один из них, самый высокий, схватил солдата Фернана Галльена за руку, вытащил его из шеренги и, ударив кулаком в лицо, швырнул на землю. По его примеру четверо других бросились на бывшего пленного и принялись месить его кулаками и ногами. Галльен слабо отбивался, изо рта и из носа у него обильно потекла кровь. Мэр сильно побледнел, но, решив ничего не замечать, прерывающимся голосом продолжал свою речь: «С огромной гордостью и великой радостью встречает сегодня наш доблестный город своих самых любимых сыновей…» Комиссар полиции повернулся спиной к избиваемому и неспешно направился к группе муниципальных советников. Призадумавшиеся солдаты оставались на своих местах и, извлекая из происходящего урок осторожности, проникались сознанием того, что они попали на поднадзорную свободу и что первым делом им придется пересмотреть круг знакомств и привязанностей, которые они рассчитывали возобновить в родном краю. Один только Шарль Ватрен в благородном порыве шагнул было вперед, но тотчас попятился обратно. Усталый голос мэра вибрировал: «Ваше самопожертвование, ваша несгибаемая воля…»
Стоявшему в тени трехцветного флага Генё было не по себе, его так и подмывало вмешаться и прекратить избиение или хотя бы скрыться и не видеть этого, но он сохранил достаточно хладнокровия, чтобы не поддаться столь нелепому искушению. Как и его товарищ Журдан, который в отличие от него наслаждался зрелищем без всякого ощущения вины, умом он отлично понимал полезность и обоснованность этого публичного наказания. Этот Фернан Галльен, бывший коммунист, порвавший с партией после заключения германо-русского пакта и снискавший за время пребывания в плену репутацию ярого вишиста, о чем в Блемоне стало известно задолго до его приезда, конечно же, не заслуживал жалости. Настигшее его сейчас возмездие послужит хорошим уроком населению Блемона. Наконец – и это самое главное, – прием, оказанный одному из бывших пленных, заставит пораскинуть мозгами и всех остальных, за годы лагеря наверняка составивших себе чересчур радужное представление о жизни на свободе.
«Величие Франции… Гнусный старец… клика вишистских предателей…» Мэр перевел дыхание, и грянули аплодисменты. Башлен, владелец завода, неистово рукоплеща, поглядывал на своих инженеров. Аршамбо, несмотря на данное себе обещание, так и не набрался смелости не хлопать. Пятеро экзекуторов, оставив Галльена на мостовой, удалились спокойно, без лишней рисовки, как бы с сознанием добросовестно выполненной работы. В первом ряду зрителей трехлетняя девочка, которую держал на руках отец, сказала, показывая на пятерку пальчиком: «Плохие дяди, плохие». Отец со слабой улыбкой обернулся к окружающим, но, встретив лишь замкнутые из предосторожности лица, понурился, и его бледная улыбка погасла, а лоб прорезала тревожная складка.
На самом виду, между бесформенной толпой и первой шеренгой солдат, был распростерт на спине Галльен – окровавленное лицо, изувеченный рот, заплывшие глаза, рассеченные губы и брови, учащенно вздымающаяся грудь… Его слабые стоны перекрывались гугней мэра, который продвигался к финалу: «…чтобы совместно с вашими братьями из Сопротивления стать творцами ее немеркнущего величия». Аплодисменты, толпа, муниципалы, коммунисты, священники, социалисты, инженеры, Башлен, Аршамбо. Похвалив мэра за красноречие, супрефект отделился от группы официальных лиц и направился к солдатам, передать им приветствие правительства. Молодой, в щегольски скроенном мундире, с благожелательным выражением лица и глубокомысленным взглядом, он ступал легко, не замечая лежащего на земле окровавленного человека, пока его самоуверенность не поколебал досадный инцидент. Учитель Ватрен, пробравшись сквозь солдатский строй, склонился над раненым и принялся вытирать платком кровь, залившую его лицо. Когда он подсунул Галльену под спину руку и попытался его усадить, тот громко застонал от боли. Супрефект остановился удивленный, тщетно пытаясь сохранить самообладание.
– Помогите мне, – сказал ему Ватрен.
Супрефекта передернуло, и он отвернулся, ища взглядом поддержки у официальных лиц. Ватрен же, подняв руку, стал искать вокруг человека доброй воли. Аршамбо был бы рад оказаться таковым, но ноги никак не хотели ему повиноваться. Впоследствии он не мог без стыда вспоминать об этих нескольких секундах, в течение которых чувствовал себя пригвожденным к месту, словно был неотделимой от толпы молекулой. Учитель, сообразив, что у него есть сын, обернулся к нему и скомандовал:
– Шарль, иди-ка помоги мне.
Покраснев, Шарль поначалу лишь переминался с ноги на ногу, но отец проявил настойчивость, и он вышел из строя. Вдвоем они осторожно приподняли раненого и перенесли его в вестибюль, где уложили на скамью для багажа. Фернану Галльену было, похоже, совсем худо. На лицо его со множеством кровоточащих ссадин страшно было смотреть, но учителя больше беспокоило то, что было скрыто от глаз. Солдат жаловался на нестерпимую боль во всем теле, и малейшее движение исторгало из него вопль. Ватрен вышел на ступени, тем самым возвысившись над участниками церемонии, и, сложив ладони рупором, прокричал, прерывая выступление супрефекта:
– Требуется срочная врачебная помощь!
Призыв повис в воздухе. Супрефект, которого перебили в тот самый момент, когда он обещал бывшим пленным скорое и впечатляющее восстановление их доблестного города, подавал явные признаки нетерпения, но Ватрен уже заприметил в группе именитых граждан рыжую бороду доктора Морё.
– Доктор Морё, я прошу вас прийти на помощь раненому!
Доктор поспешно загородился шляпой и ничего не ответил.
– Доктор Морё! – возвысил голос Ватрен. – Вы не имеете права уклоняться! Я требую, чтобы вы осмотрели раненого, его состояние требует немедленного врачебного вмешательства!
Толпа была внимательна и молчалива. Досадливо морщась, супрефект поманил к себе комиссара полиции и процедил сквозь зубы:
– Послушайте, господин Лашом, это становится нетерпимым. Пора положить этому конец.
Комиссар, кликнув двоих ажанов, кинулся выполнять распоряжение.
– Доктор Морё! – не унимался учитель. – Вам придется отвечать за…
Закончить фразу ему не дали: перед ним возник комиссар и принялся бесцеремонно оттеснять его в вестибюль, взывая к его здравомыслию.
– Ну-ну, господин Ватрен, будьте же благоразумны. Во что превратится праздник, если каждому вздумается поднимать гвалт!
– Дайте мне договорить! Я выполняю свой человеческий долг!
– Господин Ватрен, сейчас вы спокойненько возвратитесь на место и продолжите участие в церемонии…
– Чихать мне на церемонию. Тут человек страдает…
– Это не ваше дело, – раздраженно отрезал комиссар.
– Согласен, это ваше дело, но коли вы уклоняетесь от исполнения своих обязанностей…
– Коли вы сами меня к этому вынуждаете, придется принять к вам соответствующие меры.
Комиссар подал знак ажанам, и те с двух сторон взяли Ватрена под руки.
– Уведите господина учителя подальше от вокзала. Прогуляйтесь с ним по развалинам.
Ватрен бросил последний взгляд на раненого, который продолжал стонать. Шарль незаметно улизнул. «Освобожденная от врагов, от всех своих врагов, молодая пылкая Франция, руководимая элитой, чей интеллект, широта взглядов и гуманизм являются предметом восхищения для всего мира…» – вещал оратор.
XXII
Преследуемый голосом супрефекта, Ватрен с ажанами по бокам вышел на перрон, прошел с полсотни метров вдоль железнодорожного полотна и, миновав два ряда уцелевших от бомбежки домов, углубился в руины. Полицейские оставили его, и он, еще разгоряченный, шагал куда глаза глядят между остатками стен и грудами обломков. Ходьба успокоила его и сняла нервное напряжение. Без гнева и возмущения он принялся размышлять об осторожном поведении сына. Если принять во внимание дружбу, связывавшую его с Фернаном Галльеном, то гордиться мужеством Шарля не приходилось. Естественно было бы ожидать, что при виде гнусной расправы над товарищем по плену здоровый двадцативосьмилетний парень ринется его спасать или уж по крайней мере во всеуслышание выскажет свой протест. На деле Шарль отмежевался от Галльена и безучастно созерцал бы его агонию, не заставь его отец прийти на помощь. Тем не менее Ватрен нисколько не осуждал сына, хорошо понимая, что творилось в душе у молодого человека, который, едва вернувшись на родину после пятилетнего отсутствия, стал свидетелем преднамеренного жестокого избиения, совершаемого при попустительстве толпы и властей. Не имея ни малейшего понятия о том, какие моральные установления царят нынче в обществе, он пребывал в растерянности: ведь любой его шаг могли бы расценить как преступный, так что в действительности он еще проявил мужество, когда помог отцу унести раненого. С его стороны это был по меньшей мере вызов общественной морали. Теперь учитель почти сожалел о том, что так ополчился на доктора Морё, когда тот не пожелал откликнуться на его зов. Точно так же, как мэр и супрефект, кюре и полицейский комиссар, доктор Морё встал на сторону морали. Кстати, из тех же побуждений эти достойные люди в августе прошлого года молча согласились стать соучастниками мучительной казни милисьена.
Поравнявшись с особняком д’Уи, Ватрен сквозь одну из брешей в ограде проник в сад. Бомба разорвалась прямо в погребе особняка, так что от него не осталось камня на камне, но сад, расположенный ниже дома, пострадал меньше. Газоны были усыпаны разметанными взрывом обломками, аллеи заполонила трава, там и сям повылезали кусты крапивы, а в углу ограды другая бомба вырыла огромную воронку. Зато великолепные деревья в большинстве своем остались невредимы, как и купы самшита, и все это место сохранило гармонию линий, несмотря на камни, крошево и сорняки – впрочем, они лишь прибавляли ему очарование романтической заброшенности. Позабыв о своем злоключении, Ватрен размышлял теперь о престарелой маркизе д’Уи, чье двадцатилетие пришлось год этак на 1880-й, и представлял себе, как она, юная, стройная, гибкая, с летним зонтиком в руке и в платье с турнюром прогуливается под сенью дерев в сопровождении блемонского каноника и полковника гусар. В глубине сада он набрел на выдолбленный в земляном холмике грот, откуда бил родничок: по каменистому ложу весело сбегала вода. Прохладный этот уголок окружали купы самшита, росшие в тени двух толстых буков. Приближаясь к гроту, чтобы насладиться журчанием родничка, учитель вздохнул, обнаружив девушку, сидевшую на каменной скамье в лиственной нише. Решив, что он помешал любовному свиданию, Ватрен постарался не выказать удивления, когда узнал в девушке дочь Аршамбо. Судя по ее покрасневшему лицу и скомканному платочку в руке, она только что плакала. Учитель намеревался было после одной-двух банальных фраз о свежести тенистого местечка избавить девушку от своего присутствия, но тут она, спрятав лицо в ладони, разрыдалась. Ватрен не счел возможным оставить Мари-Анн одну и, ожидая, пока она немного успокоится, залюбовался сверканием водяной струи в глубине грота. Рыдания смолкли. Отняв руки от лица, девушка подняла на учителя заплаканные глаза и с неожиданным ожесточением, словно перекладывая на его плечи тяжкий груз, который ей стало уже невмоготу нести в одиночку, выпалила:
– Только что, возвратясь домой, я наткнулась на маму – она взасос целовалась с коллаборационистом!
Ватрен в ответ лишь покачал головой. Несколько секунд спустя Мари-Анн с прежним ожесточением спросила:
– Ну и что вы об этом думаете?
– Да почти ничего.
– Это в ее-то возрасте! Имея восемнадцатилетнюю дочь!
Ватрен постарался как мог оправдать госпожу Аршамбо.
Возраст в данном случае не имеет значения, сказал он, как и опыт, который скорее служит искушением. Единственной ошибкой госпожи Аршамбо, на его взгляд, было то, что она не позаботилась запереть дверь на ключ. В остальном он видел лишь стечение обстоятельств. В нас таится столько неведомых нам же самим богатств, говорил он, бьет столько источников, столько перед нами каждый миг открывается путей, дорог, аллей и тропок, что мы не должны особенно удивляться тому, что ступили на одну из них. Еще он утверждал, что жизнь – это прекрасная полноводная река, увлекающая нас течением меж берегов, населенных дубами, гибискусами, тростником, пихтами, кокосовыми пальмами, розовыми фламинго, садовыми мальвами, белыми кроликами, цветущими вишнями, рыболовными удочками и слонами, и надо править своей лодкой так, чтобы не закрывать простор другим, и при этом никогда не упускать возможности насладиться тысячью и тысячью чудес, переливающихся всеми цветами радуги, и никогда не задаваться вопросом, не несут ли случайно воды великой реки отбросы, или дохлых крыс, или удавленных старух-рантье. Мари-Анн считала, что все это не совсем по существу. Ей хотелось бы, чтобы учитель рассматривал приключение ее матери не в столь широком аспекте.
– Господин Ватрен, я ужасно несчастна. Я не смогу больше смотреть маме в глаза.
– Полно, полно. Можно подумать, мир перевернулся.
– Вот именно перевернулся.
– И все равно нельзя выдавать свое смятение. Подумайте, какой тревогой охвачена в эти минуты госпожа Аршамбо и какой будет для нее удар, если вы не вернетесь к полудню. Подумайте и о том, что бедная женщина, видя вас, будет трепетать, и только от вас зависит, преодолеет ли она чувство унижения и стыда. Понадобится вся ваша нежность, вся изобретательность вашего щедрого сердца, чтобы залечить столь глубокую, столь жгучую рану.
Представленное в таком жалостном свете прегрешение госпожи Аршамбо растрогало Мари-Анн. Отвращение и горечь растопил этот жаркий порыв милосердия. Ватрен остался чрезвычайно доволен собой. Он уже собрался уйти, но девушка, снова расплакавшись, удержала его за рукав пиджака.
– Господин Ватрен, у меня тоже есть любовник.
Это признание, похоже, больше затронуло учителя, нежели первое. Упавшим голосом Мари-Анн добавила:
– Он хочет купить обувной магазин и жениться на мне.
– Тогда это замечательно.
– Он похож на дородного кюре в мирском платье и думает только о том, как бы повысить моральный уровень.
– Вот как? – сказал учитель. – Великолепно. Какое счастье – знать, что на свете существуют такие очаровательные существа! Милый дородный кюре в мирском платье, я уже начинаю любить и его самого, и его моральный уровень, и его обувной магазин. Ах, люди, Мари-Анн, люди! Какие восхитительные создания! Ходят, спешат; кабатчики, учителя, сапожники, президенты, коммунисты, почтальоны, слесари, инженеры, путевые обходчики, и у каждого на плечах своя голова, со своим особенным содержимым; они хитры, лукавы, радушны; они суетятся, подстраивают один другому каверзы, убивают друг друга. Настоящие дьяволята. Видите ли, Мари-Анн, я очень люблю слонов, и прочих зверей, и деревья, и птиц. Разумеется, и птиц. Но в тысячу раз больше я люблю людей, потому что они в тысячу раз прекрасней. Не так ли?
– Если вам так угодно, да, – ответила Мари-Анн, – но он просто дурак. Он не хочет, чтобы я играла в театре. Он решил, что мы будем торговать туфлями. Но почему именно он должен решать? Потому что у него есть деньги? Чихала я на его деньги. А тут еще этот черный костюм, черная шляпа, крахмальный воротничок, как у благонравного супруга. Послушайте-ка, я вспомнила, на кого он похож. На Лаблатта – знаете его, толстый ризничий церкви Святого Евлогия. Господин Ватрен, что вы думаете о девственности?
Ватрен никогда об этом не думал. Блемонский духовой оркестр, многократно звучавший во время речи супрефекта, вновь стал слышен, но уже с большего удаления.
– В мэрии начался банкет. Пора и мне двигаться туда за сыном.
Они вместе покинули сад и вышли из развалин у большого перекрестка, где и расстались. По пути домой Мари-Анн на минуту остановилась, чтобы подождать Генё, который шел из центра города. Его присутствие на банкете сочли необязательным, и он оставил процессию на полдороге. То, что Мари-Анн подождала его и улыбнулась при встрече, взволновало и обрадовало его. Они обменялись несколькими словами по поводу возвращения пленных. Иногда девушка устремляла на Генё немного грустный взгляд, в котором ему чудилось потаенное признание. У начала лестницы она вложила свою руку в его и не отнимала ее все то время, пока они поднимались. Перед дверью она с силой стиснула его пальцы и улыбнулась так печально, что у него защемило сердце.
Мари-Анн направилась прямиком в столовую, не заходя на кухню, где госпожа Аршамбо и жена Генё молча управлялись каждая со своими делами. Она с беспокойством думала о той минуте, когда окажется лицом к лицу с матерью. Делько, к счастью, скрывался в комнате Пьера. Войдя в столовую, госпожа Аршамбо и не подумала избегать взгляда дочери. Вопреки предсказаниям Ватрена, не было похоже, чтобы ее терзали угрызения совести. Она испытывала не столько смущение, сколько досаду и даже злость от того, что оказалась в положении, могущем поколебать ее родительский авторитет. Перед Мари-Анн, которая краснела и лепетала что-то несвязное, она держалась прямо, с высоко поднятой головой и, буравя дочь взглядом, суровым тоном выговаривала ей:
– Ты уже не ребенок. Тебе достаточно лет, чтобы понять, что ни одна женщина не застрахована от определенного рода искушений. Твой отец счел возможным поселить сюда мужчину, тем самым обрекая нас на ежеминутное и весьма тесное с ним общение. Разумеется, моему мужу не хватило ума сообразить, что он подвергает жену и дочь опасности. К счастью, за него подумала я, но, пытаясь оградить тебя, сама попала в переплет. Впрочем, уж лучше я, чем ты. Стоит мне подумать, что подобное могло случиться с тобой… В общем, давай-ка больше не будем об этом. Сейчас ты накроешь на стол, а потом придешь помогать мне на кухне. Как ты знаешь, на обеде нас будет семеро.
Госпожа Аршамбо решила достойно отпраздновать возвращение пленника. На столе было вот что: салат из помидоров с яйцом, филе селедки, творожное суфле, жаркое из говядины, спаржа под белым соусом, листья салата, пирог, клубника. И вина трех сортов. Несмотря на это изобилие, обед от начала до конца прошел в унынии – у каждого из сотрапезников были свои причины для переживаний. Пьер по окончании церемонии встретил учителя Журдана, который, поделившись с ним кое-какими патриотическими соображениями, на этот раз посоветовал выдать фашистского предателя. В понедельник им предстояло снова беседовать на эту тему, и Пьер, которому пока что удалось отмолчаться, не сомневался, что учитель сумеет его дожать, и сейчас уже не столько страшился этого, сколько предвкушал удовольствие. Что касается Максима Делько, то его мучили стыд и отвращение к самому себе, и он замкнулся в угрюмом молчании, не осмеливаясь поднять глаз и всякий раз холодея при мысли о том, что Мари-Анн застигла его в объятиях восьмидесятипятикилограммовой женщины, да вдобавок ее матери.
Сын Ватрена, учтивый, сдержанный, обводил стол осторожным взглядом и, опасаясь подводных камней в разговоре, скупо расходовал слова. На вопросы, которые ему задавали, он отвечал не торопясь, прежде стараясь прочесть ожидаемый от него ответ в глазах собеседников. В присутствии людей, которые досконально знали правила игры, он остро чувствовал свою ущербность и не то чтобы побаивался, но пытался извлечь из их поведения и речей сведения, которые позволили бы ему сориентироваться в мире, где главнейшей добродетелью стало, похоже, искусство притворства. Когда хозяйка дома призвала его в свидетели неслыханной наглости Марии Генё и коммунистов в целом, он уклонился от ответа, отделавшись ничего не значащей улыбкой; подобной же улыбкой ему удалось ограничиться и когда разговор зашел о его старшем брате, который дезертировал в тридцать девятом, сбежав в Мексику. Этой своей сдержанности он изменил лишь однажды, когда Аршамбо поинтересовался тем, какие политические настроения царили в лагерях. Шарль объяснил, что после заключения перемирия сорокового года он заподозрил о замышлявшемся под знаменами маршала заговоре против нации. К несчастью, многие из его товарищей по плену попались на удочку лжецов из Виши, и нашлось слишком много таких, кто упорствовал в этом преступном заблуждении. Но он не дал себя провести и к тому же не скрывал своих взглядов.
– Я сразу же понял, что маршалистская клика радуется поражению Франции и будет стараться все больше усугублять его. Я сразу же сказал себе: де Голль.
– Разумеется, – поддакнул Аршамбо. – В точности как я.
И в улыбке инженера было столько сострадания, что молодой Ватрен призадумался.








