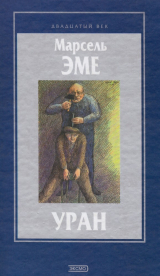
Текст книги "Уран"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
XVI
– Давайте прогуляемся к реке, – предложил Ватрен. – Я покажу вам уголок, где полным-полно стрекоз.
– Подумайте только, какой извращенный тип! – воскликнул Журдан, направляясь за ним следом. – Вы сами слышали: сколько злонамеренности, самодовольства, желчи! Не устаю удивляться людям, которые способны принимать всерьез такого безмозглого, гротескного и скользкого субъекта. Для меня Фромантен – прототип французского социалиста. Напыщенные фразы, вывернутая наизнанку диалектика, слащавое кудахтанье, глубокомысленные взгляды в потолок и гнусное поросячье хихиканье – вылитый Тартюф от марксизма. Я бы сказал, у него и внешность соответствующая. Как вам нравится его круглое брюшко этакого папаши Убю[6]6
Папаша Убю – популярнейший во Франции главный герой цикла сатирических пьес Альфреда Жарри (1873–1907).
[Закрыть], подавшегося в революцию, карамельно-розовая физиономия и бороденка мелкобуржуазного жуира? Согласитесь, да это же законченный портрет ренегата.
Ватрен отмалчивался. Горячность молодого коллеги была ему симпатична, но ни с одним из его суждений о Фромантене он согласиться не мог. По правде говоря, он никоим образом не собирался ни встревать в их спор, ни даже вникать в его смысл. И коммунисты, и социалисты были в его глазах изысканными существами, принадлежащими к великолепной сладкозвучной симфонии, в которую они сливались вместе со слонами, стрекозами и несметным множеством других чудес вроде реки, лугов и блемонских руин. Рассеянно слушая Журдана, Ватрен любовался развалинами на левой стороне улицы Аристида Бриана. Некогда здесь высились дома самых зажиточных блемонских буржуа – квартал был почти целиком новый. В лучах солнца обломки выглядели чистыми и белыми. Пока Журдан набирал в грудь воздуха для очередной тирады, Ватрен, указывая на них, успел ввернуть:
– Вроде как дома, посеянные по осени. Кажется, один хороший дождик – и…
– Их непростительное преступление – в том, что они делают ставку на мелкобуржуазные чувства страха и осторожности, еще не изгнанные из пролетарских сердец. Им никогда не расплатиться за свой низкий расчет. Такой субъект, как Фромантен…
До самого берега реки Журдан продолжал клеймить позором Фромантена и социалистов. Однако все это вылетело у него из головы, когда Ватрен привел его на длинную косу между рекой и ее старым рукавом. Уголок оказался уютным и прохладным. Они устроились на самой оконечности косы, в высокой и густой траве, в тени вяза, к которому была пришвартована лодка. Стоячая вода в старице, затемненной пышной листвой, своей гладью и непрозрачностью напоминала зеленую камедь. От реки заводь отделял высокий тростник нежного цвета молодых побегов. С улыбкой Ватрен показал обещанных стрекоз, которые летали над тростником, время от времени присаживаясь на кончики стеблей. По лакированной глади, чуть волнуя ее, скользили водяные пауки. Со стороны реки, на быстрине, вода сверкала под солнцем, но у противоположного берега, под деревьями и кустами, она чернела глубиной. Место было до того укромным, что Ватрену с Журданом не составляло труда вообразить, будто Блемон остался далеко-далеко. Поблизости девочка запела песенку о маргаритках; ее голос постепенно удалялся. Спутники переглянулись с легким беспокойством: обоим пришла на ум Красная Шапочка. Потом они улыбнулись друг другу, и улыбка долго не сходила с их лиц.
– Журдан, малыш, окажите мне услугу, – проворковал Ватрен. – Сделайте что-нибудь для Леопольда. Вы лежите в чудесной свежей траве, между текучей и спящей водой, и стрекозы дарят вас своей любовью. Подумайте об этом добродушном медведе, который бьется о стены своей тюрьмы, и вы поймете, до чего он несчастен.
При мысли о кабатчике, лишенном простора, белого вина и стрекоз, Журдан вздохнул. Сейчас он был полон сочувствия к нему, да и ко всем узникам Блемона и Франции. К узникам всего мира, с воодушевлением подумал он. Проникшись к ним жалостью за их заблуждения и слабость, за их отчаяние, он великодушно даровал им свободу. Но тут его сердце заволокло тенью при мысли о вредителях и троцкистах, заполняющих тюрьмы России. Уж эти-то враги порядка заслужили свою участь.
– Дружище, да я же бессилен.
– Прошу вас, будем искренни и поговорим начистоту. Вы лучше меня знаете, что Леопольд не совершил ничего, ну совершенно ничего, что каралось бы тюрьмой. Ведь в глубине души вы наверняка и сами возмущены тем, что ради ничтожных политических выгод для партии, вдобавок сиюминутных, невиновного человека бросили за решетку.
– Послушайте, Ватрен, я же не судебный следователь. Мне известно одно – Леопольд обвиняется в укрывательстве предателя, Максима Делько!
– Но это же полнейшая чушь!
– Правосудие разберется. Лично я, по совести, склонен верить в его виновность. Рошар утверждает, что видел Максима Делько у Леопольда. А Рошар – верный коммунист, соратник, доказавший свою преданность, и я не считаю себя вправе сомневаться в его свидетельстве.
Ватрен уже начал понимать всю тщетность своих попыток и потому колебался. Но совесть не позволяла ему так скоро сдаться.
– Допустим, что случай не совсем ясен, – сказал он, – и остается хотя бы тень сомнения. Да нет, предположим даже худшее – что Леопольд приютил беглеца, не решившись его выдать. И что же вам-то до этого?
– Ну, тут уж вы хватили через край. Говорите, что мне до этого? Уж не думаете ли вы, что я прощу человека, который стал сообщником изменника, продавшегося фашистам, законченного негодяя!
– Законченного негодяя? Откуда вам это известно? Ведь вы не знаете Максима Делько!
– Мне нет необходимости знать его лично, чтобы сделать вывод, что этот тип – отъявленный мерзавец, гнусный прохвост. Он продался оккупантам и пировал на крови наших мучеников. Находятся наивные люди, готовые оправдать его как добросовестно заблуждавшегося и приписать ему какие-то там политические воззрения. Но я к ним не принадлежу, я не настолько простодушен, чтобы поверить, будто этими добровольными пособниками гитлеровских палачей когда-либо двигали человеческие чувства. Ведь у всей этой сволочи за душой только и есть, что презренная алчность, мерзкая философия площадной девки, ненависть к пролетариату и ко всему благородному, чистому, возвышенному; они испытывают садистское наслаждение, когда вредят, унижают, пытают… К тому же буржуазная гниль…
Взгляд Журдана метал молнии, голос звенел от ненависти – конечно же, он напрочь позабыл, что пришел в гости к стрекозам. Ватрен, потерявший всякую надежду склонить его на сторону Леопольда, взирал на него с удивлением. Обычно молодой коллега-коммунист ассоциировался в его представлении со священнослужителем несколько воинственных наклонностей. Видя же его сейчас в подобном исступлении, он решил, что трудолюбивый молодой человек пытается таким образом взять у жизни реванш за свою потраченную на учебники и экзамены юность.
– Журдан, я понял, что вы ничего не сделаете для моего дорогого Леопольда. Воля ваша, и я не намерен настаивать, вам двадцать семь лет, вы коммунист и останетесь им, и вас воспитывает уже не мать. Вас воспитывают ваши книги. Но, Журдан, будьте же по крайней мере настоящим материалистом, а не его карикатурной имитацией. Первое, что вам стоило бы сделать, – это избавиться от веры в демонов и от представления, будто люди – либо ангелы, либо одержимые бесом. Утверждать, что Максим Делько, коллаборационисты и буржуа сплошь гнусные мерзавцы, – это означает занять нематериалистические позиции. Второе. Я бы на вашем месте остерегался этих приступов ярости. В крайнем случае я бы еще мог понять, что вам хочется расправиться с врагами вашего дела. И поскольку вы, похоже, не привыкли наслаждаться жизнью, я даже допускаю, что вам необходимо подстегивать себя картинками тюрем и казней, чтобы почувствовать вкус реальности.
Ватрен улыбнулся и поспешно добавил:
– Тут я, пожалуй, перегнул палку. Не обращайте внимания, это во мне тоже заговорила пристрастность. Просто я хочу вам сказать, что такая лютая ненависть, такое уничтожающее презрение плохо согласуются с доктриной, которую вы исповедуете.
Журдан слушал коллегу со снисходительной жалостью: бедняга явно отстал от жизни, лет этак на полста. Вслух же он сказал лишь, что ненависть и презрение – это действующая реальность и, кроме всего прочего, такие чувства ведут пролетариат к простоте в суждениях и к широким обобщениям, а это – непременные условия мировой революции. Ватрен, не имеющий обыкновения отстаивать свои доводы, смолчал. Только подумал, что сам он – материалист до мозга костей. Оптимистически воспринимая самые нелестные для рода человеческого факты, он любил жизнь и людей просто за то, что они есть, не испытывая потребности их переделать и не пренебрегая никем и ничем, ни одной из тех фундаментальных загадок мироздания, которым, как он считал, навеки суждено остаться неразгаданными. Впрочем, материалистом он стал не так давно. Раньше он тоже чувствовал склонность к отвлеченным, всеохватывающим суждениям, но близкое знакомство с Ураном убило в нем тягу к запредельному и бесконечному и научило сосредотачивать все силы любви на земной жизни.
Журдан поднялся. У него полным-полно работы, сказал он, и он не может себе позволить долго прохлаждаться. Ватрен побыл на косе еще немного после его ухода. Возвращаясь, он повстречал на берегу другого своего коллегу, Дидье, – тот сидел у самой воды, – и остановился рядом с ним. Старый учитель завел разговор о своих сыновьях – думы о них до сих пор не оставляли его. Ватрен воспользовался случаем и спросил, не могли бы они найти в столице приют и пропитание для одного маршалиста, повинного разве что в некоторой неосторожности. Дидье отвечал уклончиво.
– Вам известна широта моих взглядов, – сказал он. – Я считаю себя способным понять любую из причин, толкнувших человека на предательство. Мне искренне жаль тех коллаборационистов, которые добросовестно заблуждались, но не просите меня что-либо для них сделать. Я воспитан эпохой, когда патриотический долг почитался превыше всего.
– Ну, это еще как сказать, – скептически отозвался Ватрен. – Вспомните-ка, в оккупацию…
Старый учитель жестом остановил его, и на его губах заиграла добрая улыбка, полная снисходительности к самому себе.
– Да я все прекрасно помню. Мне действительно случалось вести с вами разговоры, не вполне совместимые с моими взглядами на патриотизм. Чего доброго, вы даже посчитали, что я в некотором роде анархист. Видите ли, у меня всегда была склонность к парадоксам, и тут, боюсь, я неисправим. Да и большинство французов такие. Это не мешает им любить свое отечество.
Говоря все это, старик незаметно наблюдал за коллегой и беспокоился от того, что никак не мог поймать его взгляд. Ватрен подбирал в траве камешки и бросал их в реку, стараясь попасть в плывущую по течению деревяшку. Достигнув цели, он засмеялся от удовольствия и, повернувшись к Дидье, вдруг сказал:
– Почему бы просто не признаться, что вы боитесь?
– Боюсь?
– Боитесь запятнать себя пособничеством коллаборационисту. И даже сейчас, отказавшись, вы все еще неспокойны. Вы боитесь, что не выглядите в должной мере патриотом.
– Дружище, признаться, мне не совсем ясно, почему я должен бояться. Чего мне бояться и кого? В таком возрасте, как я, человек уже лишен карьеристских устремлений и не может стать объектом чьей-либо зависти. Допустим даже, что я окажусь на плохом счету у нынешних властей, – ну и что мне, по-вашему, могут сделать? И потом, вы как будто забываете, что мы живем в республике и нам нечего опасаться ответственности за свои высказывания.
Ватрен вновь принялся кидать камешки в реку. Учитель Дидье умолк: похоже, его сильно заинтересовало проходившее по мосту стадо коров. Когда стадо скрылось из виду, он надолго погрузился в созерцание своих иссохших рук и грязных ногтей.
– Ну хорошо, хорошо, – сказал он, – я боюсь. Вы довольны?
– Послушайте, Дидье, вы прекрасно знаете, что я не собираюсь вас мучить, я просто хотел дать вам возможность сбросить груз с души.
– Я объяснил вам, почему я не должен был бы бояться. Но на самом деле я боюсь. Мне всегда кажется, что люди подозревают меня в том, что я не разделяю с ними их ненависти или их обожания. Увы, сии неистовые чувства бесконечно от меня далеки, и от этой своей умеренности я страдаю теперь как от уродства. Я хотел бы думать как все и чтобы это было ясно написано на моем лице. Вот и приходится ломать комедию. Идти на подлость. Когда журданы и фромантены изрыгают проклятия в адрес коллаборационистов, я не в состоянии помешать себе присоединиться к их хору, а если они сообщают мне, что такого-то расстреляли, я помимо воли изображаю ликование. Или еще: у меня в классе учится сын голлиста-коммуниста. Так вот, как бы я внутренне ни противился, а все равно выделяю его среди остальных учеников. Стараюсь не наказывать, норовлю выставить оценку повыше. Какая пакость, Ватрен, какая подлость. А вы не боитесь?
– Разве что самую малость. По правде говоря, совсем чуть-чуть. Но я – другое дело, я не совсем нормальный. Слегка тронутый. Вы, Дидье, ведете себя как здоровая клетка, в которой содержание фосфора или кальция изменяется по тому же закону, что и во всем организме. Вы боитесь вместе с тридцатью девятью миллионами французов. И не сокрушаться надо по этому поводу, а, наоборот, радоваться властному чувству гармонии, которое побуждает вас выть по-волчьи, живя с волками. Сегодня среди людей царит гармония большого страха. Существует и много других гармоний, прекрасней этой, и их черед обязательно наступит. Мир чудесно устроен, и человек – непревзойденный шедевр, Дидье, клянусь вам.
XVII
Вместо того чтобы остановить грузовичок во дворе, Монгла-сын обогнул дом и подогнал его к заднему крыльцу, выходившему в сад. Тут благодаря густой листве его можно было разгрузить, не опасаясь нескромных взглядов соседей. В окне кабинета появился Монгла-отец и, когда его сын вылез из кабины, вопросительно дернул подбородком. Мишель вполголоса ответил:
– Три новые пишущие машинки, люстра эпохи Людовика Шестнадцатого, китайская ваза, двенадцатитомная энциклопедия Ларусса, сабля самурая…
– Чья сабля?
– Самурая, это из Японии. Люстра Людовика Шестнадцатого, или я уже говорил? Тут у меня еще доспехи пятнадцатого века и морской бинокль.
Монгла уныло хмыкнул, скользнул мутным взглядом по брезентовому тенту грузовичка и пожал плечами.
– Как ты мне надоел, – сказал ему Мишель, – вечно недоволен. Знаешь что, с меня хватит. Если ты считаешь себя шустрей меня, то покупай сам, и дело с концом. Или оставь свои банкноты при себе – скоро будешь ими подтираться.
Он намекал на грядущую денежную реформу, ввиду которой и требовалось как можно больше банковских билетов обратить в товары. У винозаводчика на руках было столько наличных денег, что он не мог позволить себе поменять даже десятую их часть без того, чтобы не взбудоражить общественное мнение Блемона и не натравить на себя налоговых инспекторов.
– Сколько ты за все это заплатил?
– Восемьдесят семь тысяч.
Услышав цифру, отец досадливо пошевелил рукой и угрюмо заметил:
– Меньше ста тысяч, тогда как речь идет о десятках миллионов. Такими темпами…
– Согласен, но кто в этом виноват? Если бы ты разрешил мне и дальше покупать картины, мы в два счета растрясли бы весь мешок.
Монгла покачал головой, и его дряблое лицо сморщилось от отвращения. О картинах он больше и слышать не хотел. Он перестал верить – да, по существу, никогда и не верил – во всех этих ренуаров, дега, пикассо и иже с ними. Сгибаясь под тяжестью денег, которые совершенно некуда было девать, Монгла вынужден был согласиться на эту авантюру, но, прислушайся он к своему внутреннему голосу, он не позволил бы ни одному полотну поселиться под крышей его дома. Иногда, сидя в кабинете и думая о сорока миллионах, вложенных в такую чепуху, Монгла проклинал себя за легкомыслие и чувствовал, что его охватывает паника. Если не считать одной толстозадой голой девки кисти Ренуара, которая еще могла вписаться в интерьер какого-нибудь борделя, вся эта мазня, вместе взятая, по глубочайшему убеждению Монгла, стоила меньше свиного стада. Слишком уж легкий способ заработать деньги: взять да и размалевать красками кусок полотна.
– Сегодня утром, проезжая через Обр, – медленно произнес Мишель, – я узнал, что замок уже продан.
Отец испустил долгий вздох, похожий на жалобный стон, и даже слегка сгорбился. Его мучила мысль о замке, который мог бы стать для него осязаемым свидетельством его богатства, но купить его он так и не осмелился, боясь привлечь к себе внимание налоговой службы. Несмотря на влиятельных покровителей в Париже, Монгла жил в-постоянном страхе перед расследованиями, проверками, штрафами, конфискацией, а главное – перед общественным мнением. Он был настолько одержим этой боязнью, что никогда не показывался в Блемоне иначе чем в поношенном костюме и взял себе за правило не делать ни одной сколько-нибудь значительной покупки в радиусе двадцати пяти километров от города. Чтобы разнообразить стол кое-какими дефицитными продуктами с черного рынка, Мишелю приходилось мотаться в соседний департамент.
– Управляющий вернулся?
– Нет, – ответил Монгла, – он уехал в Клерьер.
– Анриетта на кухне?.. Пойди займи ее, пока я выгружу покупки.
Отец медлил; лицо его выражало усталость и скуку. Наконец он заставил себя отойти от окна и нехотя потащился к двери. Когда он выбрался в коридор, из кухни как раз вышла Анриетта, толстуха лет сорока с честнейшей круглой физиономией и румянцем во всю щеку.
– Эй, пошли, – жалобно проблеял Монгла. – Мне хочется.
– Я собралась в огород за щавелем.
– Нет, мне хочется прямо сейчас.
– Неужто вы не потерпите каких-то пять минут? А что бы вы делали, если б меня тут не было?
– Ну ладно, хватит препираться.
Ворча что-то себе под нос, Анриетта начала взбираться по лестнице следом за хозяином, который с трудом одолевал ступеньки, опустив голову, словно бы сгибался под тяжестью мешка с мукой. В очередной раз он рисовал в воображении женщину, какую хотел бы сделать своей любовницей: стройное, хрупкое создание, сильные ноги, а в особенности ляжки, трагическое лицо с огромными, как блюдца, глазами. На такую женщину он и денег бы не пожалел. Однако главной заботой Монгла было добиться, чтобы сограждане простили ему его богатство, и он боялся, что, обзаведясь любовницей, восстановит против себя общественное мнение Блемона. К тому же наличие содержанки слишком явно указывало бы на размеры его состояния. В Париже, когда позволяли дела, он несколько наверстывал упущенное, но до сих пор ему так и не удалось напасть на идеал, о каком он мечтал.
– Что-то вид у вас не больно молодецкий, – заметила Анриетта.
Монгла, уже ступивший на площадку второго этажа, обернулся и исподлобья бросил на нее уничтожающий взгляд. Когда он отворял дверь в спальню, служанка от избытка чувств зычно хохотнула и, шлепнув его по тощему заду, воскликнула:
– Чертов господин Монгла!
Мишель тем временем уже начал разгружать автомобиль. Сложив свои покупки в коридоре, он затем перетащил их на чердак, служивший складом. Под крышей в пыльном теплом полумраке повсюду беспорядочно громоздились груды хлама, местами почти достигавшие балок перекрытия. Здесь были комоды, набитый книгами резной шкаф, динамо-машина, две ветчинорезки, шесть радиоприемников, электрическая стиральная машина, тридцатиметровый рулон линолеума, циркулярные пилы, одиннадцать велосипедов, байдарка, три электроплиты, застекленная горка с посудой, хрусталем и наполеоновской треуголкой, зубоврачебное кресло, пятнадцать немецких фотографических аппаратов, крашеная деревянная фигура Святого Этьена, чучело лисы, часы Буля, поставщика королевского двора, клавесин, четыре охотничьих рога, ларец эпохи Людовика Тринадцатого, а в нем тридцать две пары золотых часов и всевозможные безделушки из золота, серебра и слоновой кости. В самой глубине чердака в поваленном гардеробе было сложено больше сотни пар туфель – предмет особой озабоченности Мишеля. Он опасался, что из-за жары они рассохнутся и растрескаются. Три больших ящика, где хранились картины, стояли встык, образуя большой прямоугольник, на который Мишель положил рыцарские доспехи. В скупом полуденном свете, едва проникавшем сквозь слуховые оконца, все вместе наводило на мысль о могиле с надгробным памятником в виде распростертой фигуры. На Мишеля это произвело такое тягостное впечатление, что он схватил рыцаря и перенес его на гардероб с туфлями. Однако от этого картина не сделалась менее гнетущей. Теперь гардероб напоминал фамильный склеп. Куда ни перекладывал Мишель железного человека, но так и не смог найти для него положение, в котором тот не выглядел бы зловеще. Даже стоя он казался восставшим из могилы. В чердачных сумерках рыцарь упорно хранил злобную настороженность и суровую осанку инквизитора. Мишелю пришло в голову усадить его в зубоврачебное кресло, что удалось не без труда. Убедившись, что и тут железный человек не унялся, он решил избавиться от него, упрятав за комод. Но не тут-то было: невидимый воин стал внушать еще больший страх. Его незримое присутствие витало под кровлей, почти осязаемо сгущаясь в самых темных углах. Оставалось только посмеяться над этой чертовщиной, однако Мишелю пришлось признаться себе, что его замешательство только усиливается, грозя перейти в недомогание. Тогда он поставил рыцаря стоймя, на самом виду, прислонив к книжному шкафу, и продолжал суетиться, поддавшись какому-то нелепейшему, суеверному страху, прежде ему совершенно не свойственному. Осознав это, он на миг даже усомнился в своем рассудке, потом приписал это жаре. И действительно, на чердаке царила нестерпимая духота, да к тому же лезла в горло пыль, поднятая всеми этими перестановками. Чтобы глотнуть свежего воздуха, Мишель приник к слуховому оконцу. Поверх садовой ограды в конце тупика Эрнестины он увидел угловой дом, где жили Аршамбо. Мари-Анн в окне не было. С тех пор как она, похоже, начала его избегать, Мишель вспоминал о ней со вполне определенным сожалением, которое, впрочем, иногда смягчалось и более теплым чувством. В этом унылом, наполненном недоверием и озлобленностью существовании, к которому его приговорило служение богатству, лицо Мари-Анн представлялось ему лучезарным ликом свободы. Еще ему казалось, что, женившись на ней, он вырвется в настоящую жизнь, обретет забытое, а может, и неизвестное доселе равновесие, но мысль об этой женитьбе неизменно наталкивалась в нем на привычную подозрительность богача, опасающегося угодить в расставленные сети.
Мишель не отрываясь смотрел на окно девушки, дав мыслям полный простор. Какое-то время он представлял себе, что у него обувной магазин. Эта мечта была у него с детства. Ему нравились новые туфли, запах кожи, упаковочные коробки из лощеного картона, предупредительные продавщицы, кресла, витрины и запах гуталина. Вот и сейчас Мишель вообразил себя директором ультрасовременного магазина мужской и женской обуви, но, как всегда, был вынужден прогнать чудесное видение. Миллиардер не может быть лавочником. С горечью он сознавал, что его существование отравлено деньгами. Отчаяние отправило его на поиски Мари-Анн.
Он увидел ее на площади Святого Евлогия, и она сама пошла ему навстречу. В руке у нее была сетка для продуктов – с горохом и огурцами. Приближалась она как-то неуверенно и не могла скрыть волнение. Щеки ее пылали, а глаза смущенно ускользали от настойчивого взгляда Мишеля. Обрадованный встречей, он почел за благо не замечать этой странности и сказал, протягивая ей два пальца:
– Ну что, мы решили все-таки поздороваться со своим бычком? Захотелось снова порезвиться на травке?
Мари-Анн взглянула на него холодно, с улыбкой сострадания. Указывая на сетку с огурцами, Мишель ухмыльнулся:
– А-а, теперь мне все понятно…
Он собрался было отпустить непристойную шуточку, но вспомнил о железном человеке и прикусил язык. Лицо его стало серьезным.
– Мишель, а у меня к тебе просьба, – сказала Мари-Анн.
Он настороженно промолчал, заняв оборонительную позицию.
– Речь идет об одном парне, который вынужден скрываться. Он сотрудничал с немцами… Его заочно приговорили к смерти.
На лице у Мишеля появилась недовольная мина, и он присвистнул, давая понять, что в принципе осуждает такие вещи. Мари-Анн до сих пор представлялось, что услуга, о которой она просит, – лишь предлог для сближения. Вступив же в переговоры, она вдруг обнаружила, что принимает это дело близко к сердцу. Оно стало для нее важнее самого сближения. Стремясь подольститься, она добавила:
– Я решила обратиться с этим именно к тебе, потому что ты был в Сопротивлении.
Мишель и в самом деле месяца за два до Освобождения примкнул к партизанам, и, пока немцы отступали, ему представилась возможность обстрелять их колонны. В одной чрезвычайно опасной ситуации он проявил себя находчивым и отважным.
– Как раз потому, что я был в Сопротивлении, я и не хочу помогать коллаборационистам. Как ни крути, а эти негодяи продались врагу со всеми потрохами, и я считаю, что чем больше их расстреляют…
У него еще нашлось бы что сказать, но он вспомнил о железном человеке, стоявшем на страже посреди нагромождения ценностей, и ему впервые стало не по себе при мысли о спекуляции, которой занимался во время оккупации его отец. Да он и сам был ей не чужд. Достаточно вспомнить, как он сиживал за отцовским столом, болтая и смеясь вместе с немецким интендантом, считавшим себя в некотором роде членом их семьи. Мишель попытался побороть смущение. Обычно гордость участника Сопротивления без труда уживалась в нем с воспоминанием о дружбе с вражеским офицером, и по этому поводу он никогда не испытывал разлада с самим собой.
– Значит, ты для него ничего не сделаешь?
– Там видно будет. Рассказывай.
– Я про Максима Делько. Мой отец нашел его во дворе дома в тот вечер, когда за ним охотилась полиция, и привел к нам.
– Посмотрим, – после некоторого размышления сказал Мишель. – Пока я не вижу, чем мог бы ему помочь.
– А твои знакомства в Париже?
Он уже подумал о них, но те знакомые наверняка заломят немыслимую цену… К тому же случай этот непростой. Если бы речь шла о человеке богатом, с кругленьким капитальцем, блемонская публика еще могла бы примириться с тем, что ему покровительствуют высокие сферы. Это было бы в порядке вещей. Но Делько, в конечном счете, – всего лишь мелкий служащий, один из тех малозначительных субъектов, унижение и казнь которых доставляет примерно одинаковое удовольствие и буржуа, и пролетариям. Если у такого вдруг объявится высокопоставленный защитник, это неприятно поразит и разочарует сограждан. Мишель и сам, осознав, какая пропасть разделяет Максима Делько и его предполагаемых покровителей, ощутил в душе протест против такого перекоса в системе общественных ценностей.
– Посмотрим. Навряд ли там что-нибудь получится. Но я подумаю.
– Спасибо, – сказала Мари-Анн, протягивая ему ладошку.
Мишель собрался было спросить у нее, когда они улягутся снова, но этому воспротивился железный человек, и он смолчал, почувствовав себя до крайности неловко. Когда Мари-Анн повернулась и пошла прочь, он покраснел от стыда за свою нерешительность, а потом на него вдруг накатила волна ярости, и он восстал против тирана. Глупо и совершенно нетерпимо, чтобы его совесть приняла облик железного человека. Мари-Анн была уже на середине площади. Он побежал за ней, но, догнав, опять вынужден был уступить железному деспоту и проглотил слова, готовые слететь с языка. Вместо этого он сказал:
– Нам надо будет увидеться еще раз, поговорить об этом парне.
Они договорились о встрече и снова обменялись рукопожатием, более непринужденным и теплым, чем первое. Мари-Анн улыбнулась ему на прощание. Никогда прежде Монгла-сын не был ей так симпатичен, если не сказать – желанен, что было бы куда ближе к истине: настоящий мужчина, могутный, крепко сбитый, плотный; крутые плечи и грудь колесом; живот, выпирающий из-под ремня вверх; литые, выпуклые ягодицы; грубое, дышащее силой лицо; уверенный взгляд бычачьих глаз, мясистые сочные губы и мощная шея с мягкими, чуть подсиненными бугорками вен, куда так сладостно впиваться поцелуем. Казалось, в милом ее сердцу увальне все создано для любви, говорит о любви, приглашает к любви. И никакой вульгарности – только сила, безмятежность, самоуверенность самца и вместе с тем что-то очень пленительное и волнующее.
Был уже седьмой час, и город оживал, Мельничная улица начала наполняться заводскими. Издали Мари-Анн заметила Альбера Ришардо, который явно намеревался пересечь улицу и подойти к ней. Она ускорила шаг. Этот Ришардо, служивший клерком у адвоката, был двадцатипятилетним молодым человеком, худощавым, робким, с большими печальными, полными мольбы глазами на довольно симпатичном лице. Мари-Анн знала, что Альбер влюблен в нее, хотя он и не отваживался ей в этом признаться, вкладывая весь свой пыл в рассуждения о музыке и поэзии. До знакомства с Монгла-сыном она еще чувствовала некоторое расположение к этому утонченному, кроткому юноше, но потом стала находить его чересчур пресным. Его мягкость, скромность, даже его вкус к поэзии теперь были в ее глазах признаками незначительности и никчемности. Обычно она не отказывалась вежливо его выслушать – из великодушия, чтобы не обескураживать воздыхателя, но отчасти и из кокетства. Сегодня же ее слишком переполняла радость, чтобы слушать, как он разглагольствует о Верлене, и, искусно маневрируя в толпе, дабы избежать встречи, она невольно улыбалась: очень уж велик был контраст между его худосочной фигурой и статями ее любовника. Этот дохляк с элегическим темпераментом вдруг показался ей до смешного ничтожным.
К тому времени, когда Мари-Анн оказалась у отчего дома, она и думать забыла об адвокатском клерке: все ее мысли были о Мишеле. В развалинах у дороги сражались мальчишки. Сын мясника, который был вооружен автоматом, очень похожим на настоящий, с трещоткой для имитации стрельбы, доказывал, что уложил по крайней мере вдвое больше народу, чем его приятели с их неуклюжими дощатыми поделками. Окруженный бурлящим кольцом, он вновь и вновь демонстрировал превосходство своего оружия, чем лишь растравлял сердца товарищей по игре. «А если я вмажу тебе кулаком, – наседал на него один из них, – каково тебе придется со своим автоматом?» Пожилая дама в митенках, чей балкон располагался раньше прямо напротив балкона Аршамбо, искала среди обломков пропавший при бомбежке бриллиант. Не проходило и дня, чтобы прохожие не видели, как она, склонившись над каменным крошевом, разгребает его острием зонтика, время от времени водружая на нос вторую пару очков, чтобы получше рассмотреть какой-нибудь осколок стекла. Старый облезлый осел, выпущенный владельцем в развалины, перешагивал через разрушенную стену, глядя на Мари-Анн. Но та, ослепленная лучезарным видением Монгла-сына, не видела ни осла, ни детей, ни старой дамы. Войдя в сумрачную галерею, она поднесла руку к груди, как бы стремясь удержать рвущуюся оттуда радость. При мысли о всех тех грубостях и жестокостях, которые ей предстояло претерпеть от любимого, сердце ее переполнялось нежностью и ликованием. Тут она вздрогнула и даже легонько вскрикнула: рядом неожиданно вырос мужчина.








