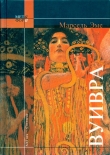Текст книги "Зелёная кобыла (Роман)"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
VII
В те воскресенья, когда семья ветеринара приезжала в Клакбю, семья Оноре работала не покладая рук с четырех часов утра. Надо было убрать, как обычно, навоз из конюшни, сделать подстилку из соломы, накормить коров, свиней, кур, кроликов, а потом и людей, наконец позаботиться о том, чтобы очистить фасоль, приготовить салат на двенадцать человек, вымыть ноги, надеть на всех чистые рубашки, что-то постирать, что-то погладить, заштопать, обдать кипятком, подмести, постоянно при этом оглашая дом криками, что вовремя сделать все равно ничего не удастся.
В полдевятого Алексис забирался на ореховое дерево и наблюдал, когда на вершине Красного Холма появится коляска. Он кричал (иногда шутки ради он устраивал ложную тревогу, хотя и знал, что, спустившись со своего орехового дерева, рискует получить за это башмаком по ягодицам):
– Вижу коляску дяди на вершине Красного Холма!
И тут на кухне начиналась страшная суматоха.
Оноре ругал жену, потому что у него на воротнике рубашки не оказывалось пуговицы (и куда это она умудрилась задевать пуговицу от его воротника). Аделаида бегала по кухне с утюгом в правой руке, с иголкой в левой, гладя и пришивая все, что попадалось ей на пути, носилась, не останавливаясь ни на минуту, и все кричала, перекрывая крик мужа, что никто даже не пытается ей помочь, что ей это осточертело, но что когда она надорвется и умрет, то, может быть тогда, они все осознают.
– Чем скорее, тем лучше! Чтобы я успел еще раз жениться, черт побери!
– Еще бы, уж в этом-то я уверена!
– На женщине, которая не засовывает куда попало пуговицы от воротника.
– Я ведь тебе сказала: в выдвижном ящике стола! Не могу же я быть сразу во всех местах…
Нуаро путался у всех под ногами, затыкал собой все двери одновременно и только успевал получать пинки. Жюльетта звала Гюстава и Клотильду. Те не шли. Их обнаруживали на дне какой-нибудь канавы, грязных, перепачканных землей или роющих туннель в куче навоза. К счастью, по воскресеньям их одевали лишь в самый последний момент, а то они с таким же успехом изгваздали бы и свою чистую одежду. Жюльетта еще раз умывала их, причесывала, одевала. Оноре прилаживал пуговицу к воротнику (которая и в самом деле была в выдвижном ящике стола), Аделаида надевала свое черное платье, пришивая между делом прямо на своих сорванцах пару или тройку пуговиц, и когда коляска заворачивала, чтобы въехать во двор, все выходили из дома, улыбаясь и крича: «А вот и они!» Ветеринар (обычно он управлял коляской) останавливал лошадь и отвечал своим хныкающим голоском: «Да, вот и мы!», и первым соскакивал вниз со своего сиденья, чтобы помочь спуститься жене.
– Да, вот и мы, – подтверждал он.
– Как же, вижу, – говорил Оноре, – вот и вы.
И тут начинались излияния чувств: поцелуи хлопали по щекам кузенов, умножались на щеках теток и дядьев, складывались вместе, так что в общей сложности их получалось сорок восемь штук.
– Какие красавчики!
– Жарко было?
– Я его не поцеловала.
– Ты меня не поцеловала.
– Ты поцеловал своего дядюшку?
– Нуаро! Мой прекрасный песик!
– Как же они выросли!
– Пять минут пришлось потерять на железнодорожном переезде!
– На место, дрянь ты этакая! Он вам всю одежду порвет.
– Столько сейчас колясок на дорогах.
– Он же сейчас испачкает вас своими грязными руками.
– Не беспокойтесь…
– Лошадь так и норовит понести.
– Двенадцать лет, вот увидите, он еще перерастет Антуана.
Это ликование длилось минут десять, а то и дольше. Пуаро получал удар башмаком, Гюстав – подзатыльник, а Алексис, с почтительной заботливостью касаясь роскошной сбруи, которая являлась семейной гордостью, распрягал лошадь. Женщины шли в дом, а ветеринар, поскольку он был ветеринаром, говорил Оноре:
– Ну а теперь пошли посмотрим животных.
И лишь в конюшне братья начинали ощущать, как в них возрождается чувство взаимного враждебного недоверия, о котором они совсем было забыли в пылу восторженной встречи. Фердинан с серьезным видом ощупывал животных.
– Эта корова явно ест больше сена, чем травы.
– Вполне возможно, но в любом случае свои двенадцать литров она дает.
Оноре держался в стороне от коров, давая понять ветеринару, что в его советах он не нуждается. Фердинан тем не менее продолжал осмотр, подсчитывая в уме, что эта бесплатная, но тем не менее стоящая сто су (по существу, если хорошенько вникнуть) консультация уже сама по себе почти полностью окупит тот обед, которым семью угостят у его брата, так что в конечном счете привезенные из Сен-Маржлона паштет и колбаса окажутся вовсе даровым приложением.
В это воскресное утро все сразу пошло не так, как в другие воскресенья. Алексис с высоты своего орехового дерева заметил коляску, но она была настолько непохожа на дядино ландо, что он не придал ей никакого значения. Приезд Менеаля всех удивил. Оноре вышел в залатанных и расстегнутых спереди штанах. На детях была их обычная будничная одежда, на матери – фланелевая нижняя юбка в розовую полоску. Ветеринару это не понравилось, он счел, что встречать гостей в таком виде никуда не годится; ему даже сделалось стыдно перед своей женой и Люсьеной, и он знаками стал показывать Оноре, что у него в ширинке гуляет ветер.
Оноре, удивленный, ничего не понимал.
– Вот уже никак не ожидал увидеть вас в коляске Менеаля. А что твой вороной, не прихворнул ли?
Тут ветеринар вдруг почувствовал, как лицо его покрывает мертвенная бледность. Резко прервав объятия, он прошептал убитым голосом:
– Пошли посмотрим животных.
А поскольку Оноре обменялся еще несколькими словами с Менеалем, он подтолкнул его локтем и взмолился:
– Животных…
Когда они оказались в конюшне, Фердинан поднял на брата испуганный взгляд:
– Так ты, значит, не получил моего письма?
– Да нет, ты будешь сейчас смеяться. Деода потерял его; представь себе, письмо выпало у него из сумки, когда он дрался с возвращавшимися со школы детьми. Он приходил сообщить мне об этом, бедняга Деода, и расстроен был ужасно… Но что с тобой?
Фердинан опустился на треножник, который использовали как сиденье при дойке коров.
– Боже мой, мое письмо! Он потерял мое письмо…
Он зарылся лицом в ладони и издал жалобный стон. Оноре забеспокоился, он вспомнил, что подозрения почтальона касались в первую очередь Тентена Малоре. Однако отчаяние Фердинана растрогало его, он помог брату встать и положил руку ему на плечо.
– Будь умницей, малыш, не станешь же ты убиваться из-за какого-то там письма. Не надо, малыш.
Ветеринар оперся о старшего брата. Он чувствовал себя слабым; всякий раз, когда брат называл его «малышом», к носу его поднималась нежность. Оноре тоже растрогался: может быть, по натуре своей Фердинан был не таким уж плохим; если бы его не отправили в Сен-Маржлонский коллеж, то он смог бы стать славным деревенским Одуэном.
– Ну что ты, сейчас не время распускать себя. Если ты сделал глупость, я не собираюсь тебя упрекать. А к тому же это даже и не глупость, а простое невезение. Никто ведь не мог угадать, что так все случится. Что ты там писал мне?
– Я писал тебе… нет, понимаешь, у меня даже язык не поворачивается сказать тебе. Ты опять начнешь ругаться.
– Ну что ты! Я очень хорошо понимаю твою досаду. Расскажи мне лучше все по порядку, и мы вместе спокойно все обсудим.
– Я писал тебе по поводу политики, но это пустяки… Я говорил там еще о нашей матушке…
– Надеюсь все же, что не о…
– Именно. Я начал с отправной точки, с того момента, когда появился баварец… в общем, я там сказал все…
Оноре стал размахивать кулаками над головой Фердинана. Он говорил о том, что никогда не видел более тупого животного, чем этот мешком пришибленный осел, дерьмом набитый ветеринар. Вот для чего ему нужно было его чертово образование: оповещать всю округу и весь край о том, что его мать переспала с пруссаком. Если бы ему, Оноре, стоило таких же трудов держать в руках перо, как его брату, он ни за что бы не стал писать письмо, которое способно отравить и их собственное существование, и существование их детей. Оноре называл своего брата задокопателем, ханжой в фальшивом воротничке, испражняющимся чернилами болваном, рогоносцем и одновременно мерил коровник своими крупными шагами под удивленным взглядом животных, которые выгибали свои податливые шеи, следя за его хождением взад и вперед. Фердинан, едва поспевая за ним, пытался завязать какой-нибудь разумный разговор, но ругательства следовали друг за другом такой плотной чередой, что это ему никак не удавалось. Слово, «рогоносец» оскорбило его больше, чем что-либо еще, и он попытался было заартачиться. Оноре опустил на него свой грозный взгляд.
– Рогоносец, я тебе говорю, и вся семья рогоносцев! По вине одного одержимого писаниной, который не сумел удержать при себе то, что я ему рассказал. Что? Нет, я не хочу тебя слушать. Что бы я стал делать с твоими исписанными страницами? Ты что, собирался ими вывернуть мне мозги набекрень, да? А теперь твое письмо находится у Малоре, у Зефа. Это его мальчишка схватил его, схватил так же, как схватил бы сам Зеф; у них это в крови: воровать и доносить. Таким же был и подохший недавно старик Малоре, таким же был и отец старика. Беги теперь за своим письмом, беги!
Оноре, весь дрожа от гнева, оперся о кормушку между двумя коровьими мордами и, поразмыслив немного, успокоился. Не приходилось сомневаться, что письмо находится у Зефа и что тот попытается им воспользоваться. Однако, все взвесив и предположив самое худшее, Оноре здраво рассудил, что у Малоре вряд ли что-либо получится. Ему, естественно, не составило бы труда оповестить всю Клакбю о том, что мать Одуэнов переспала с баварцем, и как бы обстоятельства не извиняли ее, в памяти у всех остался бы только сам факт. Оноре вынужден был признать, что общественное мнение в этом деле значило для него много; однако в конечном счете речь шла все-таки о покойнице, а он лично видел немалую разницу между покойником и живым человеком. То, что говорят во весь голос о покойнике, не стоит того, что думают про себя о живом; даже половинки и то не стоит, даже четвертушки. Оноре говорил себе также, что он живет не репутацией покойников – такое годится только для ветеринара, – что он только хочет упрочить эту репутацию. С другой стороны, он думал о том, что унижение от огласки письма в Клакбю имеет и одну хорошую сторону: его жажда мести Зефу, получившая столь долгую отсрочку, что он уж совсем было отказался от нее, обретала таким образом некий дополнительный повод. Чувство раздражения и отвращения, которое он испытывал при виде Малоре, получало теперь более прочное основание. Его ненависть была отныне в безопасности, и он ощущал во всем теле такую же легкость, какую испытывает добродетельный гражданин, узнавший, что войну наконец-то объявили.
Фердинан, не осмелившийся прервать размышлений брата, пытался проследить за их ходом по выражению его лица. Оноре не стал посвящать Фердинана в свои оптимистические выводы. Он сразу же разглядел преимущества перед ветеринаром, которые он получал в новой ситуации, преимущества честные, связанные с той верой, которую он внушал брату.
– Ну, так что будем делать? – спросил Оноре.
– Не знаю, – ответил Фердинан жалким голоском, упавшим на его выходные туфли.
– Теперь ты должен быть доволен, а? Ты ведь сам хотел видеть Зефа мэром Клакбю. Теперь он Польше не нуждается в тебе, чтобы заставить меня делать то, что ему захочется; он держит меня сейчас письмом надежнее, чем твоими заговорами! О! Теперь я уже ничем не смогу помешать ему; буду счастлив уже только оттого, что он соблаговолит не трепаться. Но когда он станет мэром, то начнет требовать у тебя денег: двадцать, тридцать, пятьдесят тысяч и больше. Я-то в этом отношении могу быть спокоен, у меня ничего нет. После денег он захочет забрать у тебя дом, после дома…
Перечисление всех этих катастроф напугало Фердинана, который опять опустился на треножник и принялся стенать.
– Все же горячиться нам сейчас не стоит, – сказал Оноре. – Вполне возможно, что Тентен вовсе и не отдавал письмо отцу, хотя меня это удивило бы.
– А зачем оно Тентену?
– Разумеется, он схватил его для того, чтобы отдать Зефу. Однако с детьми никогда нельзя знать наверняка. У них свои идеи… Однажды я увидел, как Алексис бросил монету в пять су в реку, и выяснить, почему он это сделал, я так и не смог.
Ветеринар пожал плечами: что за идиотизм бросать деньги в воду.
– Надеюсь, ты ему вправил мозги.
– Нет, те пять су были его собственными; это его дело.
– Тут ты не прав. Мальчишка вполне заслужил наказание. Сейчас ты не стал вмешиваться, а потом будешь удивляться тому, что он разбрасывает деньги направо и налево. Их ни за что нельзя распускать…
Ветеринар добавил, что заметь он что-либо подобное за Антуаном, он сумел бы дать понять ему, почем стоят деньги; и в приступе бешенства, смягчившем его тревогу, он принялся обвинять Антуана, словно сын и в самом деле уже разбазаривал его состояние.
– Бездельник! Он даже историю Франции не знает! Я бы его сейчас, когда мы ехали сюда, засыпал, если бы стал поподробнее расспрашивать про Вестфальские договоры! Ленивый, упрямый! И что, я должен надрываться на работе, чтобы эта скотина бросала на ветер мои деньги! Я бы запретил ему гулять, лишил бы десерта на три месяца, он бы у меня узнал, почем стоят деньги…
– О! Боже мой, ты зарабатываешь вполне достаточно, чтобы он мог, когда придет возраст, поразбрасывать их направо и налево.
– Конечно, ты всегда его в этом поддержишь, у тебя никогда не задерживалось ни единого су, – злился Фердинан.
– Я всегда делал то, что мне нравится, и еще чуть больше того. Если тебе это не по нутру, то это уж твое дело.
– Мы не имеем права делать то, что хотим, когда живем не одни. Скажем, ты будешь подстрекать Антуана тратить деньги, а потом ты ведь не будешь заниматься им, если ему придется жить на счет своего брата.
Слова Фердинана содержали почти неприкрытый намек, который не мог ускользнуть от внимания Оноре.
– Если уж надеяться на братьев…
– Ну тебе-то, я думаю, нечего жаловаться, – вырвалось у Фердинана.
Этого ответа Оноре и добивался и опасался одновременно.
– А! Ты хочешь напомнить мне, что я живу в твоем доме! Прекрасно, я освобожу тебе его на следующей же неделе! И делай с ним что хочешь, со своим домом! Я уже достаточно наслушался упреков в том, что живу в доме своего брата!
Он полнозвучно рокотал, и ветеринар тщетно пытался вставить хоть слово своим тщедушным ржаным голоском.
– Лучше я буду спать под открытым небом, чем останусь еще на неделю в твоей халупе! Я съеду в сроду и вообще уберусь из Клакбю. Тогда ты сможешь, если пожелаешь, обосноваться в этих четырех стенах и будешь сам сводить твои личные счеты с Зефом. Ну а я, меня здесь больше нет.
Оноре увидел, что после сказанного брат его совсем растерялся, и добавил с усмешкой:
– А твое письмо, я не стану выкупать его у Малоре даже за десять су.
От страха ветеринар совершенно потерял голову. Он принялся ходить туда-сюда, как марионетка, по профессиональной привычке задирая кверху хвост то у одной, то у другой коровы и глядя бессмысленными глазами. Оноре, все еще кипя от ярости, чуть было тут же не выбежал из конюшни, чтобы сообщить о своем отъезде всему дому, и тогда ему пришлось бы и в самом деле выполнить свою угрозу. Отчаяние, в которое впал его брат, остановило этот порыв. Пожав плечами, он сделал шаг в его сторону. Фердинан остановился, держа в руках коровий хвост, и глупо улыбнулся. У Оноре сжалось сердце, и он почувствовал угрызение совести.
– Фердинан…
Фердинан не шевелился; он шептал какие-то бессвязные слова. Оноре расслышал только: «письмо»…
– Фердинан… хватит нам ругаться, оставь ты этот коровий хвост и давай спокойно поговорим. Твое письмо. Оно находится у Малоре, мы подумаем, как его заполучить обратно. Послушай, присядь-ка вот тут, я не хочу, чтобы ты стоял, у тебя вид настоящего сумасшедшего. Прежде всего я хотел бы знать в деталях, что ты там мне написал. Подумай хорошенько.
Фердинан помнил почти наизусть все написанные им на протяжении года письма и все произнесенные речи. Сначала от растерянности он поколебался немного, но потом, распаляясь от собственных слов, стал подкреплять фразы интонацией и движением головы: «Дорогой мой Оноре, в начале недели у вороного случились колики…»
– Ну и влипли же мы, – произнес Оноре, когда брат закончил. – Да! Можно сказать, ничего не упустил.
– Но ведь то, что я написал тебе, является сущей правдой…
Оноре даже не стал отвечать ему. Он сел на треножник и попытался мысленно представить себе, какое удовольствие испытал Зеф Малоре, читая и перечитывая письмо. Это чувство, очевидно, было весьма сильным, что являлось для Оноре наихудшим оскорблением; по сравнению с этим чувством мысль о том, что письмо станет достоянием всей деревни, выглядела сущим пустяком. Теперь Зеф знал наверняка, что те слова, которыми он когда-то обменялся с баварцем, не пропали впустую, а материализовались, причем так, как, возможно, он, произнося их, и не предполагал. Чем больше Оноре размышлял об этой истории, тем менее существенным казался ему сам факт возврата письма. Ему было важно отомстить Малоре таким образом, чтобы у того при воспоминании о приключении баварца становилось горько на душе.
Ветеринар затаил дыхание и ждал порицаний. Поскольку Оноре моргал и плевал на носки своих башмаков, то он решил, что медитация обещает быть плодотворной, и, чтобы не раздражать брата своим присутствием, отошел на цыпочках в сторону и начал воскресный осмотр животных.
– Оставь ты моих коров в покое, – сказал ему Оноре, не поднимая головы. – Даже если ты их и прощупаешь, все равно это ничего не даст.
Оноре, который чуть что, не стесняясь, одергивал брата, еще, однако, ни разу до этого случая не осмеливался так вот категорично осудить едва ли не священный обычай осматривать животных. Фердинан почувствовал: что-то вдруг изменилось в их отношениях. Тот, на кого он невольно смотрел как на своего фермера, превращался в главу семьи, в предводителя Одуэнов, которому он в данной ситуации готов был подчиняться.
– Поскольку это все равно ничего не стоит, – робко возразил ветеринар.
– Говорю я тебе, оставь моих коров в покое.
И ветеринару пришлось отказаться от осмотра.
– Знаешь, – почти невольно все-таки вырвалось у него, – должен тебя предупредить, что у Фиделины течка.
– Ну, если тебе так хочется…
Ветеринар терпеть не мог непристойных шуток, предлагавших его воображению чересчур конкретные образы, которые, случалось, преследовали его потом на протяжении нескольких дней. Он покраснел, бросил на Фиделину взгляд, прикинул, не удержавшись, некоторые возможности и возмутился бесцеремонностью брата.
– Мне все-таки непонятно, как в твоем возрасте ты еще можешь увлекаться подобными гнусностями, нет, я решительно отказываюсь это понимать.
А Оноре уже успел забыть свои неосторожные слова, оскорбившие целомудрие брата.
– Какие гнусности? – спросил он.
– Гнусности вроде той, что ты только что сказал.
– Я сказал тебе гнусность?..
– «Ну, если тебе так хочется…»
– Что, если тебе так хочется?
– Да ты мне сказал: ну, если мне так хочется…
– Не понимаю.
– Или точнее: «ну, если тебе так хочется!»
Фердинан все больше терял терпение, и Оноре смотрел на него с беспокойством, думая, что волнение сказалось на его рассудке.
– Тебе нужно пойти немного поесть, – сказал он ему. – В ожидании обеда Аделаида нальет тебе кофе с молоком.
Ветеринар ничего не ответил. Он был уязвлен. Мало того что он пострадал из-за собственной честности, так теперь его же еще принимают за идиота. В который уже раз ему приходилось убеждаться, что такова обычная награда за невинность и скромность.
Когда братья вышли из конюшни, то все, кто мог их видеть, заметили, что ветеринар был желт, как канделябр, и что он опасливо поджимал зад в своей визитке. Оноре же, напротив, казалось, излучал хорошее настроение, смотрел бодро, и его тело привольно наполняло собой одежду. Слышно было, как он сказал Фердинану:
– Главное, больше никуда не лезь. Ты и так уже наделал достаточно глупостей. Я запрещаю тебе ходить к нему.
Соображения кобылы
В Клакбю занимались любовью четырнадцатью способами, но кюре одобрял не все из них. Описывать их здесь вовсе не обязательно, да и к тому же я боюсь распалиться. Они отнюдь не составляли общее достояние коммуны: даже тех, кто знал хотя бы четверть из них, и то в деревне было раз-два и обчелся. Они, эти способы, представляли собой своеобразные семейные рецепты, некое движимое имущество, которое попадало из одной семьи в другую с помощью брака, благодаря детским воспоминаниям или же, что случалось гораздо реже, через дружеские откровения. На первый взгляд кажется, что в деревне с несколькими сотнями душ обмен опытом должен был бы быстро дать всем семьям возможность освоить весь цикл четырнадцати сладострастий. Однако ничего подобного не происходило, так как игра личных склонностей, стыдливость той или иной супруги либо властность мужчины позволяли одерживать верх какому-то определенному способу – одному или двум – и обрекали на забвение недавние находки, а то и устоявшиеся традиции, которыми иная семья жила до этого добрую сотню лет. У новобрачных редко бывало так, чтобы одна традиция добавлялась к другой; муж почти всегда заставлял принять свои способы любви. Встречались и более любознательные семьи, поддававшиеся очарованию новизны и разнообразия. Например, у Бертье мужчины ласкали своих жен четырьмя, а то и пятью различными способами. Но то были исключения, и можно сказать, что ни в одной порядочной и трудолюбивой семье до трех способов дело не доходило. Клакбюкские Одуэны почти всегда ограничивались наследием старого Одуэна, и даже Алексис, самый предприимчивый из сыновей Оноре, добавлял к нему разве что кое-какие мелкие детали. А ведь Алексис отличался в детстве неиссякаемым интересом к любовным таинствам. Он размышлял буквально над всеми возможностями, которые только позволяло ему знание человеческой анатомии, и в своих мероприятиях с девочками его возраста проявлял немалую изобретательность и отсутствие всякого стыда. А вот году этак на восемнадцатом он словно вдруг растерял весь свой опыт, как бы готовясь к вступлению в мир, где изощренность и изыски становятся слишком громоздким багажом. Так же обстояло дело и с его братьями, и с его отцом, и с большинством клакбюкских мужчин: на исходе отрочества они отказывались от своих простодушных, шумливых, бесстыдных любовных привычек и вступали на путь, означавший, что пришла пора выбирать жену и ограничивать себя во всех отношениях. Выбирали они нехотя, подобно тем больным, что сидят на диете и едят яйца вкрутую, мечтая при этом об аппетитных рубцах и кровяной колбасе былых, здоровых времен, но все же выбирали и постепенно к ним привыкали, потому что главное – это жить, чтобы зарабатывать су. Когда ты вынужден работать в поте лица, чтобы прокормиться от клочка земли, то не существует ни четырнадцати способов, ни двенадцати, ни шести; существует только один способ, да и о нем-то вспоминаешь нечасто. Клакбюкские мужчины забывали по только об уловках их юных лет, они забывали также и про то, что любовные наслаждения занимают большое место в играх их детей, – или, скорее, притворялись, что забывали.
В юном возрасте ребята с любознательностью, почти не знающей удержу, приобщались ко всему, что могло удовлетворить их половые инстинкты. Они сбивались в похотливое, не имеющее никаких тайн стадо и ходили подобно юным сельским богам, чьи забавы не умерялись никакими тяжкими заботами о хлебе насущном. То было общество наслаждений, куда каждый нес свою лепту, свой трофей: хитроумную идею, непристойное выражение, что-то из своих наблюдений за семейными отношениями. По окончании занятий в школе они собирались вместе, мерили травинками пенисы или же, захватив врасплох между двумя изгородями какую-нибудь девчонку, заставляли ее заголяться. Все это располагало к комментариям, которые и лились как из фонтана, один похабнее другого. Девочки, за исключением тех случаев, когда они оказывались жертвами, в эти контроверзы не вмешивались и лишь издали наблюдали за их внешними проявлениями. Довольно ранее чувство религиозного долга служило у них противовесом любопытству. Кюре уже пользовался в их глазах престижем, который женщины обычно признают за священником и врачом. Он знал свою власть над женской частью Клакбю и говорил по этому поводу, что если бы в деревне не было ни одной женщины, то ему, может быть, и удалось сделать из ее жителей святых, а вот добрых католиков ни за что.
Эротические демонстрации ребят были отнюдь не только словесными, как не были они и имитацией. Диапазон их любознательности практически не имел границ: их в равной мере интересовали и содомия, и иные извращения, и обыкновенная, семейная традиция; и если их представления обо всем этом были несовершенны, что в определенной мере лишало их возможности отчетливо видеть действительность, то это никак не мешало совершению многочисленных, самых разнообразных совокуплений, которые вовсе не сводились к одной только мимике. Я уж не говорю о наслаждениях, получаемых в одиночестве, которые свойственны всем возрастам, и существуют как в городе, так и в деревне.
В летний сезон, когда дети находились вдали от школы и пасли стада, они не отказывали себе в удовольствии воспользоваться временем каникул и свободой. Девочки нередко попадались на ядреное красноречие юных пастухов и уступали им, не затрудняя себя выбором, скорее от безразличия или простого безделья, чем от реального желания. Эти соития редко совершались без свидетелей; почти всегда они служили зрелищем для одного-двух мальчишек, которые поджидали своей очереди, рассчитывая на благосклонность жертвы. Иногда посреди этих пасторальных праздников вдруг возникала фигура сельского полицейского, хранителя собственности и добрых нравов, но ему и в голову не приходило составлять по такому случаю протокол: ведь дурными считаются только такие нравы, которые приводят к посягательству на собственность либо к ее обесцениванию, а эти детские забавы порядка никак не нарушали, собственности граждан Клакбю никакого зла не причиняли; то были опыты, проводимые на закрытом участке детства и являвшиеся, можно сказать, опытами теоретическими. Полицейский ограничивался нотацией и сообщал родителям только о тех провинившихся, чьи коровы имели привычку пастись на чужих лугах. Эта явная несправедливость служила зато наградой праведным пастухам, лишний раз доказывая им, что в гармонично устроенном мире все оборачивается во благо людям, уважительно относящимся к добру ближнего. Ну а уведомленные полицейским, родители никакого чрезмерного беспокойства по поводу обнаруженных у ребенка дурных инстинктов не проявляли. Обычно, виновный трепетал от страха минут пять, выслушивая, как его отец ругается и говорит, что ему, мол, стыдно за такого невоспитанного ребенка, а мать в это время думала о том, что как-нибудь на неделе его следует отправить на исповедь. На следующий день всю семью поражала амнезия, и пастуха отправляли на луга, ни мало не заботясь о подстерегающих его там искушениях.
Тем же самым ребятам, предававшимся бесстыдным играм, случалось хранить в тайниках души какую-нибудь робкую любовь, легкую и чистую, как надутый в раю мыльный пузырек. Им даже и в голову не приходило, что эти утонченные радости могут завершиться плотскими утехами. Позднее, достигнув возраста мужчин и научившись удобной привычке все смешивать, они грубо смеялись над этой утраченной благодатью. Лучшие из них, вспоминая о ней, иногда испытывали прилив нежности.
Дети Оноре Одуэна предавались непристойным играм их возраста без всякого удержу. Отец не видел в том ничего предосудительного, радовался, обнаруживая у них столь сильную тягу к любви, и сам, отягощенный обязанностями семейного человека, немного завидовал приволью их чувств. «Так будет не всегда, – с грустью думал он, – и они тоже станут стесняться быть счастливыми, когда им придется в. грудах и заботах добывать кусок хлеба».
На тринадцатом году Алексис не пренебрегал ни одним из тех удовольствий, которые ему рисовало его смелое воображение. Товарищи восхищались его непринужденной речью, его смелостью и изобретательностью. Он умел делать почти все, о чем рассказывал, а рассказывал он, приводя массу подробностей, стремясь к максимальной точности и пользуясь весьма образным словарем, что притягивало к нему слушателей. В школе он чаще держал руки под партой, нежели на парте, причем вовсе не ради застарелой привычки, а просто, чтобы внести немного человечности в повествование учителя про тройное правило или про сварливый характер Кольбера. Взгляд у него был проворный, а рука – всегда готовая воспользоваться оказией. С девочками он проявлял завидную ловкость, обнаруживал умение убеждать, а кроме того, была у него своеобразная манера брать как бы шутя их руку и направлять ее туда, куда ему хотелось. Малышки терялись, и некоторые из них охотно выслушивали его до конца. Ему чаще, чем кому бы то ни было другому, случалось попадаться полицейскому в тот момент, когда штаны его оказывались сняты и лежали неподалеку. «Вот ведь дьяволенок-то, – говорил полицейский, – это уже третий раз за лето, и кончится тем, что я все-таки скажу Оноре». Но то были лишь пустые угрозы; фантазия Алексиса отличалась такой затейливостью, что нередко полицейский, спрятавшись за кустом, выжидал, чтобы преступление было совершено, и только тогда давал знать о своем присутствии. Алексису никогда не верилось, что девочка уступила ему до конца, и он, поворачивая ее то орлом, то решкой, все норовил выяснить, какую же еще тайну она в состоянии ему поведать. Однако, несмотря ни на что, счастье шло ему в руки не так уж часто: тот факт, что девочка покорилась ему однажды, еще не означал, что она будет уступать ему и в последующие дни; взрослые как-то приноравливаются к этой логике, а у детей и гордости побольше, да и мысль одна останавливает – хватит с меня уж и того, что я принадлежу моим родителям. Потребность ли ему подсказала, или просто случай такой вышел, но Алексис подметил, что ложбинка меж ягодиц у девочек и у ребят выглядит одинаково. Застав его. в тот момент, когда он на практике доказывал это одному из пастухов-ровесников, полицейский счел, что на сей раз мальчишка преступил все границы дозволенного, и побежал уведомлять о случившемся отца.
– Мне стыдно, Оноре, тебе об этом говорить, но твой парень ведет себя хуже, чем хряк.
Оноре выслушал рассказ полицейского, покачивая головой. Он ответил: