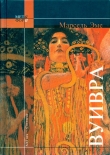Текст книги "Зелёная кобыла (Роман)"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Я освобожу дом, как только ты этого захочешь, а может, даже и ждать не буду, когда ты мне об этом скажешь.
– Да нет же, – запротестовал Фердинан, – с чего ты взял… Я готов подписать тебе бумагу.
– О! Твоя бумага. Ты можешь, если тебе угодно, сунуть эту бумагу себе в задницу.
Ветеринар стал невнятно оправдываться: он никогда не собирался злоупотреблять своими правами владельца, и пока он жив, брат может быть уверенным…
Но Оноре его уже почти не слушал. Он смотрел на солнце, которое сияло на другом конце Клакбю, собираясь отправиться на покой за Красным Холмом. Ослепленный его последними лучами, он медленно опустил глаза и тихим, ленивым голосом скапал:
– Да, в задницу.
Соображения кобылы
Из всех клакбюкских и иных Одуэнов я всегда отдавала предпочтение Оноре. Возможно, именно ому я обязана преодолением отчаяния от безысходности моих наваждений и умиротворением моих яростных желаний. Я обнаружила, что этот нежный и настроенный на смешливый лад человек обладает секретом разнообразного эротизма, полнее всего удовлетворяемого за пределами реальности. Не то чтобы он стремился к целомудрию: он ласкал собственную жену и не был равнодушен к другим женщинам. Однако его любовные утехи совершенно не походили на те целесообразные наслаждения, которые с суровой непреклонностью прославляют любители моральной гигиены; не походили они и на то печальное отправление супружеских обязанностей, которое у ветеринара всегда вызывало угрызение совести. У Оноре любовное желание иногда рождалось из солнечного луча, а иногда, улетая за каким-нибудь облаком, упускало момент своей реализации. Казалось, объятия были для него всего лишь простой расстановкой знаков препинания в грандиозном сновидении, которое наполнялось образами из созданного его фантазией мира. Когда Оноре ласкал свою жену, он созывал для этого и хлеба на равнине, и реку, и Рекарский лес.
Однажды, в пору своего восемнадцатилетия, он оказался в столовой наедине со служанкой, которая повела себя настолько раскованно, что подтолкнула его к решительным действиям. А за окном лежали покрытые снегом поля, и появившееся на миг солнце внезапно озарило светом все это холодное белое пространство. Цвета отделились друг от друга и все вместе пустились в пляс. Оноре всем своим телом ощутил, как праздничный снег вдруг начал таять, и, оставив свое занятие, в котором продвинулся уже довольно далеко, отошел к окну, распахнул его и смехом приветствовал этот солнечный хоровод. За семьдесят лет я повидала немало любовников, но другого такого, который бы вот так, по знаку света, оставил свое занятие на самом пороге сладостной дрожи, никогда не встречала. Можно сказать, что такова была привилегия этого Одуэна: умение без усилия нести в себе самые драгоценные иллюзии. Впрочем, бывало и так, что Оноре, наоборот, спускался на ступеньку-другую вниз. Когда он видел в поле, как ветер колышет высокие хлеба, или когда в ноздри ему ударял запах свежевспаханной земли, ему случалось ощущать, как в теле его вздымается жажда исполинских объятий. И тогда ему казалось, что он сжимает в своих тяжелых от благой усталости руках весь охваченный ликованием мир. А потом желание теряло свои размах, принимало реальные и не столь прекрасные очертания, выбрав определенную точку на его горизонте, и Оноре снова брался за работу, мечтая о лоне какой-нибудь девицы из Клакбю.
Аделаида красивой не была никогда. В те времена, когда Оноре за ней ухаживал, в ее фигуре уже угадывалось худое и жесткое, состоящее из одних костей и сухожилий, тело работящей крестьянки. Даже в самые первые годы их брака Оноре не строил себе иллюзий и понимал, что за корсажем у его жены нет ничего такого, чему дано приятно наполнять руку. Почувствовал он и ее сварливый нрав, догадался, что пройдет совсем немного времени, и у нее выпадут все зубы. Он смеялся над этим, как над подстроенным самому себе отменным фарсом, и говорил Аделаиде, какой забавный номерок достался ему в жизненной лотерее. Он предпочел бы, чтобы природа оснастила Аделаиду со всех сторон, но, коль скоро она уже была его женой, предаваться пустым сожалениям по этому поводу не собирался и любил ее такой, какая она есть. По существу (он не высказывал этого вслух и даже сурово выговаривал Аделаиде за слишком скромные размеры ее ягодиц), за что он и любил ее. Он не видел никакого резона казниться из-за того, что ей чего-то слегка не хватало в груди и чего-то малость недоставало сзади. Ведь при игом чего-то вполне хватало. А в соответствующий момент уж от него самого зависело, если нужно было чего-то добавить; да и какой бы худой она ни была. Оноре всегда находил средства наполнить свои объятия. Иной раз у него даже появлялась мысль, что это, в сущности, везение: то, что такая женщина, как Аделаида, потратит тридцать или сорок из причитающихся ей лет именно на него, а он – на него; настоящим везением, причем совершенно непонятным, казалось ему и возможность крепко любить жену, не испытывая даже потребности изменять. Однако большую часть времени он об этом не думал. Он шел по равнине, толкая перед собой плуг и насвистывая, останавливался пописать, опять брался на плуг, плевал в сторону, пел, разговаривал со своими быками, гладил их по шерсти и против шерсти, громко смеялся, выстругивал для своих ребят чижика из зеленого прута, мастерил из коры свисток, опять смеялся, вел прямо свою борозду и восхищался тем, как хороша жизнь.
А вот священнику эта радость Оноре Одуэна была противна. У него от нее появлялось чувство благочестивой ревности, ибо он понимал, каким опасным дли жителей Клакбю является этот пример столь явно счастливого – без какой-либо помощи церкви – человека. Впрочем, ненависти к Оноре у кюре не было ни малейшей; он даже питал к нему некоторую симпатию, а за его заблуждения даже жалел его; однако он был прежде всего тактиком по спасению душ. Он знал, что души в Клакбю, вместо того чтобы двигаться по направлению к раю, охотнее копошились где-то на уровне земли, постоянно рискуя застрять здесь навеки. А ему нужно было разместить их в таких удачно расположенных загонах, откуда им было бы легко в любой момент прыгнуть в небо. Кюре так и сыпал предостережениями. На все женские животы он навесил по табличке: «Здесь расставлены капканы» или «Не задерживаться». Дабы эти предупреждения выглядели еще более внушительными, он присовокуплял к ним угрозы наказаний, причем не где-нибудь в иной жизни, а еще тут, в долине слез. В сущности, клакбюкцы боялись лишь превратностей судьбы, подстерегающих человека в этом бренном мире: страх перед адом от грехов их не уберегал, а вот посули им хороший урожай, так они запаслись бы целомудрием хоть на год вперед; именно такого рода сделку кюре им и предлагал. Для того чтобы рассчитывать на обретение вечного блаженства, клакбюкцы должны были бояться за свой скот и за свой урожай. Как это было ни унизительно, но это было так, и потому в конечном счете имел значение лишь результат. Между тем результат мог пострадать из-за одного только присутствия Оноре в Клакбю. Ведь он не обращал никакого внимания на священные таблички, что было всем известно, и при этом скот у него не дох, асам он отличался свежим цветом лица, и радостное настроение не покидало его на протяжении всего года. Кюре даже не осмеливался утверждать, что Одуэну придется жестоко поплатиться за это на том свете, так как все односельчане, вплоть до самых набожных, считали Оноре настолько хорошим человеком, что священнику все равно никто бы не поверил. Кюре не оставалось ничего другого, как говорить, что Бог откладывает мщение из милости к заслугам доброй католички Аделаиды; кроме того, он прибегал к хитроумным уловкам, стараясь внести раздор: в семью Одуэнов, и увещевал супругу, когда та приходила к нему на исповедь, уклоняться, насколько это возможно, от ласк мужа, за что им обоим было бы даровано прощение. Бог так ни разу и не дождался подобной жертвы от Аделаиды, но зато каждый раз, получив удовольствие, она непременно прочитывала молитву, а то и две – в зависимости от обстоятельств. Если говорить о любовных утехах, то тут ее образ действительно мало походил на пассивную сдержанность госпожи Одуэн-старшей, и порой она вела себя настолько предприимчиво, что Оноре склонен был считать ее поведение прямо-таки анархическим и, уж во всяком случае для супруги, чересчур смелым. Вопреки мнению, сложившемуся у шоре, он остался весьма верен семейным традициям. Сильнее всего он воодушевлялся в темноте; кроме того, он вообще считал, что только мужская прихоть имеет силу закона и что желание женщин вполне достойно презрения. Супруга смотрела на вещи иначе, и из-за этого у них нередко возникали ссоры. От того, что, как она считала, принадлежит ей по праву, Аделаида отказываться не собиралась и старались заставить Оноре принимать во внимание и ее Кип ризы, даже посреди бела дня. Она безуспешно приставала к мужу, то прижимаясь к нему, то стараясь распалить его любопытство с помощью извлекаемых из-под кофты худых грудей, которые проскальзывали у нее сквозь пальцы. Оноре всегда уклонялся от ее ласк, причем не без скандала.
Однако он был далек от того, чтобы соблюдать семейные традиции неукоснительно. Он всегда лишь вполуха слушал советы отца об экономии мужской мощи и, в отличие от Фердинана, внимал лишь голосу собственного вдохновения. Это было не единственное различие между двумя братьями. Еще в ту пору, когда Фердинан был ребенком, Оноре терпеть не мог этого скрытного мальчишку, который, спрятавшись, подглядывал, как люди мочатся, и которому, еще не вкусившему греха, уже был знаком стыд. Со своей стороны, Фердинан побаивался своего старшего брата, чья откровенность служила ему постоянным укором, хотя повод для выговора он давал ему редко.
В теплое время года их мать имела привычку каждое первое воскресенье мыть ноги. Она выставляла лохань на середину кухни, выбирая такое время, чтобы вся семья была в сборе, дабы скрасить приятной беседой отправление этой скучной гигиенической надобности. Жюль Одуэн и старшие сыновья разговаривали с ней, избегая смотреть на ее голые ноги, а Фердинан играл в свои безмолвные игры. В одно из воскресений Оноре вдруг заметил, что его младший девятилетний братец что-то уж слишком часто позыривает в сторону лохани; он перехватил под его полуприкрытыми веками внимательный взгляд, пытающийся прокрасться под саржевую нижнюю юбку матери. «Фердинан!» Мальчишка встал, весь красный от смущения. «Стоило бы дать тебе подзатыльник», – добавил Оноре. И сам проступок, и этот окрик наложили тяжелую печать на взаимоотношения братьев. Фердинан сохранил воспоминания об этом случае на всю жизнь. В присутствии Оноре он всегда чувствовал себя неуютно – словно перед судом присяжных. Не прошло это и с возрастом: несмотря на свою блестящую карьеру ветеринара, он постоянно пребывал в оборонительной стойке. Оноре забыл про этот эпизод почти тотчас же, но впоследствии обнаруживал все новые и новые факты, укреплявшие его в неприязни тех первых лет. Ему казалось, что за чрезмерной стыдливостью ветеринара скрывается какой-то скрытый порок, и это неприятное впечатление усугублялось еще и оттого, что к невестке своей, Элен, он испытывал весьма дружеские чувства, втайне даже восхищаясь ею. Он мысленно представлял себе, с каким отвращением она должна была терпеть вкрадчивые наскоки этого застенчивого самца, который с раздражающими предосторожностями извлекал на свет Божий, дабы проветрить их, свои чахленькие желаньица, заключенные в зловонную страсть к соблюдению приличий. Во время их бесед в тоне Оноре проскальзывало достаточно презрения к брату, что просто не могло остаться незамеченным Элен. Когда она спрашивала Фердинана, чем вызвано такое к нему отношение, тот начинал с подозрительной запальчивостью обвинять брата. Поверить ему, так Оноре только тем и занимался, что волочился за женщинами, ну а что касается презрения, то это был с его стороны своего рода коварный маневр с целью разбить добродетельную семью и осуществить некий мерзкий замысел. Ветеринар, кстати, и в самом деле верил в распутство брата – слишком уж вольно тот выражался.
Оноре никогда не изменял жене, за исключением тех случаев, когда он вместе с другими барышниками отправлялся в заведение на Птичьей улице в Сен-Маржлоне, но то была почти что профессиональная необходимость, да и, кроме всего прочего, потаскухи представлялись ему существами из какого-то иного, нереального мира.
Не следует также принимать во внимание и его благосклонность к служанке в ту пору, когда таковая у них еще имелась. Согласно некоему почтенному обычаю, существующему в честных сельских домах, заслуживающая доверия служанка могла выполнить в утехах господина роль заместительницы супруги, и Аделаида никогда всерьез его этим не попрекала. Так что в Клакбю о поведении Оноре никто по злословил; жены там, кстати, были довольно добродетельны, а, кроме того, Оноре, который свою жену любил, и сам бы не хотел оскорблять ее таким вот образом в глазах своих односельчан.
Аделаида же в свою очередь оправдывала доверие супруга. Она поддалась искушению только один раз, но сделалась от этого еще добродетельнее, потому что, получив огромное удовольствие, могла бы пойти во вкус, а она вот нет, не вошла. Как-то раз зимним днем, когда в доме были только она да служанка, какой-то бродяга лет сорока попросил у нее разрешения переспать в хлеву. Служанка отнесла ему охапку соломы и, вернувшись, пожаловалась, что мужчина попытался опрокинуть ее в стойло. Аделаида сразу стала задумчивой, у нее сперло дыхание, по щекам разлился жар состраданиями она отправилась в хлев. Мужчина уже лежал там, раскинувшись, на соломе между двумя теплыми, жующими свой корм коровами. Она села перед ним и протянула к нему свои милосердные руки; потом пригнулась. Мужчина, опасаясь спугнуть склоненную голову, не шевелился. У этого бедняги не было никаких традиций, и он не отягощал свои удовольствия излишней стыдливостью. Он начал нежно поругиваться. Аделаида тихонько стонала, а сверху короны обдавали их своим дыханием.
Когда Аделаида исповедалась, кюре сперва обрадовался. В глубине души жалея Оноре, он поздравлял себя с тем, что дьявол внес-таки свою лепту в сооружение обители христианства Клакбю. Червь уже попал в плод, и скандальному поведению этого нечестивца, беззаботно наслаждавшегося дарами милостивого Бога, должен был вот-вот наступить конец. Но прошел год, а Аделаида ни о каких новых своих прелюбодеяниях не сообщала. Кюре забеспокоился. Теперь стоило какому-нибудь бродяге позвонить в дверь его дома, как он тут же, вручив ему кусок хлеба и сославшись на отсутствие свободного места, показывал ему на дом Оноре, уверяя посетителя, что там он найдет себе пристанище. Однако Аделаида держалась стойко, а в окрестностях Клакбю распространились слухи, что Оноре Одуэн с милосердием, достойным изумления, привечает бродяг.
Двумя годами позже я стала свидетельницей другого случившегося в этом же доме адюльтера, который оказался весьма благородной жертвой, принесенной госпожой Одуэн-старшей баварскому офицеру ради спасения своего сына. Она находилась в том возрасте, когда женщины уже не очень-то рассчитывают на добрую волю мужчин, а баварский офицер был одним из тех розовощеких молодых людей, которые под изрядно наполненным корсажем склонны видеть больше тайны, нежели реальности. Корсаж госпожи Одуэн выглядел весьма внушительно, особенно в кухонном полумраке; юный командир подпал под чары сразу же, как только вошел, и неотрывно смотрел на него в течение всего допроса. Пока он стоял перед испуганной, умоляющей женщиной, случай показался ему настолько счастливым, что он без колебаний решил воспользоваться им, невзирая на риск быть расстрелянным своими же, если бы они его застали на месте преступления. Отправив подчиненных обследовать пристройки, он поцеловал госпожу Одуэн в губы и толкнул ее в спальню. Ее взволновал уже поцелуй, надеяться на который ей не позволял ни возраст, ни приличия, но тоскливая мысль о присутствующем в комнате сыне помешала воспользоваться этим первым волнением в полной мере. Она легла на кровать и закрыла глаза, но, убедившись в неловкости баварца, вновь открыла их. Нельзя было терять ни секунды, так как в любой момент их могли застать; она хотела помочь ему, но в своей супружеской жизни ей удалось приобрести не слишком много полезного опыта. Для них обоих это было подобно некоему открытию, которое они осуществляли совместно, улыбками извиняясь друг перед другом за обоюдную неловкость. Госпожа Одуэн невольно утоляла свою любознательность, которую ночные забавы ее супруга оставили неудовлетворенной. После того как она направила поиски военного куда следует, госпожа Одуэн ощутила всей своей дремлющей плотью обещание нежности. Остатки угрызений совести еще давали о себе знать, но когда ее палач сделал было попятное движение, она непроизвольно удержала его, притянув голову мужчины к своему лицу. А когда она, стыдясь своего согласия, сделала попытку оттолкнуть его, любовник обнял ее еще сильнее. На этот раз она улыбнулась благодарной, сообщнической улыбкой; ее ленивое, оцепеневшее с годами тело пронзила судорога сладострастия, и она заглушила протяжный крик удивления. Баварец резко встал, испугавшись, что и так слишком долго задержался. Приводя в порядок свое обмундирование, он протянул невольной жертве руку, чтобы помочь ей встать. И тут юный солдат обнаружил, что она уже старая женщина и что он нарушил присягу ради старушечьей груди; губы его тронула грустная улыбка, и он подумал, что в момент смерти ему нечем будет гордиться.
Госпожа Одуэн исповедалась неделю спустя. Она была человеком порядка и ничего не оставляла на потом. На исповедь она отправлялась с почти легким сердцем, совсем не мучаясь угрызениями совести из-за деяния, к которому ее подтолкнула необходимость. Она быстро рассказала о случившемся, упоминая благопристойности ради лишь основные моменты и всецело сохраняя достоинство женщины, пожертвовавшей собой ради святой цели.
– Все так, – сказал кюре, – а удовольствие вы при этом получили?
Несчастная женщина пробормотала признание, задрожав от ужаса. Кюре не стал ее успокаивать, напротив, с превеликой радостью принялся внушать ей, что даже самая великодушная жертва способна обернуться ужаснейшим поражением, когда за работу берется дьявол, и что, ублажая плоть, человек постоянно подвергается страшнейшей опасности, даже в том случае, когда поступок выглядит праведным. Госпожа Одуэн горько покаялась в своем грехе, настолько горько, что меньше чем через три года умерла.
IV
В тот момент, когда мать наклонилась над плитой, Алексис крадучись проскользнул через кухню у нее за спиной и уселся на свое место за уже накрытым для вечерней трапезы столом. У него были серьезные основания стараться не привлекать к себе взглядов. Клотильда и Гюстав не обратили на появление брата никакого внимания; упершись локтями в подоконник, они были заняты игрой, кто дальше плюнет. Гюстав плевал часто без всякой системы, громко комментируя результаты. Клотильда, напротив, плевала экономно и молча. В результате произошло то, что и должно было произойти: поиграв пять минут, Гюстав истощил запасы слюны, и сестра опережала его на метр, а то и больше.
– Вот видишь: не умеешь ты плеваться, – сухо сказала она. – С тобой совсем неинтересно играть.
Тут в кухню вошел Нуаро и улегся под стол, и дети последовали за ним. Собаку звали Нуаро, потому что она была черная. Двух ее предшественников в память о войне звали Бисмарками. Первый обладатель этого имени страдал из-за него, по крайней мере вначале, так как пса постоянно обвиняли в злейших поступках исключительно ради того, чтобы иметь возможность обругать «эту падаль Бисмарка». С годами имя «Бисмарк» стало ласкательным, и старшие дети, Жюльетта и Эрнест, не задумываясь, продолжали по привычке называть так и Нуаро.
Алексис, закрыв голову руками, притворился будто дремлет, что выглядело совершенно неправдоподобно, так как младшие в это время с шумом и гамом таскали собаку за уши. Из-под стола слышались переливы голосов, потом раздраженный шепот, и Клотильда заявила своим тонким, отчетливым голоском:
– Мама, мне Гюстав хочет собачьим хвостом глаз выколоть.
– Неправда, мама. Это она сама обозвала меня большой коровой.
– Неправда!
– Правда, ты сама так сказала!..
– Это когда ты захотел выколоть мне глаз.
– Как будто я мог выколоть тебе глаз хвостом Нуаро!
– Но ты попытался же.
– Неправда!
Аделаида рассеянно пообещала отвесить им пару подзатыльников и продолжала резать ломтики хлеба к супу. Она с некоторым беспокойством думала о разговоре мужа с ветеринаром, который состоялся дна часа назад.
Еще никогда не видела она Фердинана таким раздраженным. Он поприветствовал ее, не входя в дом, и быстро уехал в своем кабриолете, с яростью настегивая рыжую лошадь.
Оноре вернулся домой, когда уже смеркалось. Он выглядел озабоченным и, садясь в конце стола, сказал:
– Подавай быстрее на стол. Я хочу зайти к Мелонам, узнать, как дела у Филибера.
– Жюльетта уже отправилась к нему после обеда. И она еще не вернулась, твоя Жюльетта, хотя уже полдевятого.
– Почему «моя Жюльетта»?
– Потому что ей известно, что отец все ей спускает, вот она этим и пользуется.
– Я так думаю, что она в церковь зашла, капельку помолиться, – пошутил Одуэн.
– Смейся, я посмотрю, как ты будешь смеяться потом. Сейчас ты пока спокоен, потому что дед оставил ей кое-что, но только вот когда у нее заведется что-нибудь в животе, с этим своим приданым она никакого серьезного мужа уже себе не купит.
Оноре посетовал, что ему прожужжали уши всякой несуразицей. У него не было никаких оснований сомневаться в целомудрии Жюльетты; не то чтобы она не ведала искушений – это с ее-то красотой, – а просто у нее была гордость. И кроме того, он еще заметил, что самцы предприимчивы прежде всего с девушками бедными. Аделаида зажгла лампу и поставила на стол.
Оноре приготовился зачерпнуть себе супу, как вдруг у него под ногами раздался дикий вой. Даже Алексис и тот поднял от стола растерянное лицо; мать закричала, что девочка, наверное, проглотила английскую булавку и та раскрылась у нее в печени. Оноре отодвинул табурет, пытаясь нагнуться и на глянуть под стол. Послышалось новое, еще более душераздирающее завывание, и в свете лампы полнилась Клотильда.
– Мам, – сказала она сдержанным голосом, – Гюстав меня за волоски на ногах дергает.
Теперь и Гюстав тоже покраснел; он был возмущен.
– Это неправда! Волосков у нее не больше, чем у меня.
Мать подняла девочку вверх, чтобы проверить. Клотильда настаивала, что у нее есть волоски, но на самом деле ноги у нее были абсолютно гладкие, в чем смогли убедиться все присутствующие. Однако она отрицала очевидное и заявила, что все вырвал Гюстав. Мать нашлепала ее по щекам, «чтобы отучить врать». Клотильда, получая пощечины, сначала громко смеялась, потом поджала губы, и на ее лице появилось выражение холодного бешенства. Гюстав шумно радовался, чем едва не снискал себе неприятностей; отец, сердитый из-за только что пережитого им испуга, обратился сразу и к нему, и к его сестре:
– Я вам, шпанятам, покажу, будете знать, как горлопанить почем зря. Сейчас же марш за стол, только попробуйте у меня пошевелиться.
Он посмотрел на усаживающихся за стол малышей и проворчал, наливая себе в тарелку супа:
– Ишь, десяти лет нет еще, а гонору – что у вашего дядюшки Фердинана… Волоски у нее на ногах! Ну и ну! Прямо ни дать ни взять ветеринар.
Когда у него было плохое настроение, Оноре постоянно казалось, что он улавливает весьма неприятное сходство между своими детьми и братом, словно хуже, чем иметь детей, похожих на ветеринара, ничего и быть не могло. Впрочем, чтобы успокоить себя, он неизменно добавлял: «Нет, не может быть, этого я никак не заслужил».
В этот вечер, после состоявшегося днем разговора, сравнение так и напрашивалось. Оноре перебирал поочередно всех своих сыновей. У Эрнеста, старшего сына, который служил в Эпинале, был сухой профиль, не совсем такой, как у ветеринара, но похожий. И тоненький голосок кастрата, как у дяди. Боже мой, как у дяди!
Когда очередь дошла до Алексиса, отец решил, что его-то можно рассмотреть с близкого расстояния. И с удивлением увидел понуро опущенные плечи сына, его уткнувшийся в тарелку нос.
– Что это с тобой, а? Обычно ты бываешь пошумнее.
– В самом деле, – сказала Аделаида, – что это с ним сегодня? Не заболел ли ты ненароком… ты весь красный.
Обеспокоенная видом сына она наклонилась, чтобы рассмотреть его получше. Алексис сжался еще больше, но спрятать воротник рубашки от внимательного взгляда матери ему не удалось.
– Ну-ка встань. Выйди на середину кухни и для начала сними жилетку.
Алексис медленно встал, бросил умоляющий взгляд на отца, который не остался равнодушным к его переживаниям. Гюстав и Клотильда следили за каждым движением брата с жестокой надеждой на какую-нибудь катастрофу. Ожидание их не обмануло: рубашка была разорвана от воротника до пояса, а у брюк не хватало почти полштанины. Мать мелкими шажками ходила вокруг провинившегося сына, щурясь как во время примерки. Воцарилось гробовое молчание. Алексис был белее мела.
– Вспомни-ка, что я тебе обещала прошлый раз, – сказала Аделаида. – Завтра на мессу ты так и пойдешь в этих штанах. Это первое.
– Мам, я сейчас вам все объясню…
– Именно в этих штанах и пойдешь на мессу. И пусть мне будет так же стыдно, как тебе, но я вытерплю.
– Послушай, – вмешался Оноре, – нужно же, наверное, дать ему объяснить, что там у него случилось.
Эти сочувственные слова придали Алексису немного уверенности.
– Я не виноват. Мы играли себе спокойно в козу около Трех Ольх, а он пришел и…
– Кто «он»? – спросила мать.
Имя Алексис назвать боялся. Взрослые умудряются так улаживать ссоры, что потом почти всегда возникают какие-то нелепые осложнения. Он подумал, что ему удастся выкрутиться с помощью двух-трех ловких фраз.
– Да есть там один четырнадцатилетний полудурок, который всегда пристает к нам, когда мы пасем коров. Мы ему ничего не делали, мы просто играли…
– Как его зовут?
– Тентен Малоре.
Услышав имя Малоре, Одуэн подпрыгнул на стуле. Он гневно посмотрел на сына: что за олух – допустить, чтобы какой-то там Малоре порвал ему рубаху. И этот тоже весь в ветеринара.
– Ты что же, не мог двинуть ему хорошенько кулаком в зубы, а?
– Я вам сейчас все расскажу: он воспользовался тем, что я наклонился, и налетел на меня, а как только я смог защищаться, он хорошенько получил от меня палкой. Конечно, он порвал мне одежду, но вы бы только посмотрели, как он потом улепетывал, хромая на обе лапы.
Лицо Оноре озарилось полуулыбкой.
– А! Хромал, говоришь… Это хорошо, что ты постоял за себя. Им, этим людям, всегда нужно давать отпор, они все друг друга стоят.
Аделаида же считала, что теми ударами палки, которые достались Тентену Малоре, ни штанов, ни рубашки сына не починишь. Ей хотелось добиться полной ясности, но Алексис, почуяв опасность, постарался еще больше разбередить старые раны отца.
– Всякий раз, когда что-нибудь происходит, это всегда Тентен виноват. Позавчера он взял и затащил Изабель Дюр за изгородь Деклоса, чтобы там задирать ей юбки.
Однако Одуэн снисходительно покачал головой. В таком возрасте это обходится без последствий, а кроме того, надо же ведь детям учиться. Все, что касается происходивших между мальчишками и девчонками тисканий, кувырканий и тайком пробирающихся под юбки рук, он воспринимал как деликатные и грациозные игры. Поскольку Алексис настаивал на похотливости дылды Тентена, отец почуял душок лицемерия и бросил наугад:
– Только ты забыл сказать нам, что ты ему помогал.
– Я!
– Да, ты…
Тут Алексис смутился.
– Это все потому, что Изабель отбивалась, – признался он, – но я ничего не делал, я только держал ей ноги.
– Черт побери, – возмутился Оноре. – Значит, ты держал ей ноги, а Малоре в это время был там, где интересней!
– По правде сказать, мы по очереди…
Развеселившись от этакого признания, Одуэн остыл. Он был весьма доволен тем, что его мальчишки любят лазить девкам под юбки. Хоть тут-то не походили они на этого сухаря Фердинана, который провел свою унылую юность, уткнувшись в пристежные воротнички и молитвенники; этому клерикалу, напорное, вообще всю жизнь если что и нравилось, то только кобыльи вульвы, потому что такая уж у него натура – быть клерикалом; и что бы он там сейчас ни говорил, в глубине души он так и остался клерикалом. (Как считал Оноре, тороватый самец не может быть клерикалом, так же как не может он быть и роялистом или бонапартистом; только люди с очень уж незадачливым темпераментом, полагал он, могут не испытывать симпатии к Республике, такой широкобедрой, такой полнотелой.)
Алексис, сопровождаемый доброжелательным и задумчивым взглядом отца, отправился на свое место, но тем временем Аделаида, чтобы все-таки погубить его, придумала еще одну уловку. Она заметила Одуэну:
– Ты, конечно, можешь сколько угодно оправдывать его, но пока он занимается фокусами с девками, коровы пользуются этим и уходят в люцерну, а потом их раздувает. Вот сдохнет одна, тогда я посмотрю, как ты будешь смеяться.
Одуэн сразу же посуровел.
– Это правда то, что говорит мать?
– Ну еще бы нет, – настаивала мать. – Взять, например, сегодня: Ружетта вернулась с таким животом, что можно подумать вот-вот отелится.
– Черт побери! – возмутился Одуэн. – Довести скотину до такого состояния… Ты мне скажешь наконец, чем ты целый день занимался?
Алексис ловко защищался: Ружетту, по его слонам, вовсе не раздуло, а просто вид у нее такой, потому что она хорошо поела.
– Единственное, что случилось, пока я дрался с Тентеном, так это – что она забрела на луг к Руньону, но ведь от хорошей травы с ней не могло произойти ничего плохого.
– Конечно же нет, – кивнул подобревший Одуэн.
И когда жена стала говорить, что нужно пойти к Анаис Малоре и выяснить у нее, как и почему у сына оказалась разорвана рубашка, он возразил:
– Я больше слышать ничего не хочу про эту рубашку и прошу тебя оставить Анаис в покое. Когда настанет время поговорить с Малоре, я займусь этим сам.
Не успел он закончить свою фразу, как в дверях появилась запыхавшаяся от бега Жюльетта и тут же присела рядом с отцом.
– Хорошо еще, что бегом неслась, – сказала Аделаида, – а то бы вообще вернулась к полуночи.
– И то верно, – добавил Оноре, – можно было бы пораньше возвращаться домой.
Однако в его голосе не было ровным счетом ничего от упрека, содержавшегося в словах. Жюльетта посмотрела на него, и они оба дружно рассмеялись. Держать себя строго с Жюльеттой у него не получалось: он все еще не мог прийти в себя от изумления, смешанного с гордостью, что ему удалось заполучить от тощей и раздражительной супруги эту высокую девушку с кроткими черными глазами, неторопливым смехом и соблазнительными формами.