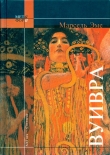Текст книги "Зелёная кобыла (Роман)"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
– Не вижу никакого повода, чтобы делать ей комплименты, – сказала мать язвительно. – Если она вернулась, то можно с уверенностью сказать, что в эту пору на улице не осталось уже ни одного мужика.
– Правильно, мамочка. Только, знаете, это я сама сказала им идти по домам.
– Я тебя за язык не тянула: их, значит, было несколько?
– Трое, мамочка.
– Когда влюбленных трое, – заметил Одуэн, – можно спать спокойно. И кто же эти шалопаи?
Жюльетта назвала всех троих: Леон Дюр, Батист Рюньон и Ноэль Малоре. Услышав имя третьего, отец нахмурил брови и едва не выругался. Так и будет его повсюду преследовать это отродье Малоре. Однако он сдержался и небрежно спросил:
– Может быть, ты уже знаешь, кто из них окажется настоящим?
Жюльетта слегка покраснела и сухо ответила:
– Я не могу вам сказать.
И, потупившись, стала рассматривать свою тарелку. Одуэн посмотрел на нее долгим взглядом, пожал плечами, встал из-за стола и направился к Мелону.
После визита ветеринара Оноре уже успел поразмышлять над проблемами, которые могли возникнуть с выдвижением кандидатуры Малоре. Открытое противостояние, единственное, что казалось ому достойным, влекло за собой цепь опасных последствий. Дом Одуэнов пришлось бы покинуть, даже если бы брат и не стал его к этому принуждать; не имея ни дома, ни денег, почти не имея земли, спять какое-нибудь жилье в Клакбю или в другом месте и пойти в поденщики, чтобы хоть как-то прокормить семью? Самым разумным было бы, очевидно, отправиться работать на завод, так как в городе могли бы подыскать себе работу жена и дети.
«А почему бы не рискнуть? – размышлял Оноре. – Работает же Альфонс на заводе».
Однако от одной только мысли об этом внутри у него что-то сжималось. В сорок пять лет отправляться работать в город, больше не ощущать чувствительным, как палец, носком башмака поддетый им рассыпающийся комок земли, ничего больше не ждать ни от дождя, ни от солнца, не быть больше один на один с горизонтом… а натыкаться взглядом на стены и на железяки, держать в руках инструменты, которые принадлежат не только тебе одному, мочиться в установленные часы на какой-нибудь кусок жести… Если нужно, то что говорить. Оноре не собирался поступаться ни своей обидой, ни своей республиканской совестью. Тем не менее он предпочел бы избежать конфликта, издержки которого пришлось бы платить ему одному, и хотел надеяться, что Меслон, несмотря на болезнь и свои семьдесят два года, еще поживет. Он торопился самолично у ни деть, в каком состоянии находится старик.
Меслоны заканчивали вечернюю трапезу. Их было десять, сидевших вокруг длинного стола, и еще старая хозяйка, по обычаю евшая стоя. Фитиль в лампе был опущен, и разговаривали они тихими голосами, так как дверь в комнату больного оставалась приоткрытой.
– Я пришел поздно, – сказал Одуэн вполголоса. – Вы же сами знаете, днем работа не позволяет.
Хозяйка знаком показала одному из ребят, чтобы он пододвинул стул.
– Ну что ж, это любезно с твоей стороны, Оноре. Старик будет рад, еще сегодня утром он вспоминал о тебе. Неважные у него, у моего Филибера, сейчас дела: конец уже не за горами. И кто бы мог подумать? Такой сноровистый, такой крепкий, а прямой – что твоя жердь.
Она повернула голову, как бы призывая всех Меслонов в свидетели. По сидящему вокруг длинного стола семейству прошло торжественное, медленное движение, и послышался шепот:
– Правда, правда, такой был сильный. И такой сноровистый – нужно было видеть. Работал, как никто.
В улыбке старухи отразились и гордость и отчаяние одновременно.
– А теперь уж целую неделю ничегошеньки не ест, вот до чего дошло. Завтра, мой бедный Оноре, будет уже восемь дней. Такой сильный человек, а?
Одуэн произнес обнадеживающие слова, которые придали ему самому немного бодрости. Тут через приоткрытую дверь донесся сухой, наполнявшийся в конце фраз дрожанием голос:
– Это ты там, Оноре, разговариваешь на кухне? Зайди-ка сюда.
Оноре, ступая вслед за старухой, несущей лампу, вошел в спальню. Филибер Меслон лежал на своей кровати; щеки у него ввалились, глаза потухли. Увидев его, настолько худого и бледного, что без тонюсенькой струйки дыхания, сочившейся с предсмертным шумом меж белых губ, его можно было бы принять за покойника, Оноре почувствовал, как от жалости у него перехватило горло. Он попытался сказать веселым голосом:
– Здоровьичка вам, Филибер. Мне-то говорили, что вы приболели, а я смотрю, вид у вас хоть куда.
Старик обратил на него свои утратившие блеск зрачки и знаком попросил сесть.
– Хорошо, что ты пришел. Самое время.
Он говорил по-прежнему тем же высоким и сухим, привыкшим командовать голосом, так, как говорил в муниципальном совете, но только теперь голос быстро выдыхался, а временами и вовсе пропадал.
– Совсем уж помираю, – сказал он еще.
Оноре и старуха дружно запротестовали. Филибер сделал нетерпеливый жест.
– Выбирать не приходится, – продолжил он, – обидно вот только, что прямо посреди жатвы.
– Ну к отаве вы поправитесь, – сказал Оноре.
– Нет, – улыбнулся Меслон, – отавы мне уже не видать. Я буду помогать ей расти.
Обессилев, он прикрыл веки; рука его прижалась к вздымающейся груди, откуда послышался переливчатый хрип, Одуэн, решив, что надо оставить его и покое, на цыпочках направился к двери, но Филибер, не открывая глаз, произнес:
– Останься, малыш. А ты, жена, – на кухню. И накрой дверь, мне нужно ему кое-что сказать.
Когда старуха вышла из комнаты, Меслон приоткрыл глаза. Оноре сидел возле кровати и с любопытством ждал. Даже вопросительно вскинув подбородок. Старик некоторое время молчал, и могло показаться, что он забыл о присутствии Оноре… Вдруг он приподнялся на подушке, полыхнул огнем взгляд его широко раскрытых глаз, лицо оживилось и руки пришли в движение, усталые губы напряглись гневом и иронией. Он выговорил резким, на грани срыва голосом:
– Ну вот, похоже, клерикалы начинают гоношиться.
Оноре помолчал немного, прикидывая в уме, уж не дошли ли до Меслона какие-нибудь сведения о маневрах Малоре? Он качнул головой и сказал осторожно:
– Знаете, этих людей с их генералом Буланже не поймешь. За него есть и республиканцы и клерикалы. Я не очень-то разбираюсь в политике, но скажу вам, я им не очень-то доверяю…
Нетерпеливым жестом Филибер прервал его. Сам он рассчитывал на генерала Буланже, дабы тот выполнил работу истинного республиканца, то есть вернул бы Эльзас и Лотарингию, подавил реакцию, освободил Польшу и прогнал бы всех тиранов Европы.
– Мне нужен военный, – сказал он, – и такой военный, который не был бы маркизом. Но я хотел поговорить не об этом. Сейчас есть кое-что более срочное. Оноре, вокруг поста мэра Клакбю ведутся интриги.
– Да ну что вы, Филибер, это вам просто так кажется.
– Кое-кто только и ждет когда я умру, чтобы занять мое место. Так-то вот, клерикалы не дремлют.
– Ведь их же в Совете всего четверо, – возразил Оноре.
– Но они упрямые и опасные. К тому же если бы речь шла только о них…
Одуэн почувствовал, что его опасения имеют под собой вполне реальную почву. Он подумал о доме ветеринара, удобном доме, где было достаточно места и для людей и для скотины; о крепко сколоченном доме с исправными дымоходами, с садом впереди, садом позади и полями вокруг. Он решил не выдавать своего беспокойства, да ведь пока и в самом деле ничего не угрожало.
– Послушай, Филибер, я тоже стал республиканцем не вчера. Я встречаюсь с людьми, разговариваю с ними, не далее как в четверг вечером был в совете. Поверьте мне, глаз у меня наметанный; так вот что я могу вам сказать: не грозит нам пока ничего.
– Боже мой, но ведь и я тоже встречаюсь с людьми. Кюре три раза наведался ко мне на неделе…
– О! Кюре… Стоит кому-нибудь прилечь с насморком, как он уже тут как тут.
От приступа ярости Филибер даже весь затрясся.
– Да, но зачем тогда он все толковал мне о политике? Дух согласия, дух согласия, толковал он, призовите-де ваших друзей к умеренности, и уж я не знаю что еще… Если бы он не был мне нужен, чтобы помочь подохнуть, я бы просто попросил своих парней выставить его за дверь. Ишь, дух согласия… Так что, когда я тебе говорю, что эти люди будут всегда стремиться оседлать нас…
От усталости и гнева у него сорвалось дыхание; грудь его мелко задрожала от одышки, глаза, полные страдания и ужаса, ввалились, мышцы шеи напряглись. Он широко раскрыл рот, вытянул вперед руки и громко захрапел. У Оноре мелькнула мысль, что больной вот-вот умрет у него на руках. Он взял его за запястье и тихо позвал:
– Филибер… ну же! Филибер…
– Нас, оседлать нас… – тоненьким голоском выдавил из себя старик.
Оноре, как веером, стал обмахивать его лицо своей шляпой. Дыхание выравнялось, стянутые судорогой мускулы лица постепенно расслабились. Старик не терял ни секунды:
– Если их раз и навсегда не поставить на место, они так и будут висеть постоянной угрозой…
– Это уж точно, – согласился Оноре.
– Точно, как и то, что Зеф Малоре зарится на мэрию, – сказал Меслон, пристально глядя на Оноре.
– Ну что вы такое говорите, Филибер?
– Только не надо со мной разыгрывать комедию, тебе прекрасно все известно о маневрах Зефа, раз вы вдруг стали такими друзьями.
Провожаемый насмешливым взглядом Филибера Оноре задумчиво сделал несколько шагов по комнате и, садясь, сказал:
– Ну раз вы все знаете, то вы должны знать и то, что плевать я на него хотел, на этого Зефа.
Старик рассмеялся тоненьким, полным оскорбительной иронии смехом:
– Хорошо говоришь. И отец у тебя такой же был: тоже любил поорать, когда, бывало, кто-то ему не угодит, но чуть что, стоило Жюлю увидеть какую-нибудь выгоду для себя, как он тут же готов был лизать задницу.
Оноре не страдал от избытка уважения к своему покойному отцу, которого при жизни презирал; однако теперь, вспоминая его, он отзывался о нем не иначе как с похвалой. Делал он это не ради какого-то обязательного пиетета и не из гордости; просто он смотрел на память о родителях как на приличную мебель, за которой следует ухаживать с должным вниманием. Он собрался было придумать какой-нибудь обидный для Меслона ответ, но старик, переведи дух, опередил его:
– Ко мне тут брат твой заходил сегодня под вечер. Пересказал мне все увещевания кюре, правда, еще более нудно, чем это делает он. Суть такова, что на границей вроде бы надвигаются серьезные события. И чтобы быть к ним готовыми, нужно прежде всего добиться единства внутри страны…
При этом Филибер не удержался от усмешки. Он-то сам считал, что, прежде чем предпринимать что-либо в отношении границ, нужно очистить страну от гангрены, реакции, пожирающей здоровые силы нации.
– Примирение, умеренность, дух согласия. Ну, прямо вылитый кюре. В Клакбю у клерикалов четыре советника, и, чтобы засвидетельствовать свою добрую волю, можно было бы отдать им еще и мэрию. Я узнал, что Зеф Малоре вовсе не является ревностным почитателем кропильницы и что он дружески настроен к республиканцам. Твой брат считает, что трудностей с этим никаких не возникнет – коль скоро ты с ним согласен.
Оноре сначала колебался, стоит ли делать такие признания Филиберу, но потом решился:
– Вам я могу рассказать все – вам ведь здесь не так долго оставаться. Хоть это и не бросалось в глаза, но мы с братом всегда не слишком ладили; вот и сегодня днем опять поругались. Я сказал ему, что буду стоять до последнего против него и против Малоре, и что если он будет защищать этого мерзавца, то я уеду из дома, который, как вам известно, принадлежит Фердинану. Я это пообещал, и я это обещание выполню.
Старик скорчился в кровати, смеясь тихим, отрывистым смехом.
– Я так и знал… Черт побери, Одуэн… мне так тяжело смеяться.
Он перевел дух и уже серьезно добавил:
– А о доме не сокрушайся, просто переезжай к нам, и все. Там, где есть место для двенадцати, найдется и для двадцати. Твои парнишки будут спать вместе с нашими мальчишками, а девчонки – с нашими девчонками. Разумеется, работать ты будешь на нас.
– И все-таки, – сказал Оноре, – я предпочел бы, чтобы все уладилось. Когда люди увидят, что я больше не живу в доме, у меня не будет того влияния, которое мне необходимо, чтобы преградить путь Зефу. Вот если бы вам удалось протянуть еще чуток…
– На меня рассчитывать не надо, – как бы извинился Меслон. – Что ты хочешь, мне здесь уже нечего делать…
– Ну хотя бы месяц. За это время я бы управился.
– Нет, Оноре, не дело ты говоришь. Когда остается жить всего три дня, то и это очень тяжело. И к тому же болезнь не дешево обходится.
– Разницу я вам оплачу; ведь то, что вы съедаете, это же не…
– А еще лекарства, а время, которое на меня тратят.
– Я же сказал вам, что заплачу. Что, вам разве хочется, чтобы мэром Клакбю стал Зеф?
– Ладно: три недели. Это все, что я могу тебе дать.
– Хорошо, но начиная с завтрашнего дня, с полудня.
– Идет, но только мы договорились, что ты платишь аптекарю и еще двадцать пять су за каждый истекший день?
Оноре дал ему честное слово. Старик улыбнулся при мысли, что он все еще неплохо зарабатывает себе на жизнь, потом настроился пожить три недели, начиная с воскресенья, то есть с пополудни следующего дня.
V
Ветеринар сел за письменный стол, взял лист бумаги с напечатанным вверху его именем и, воздев глаза к зеленой кобыле, некоторое время обдумывал снос письмо. Ему хотелось, чтобы оно было одновременно и решительным, и сердечным, и сдержанным, и обворожительным. От мыслительного усилия скулы его порозовели, лоб покрылся морщинами, и он потянул себя за кончики своих чахлых усов. Наконец он обрел в себе уверенность и на едином дыхании написал.
«Мой дорогой Оноре. В начале недели у вороного случились колики, и о том, чтобы запрягать его в ландо, пока что нечего и думать. С другой стороны, рыжий на своем месте только в оглоблях кабриолета; он еще молод, ретив и не приучен экономить силы. Если его запрячь в ландо, он будет тянуть в привычном ему темпе и скоро устанет. Поэтому в воскресенье утром мы доедем на поезде до Вальбюисона, а Менеаль, который у меня в должниках, отвезет нас в Клакбю, а вечером заберет и привезет к поезду, который отправляется в шесть тридцать.
Дети с удовольствием проведут день со своими кузенами, а моей жене будет приятно повидаться с Аделаидой. Семейные встречи – это всегда радостное событие; наш дорогой папочка часто говорил, что доброе согласие между братьями и сестрами стоит помещения капитала в государственные бумаги. В связи с этим я вспоминаю, что в прошлую субботу мы оба слегка погорячились. Я долго размышлял над той горькой историей, которую ты должен был бы рассказать мне пораньше, и у меня возникли кое-какие мысли, которые я не рискую доверить превратностям почты. Так что поговорим обо всем этом в воскресенье на досуге на свежую голову. Однако считаю не лишним уже сейчас предостеречь тебя от опрометчивых шагов, которые, если хорошенько поразмыслить, оправдать можно лишь нежеланием видеть дальше собственного носа. Ибо не станешь же ты отрицать, что во всем этом деле есть две совершенно разные вещи: то есть, с одной стороны, обязанность дать Клакбю мэра, который отвечал бы потребностям момента; а с другой стороны, твоя справедливая обида на З… (ты понимаешь, о ком я говорю). Эта твоя обида является и моей обидой тоже; ты же знаешь, как я чутко реагирую на все, что касается семьи, знаешь, что ради сохранения чести нашего имени я готов принести любую жертву. Однако выше семьи, я бы даже сказал, выше своих политических убеждений я без колебаний ставлю родину. Впрочем, тут я лишь следую примеру и заветам нашего дорогого папочки, который, несмотря на свою многолетнюю любовь к Империи, во имя интересов страны не стал противиться тому, чтобы и в лоне Республики занять свою должность. Память об этом славном уроке патриотизма сейчас актуальна как никогда: ведь не в такой же момент, когда Франция, уже давно лишенная бдительности генерала Буланже в военном министерстве, опять наталкивается на коварные провокации бошей, следует идти на поводу у чувства личной обиды. Не позже чем через два года, а то и в будущем году, как по секрету сообщили мне хорошо осведомленные люди, будет война. Вот почему необходимо, чтобы страна объединилась перед лицом опасности, естественно, в той мере, в какой может иметь место союз с реакционерами. Осуществление подобного альянса, который возможен нынче лишь вокруг имени генерала Буланже, разумеется, требует деликатного подхода. В Клакбю, например, людей, положение и личность которых могли снискать доверие обеих сторон, раз-два и обчелся. У республиканцев я вижу только тебя и Максима Труске. Но ты не хочешь быть мэром, что, кстати, и правильно, так как принимая безоговорочно сторону генерала, чье будущее пока еще неопределенно, ты рисковал бы скомпрометировать имя Одуэнов во всем округе. Что же касается Максима, то считаю его способным стать искусным и самоотверженным мэром, но следует все же принять во внимание, что он не умеет ни читать, ни писать.
Остаются клерикалы, ты их знаешь, большинство из них проявили себя слишком непримиримыми, чтобы рассчитывать на какой-либо кредит доверия у республиканцев. Я знаю только одного, который способен стать связующим звеном. На последних заседаниях Совета можно было видеть, как решительно он стремился примирить обе стороны в дебатах по поводу распределения участков дровяного леса. Я вынужден признать, что человек, которого я имею в виду, – это как раз и есть 3… (ты понимаешь, о ком я говорю). По моему мнению, тот, кто прокладывает ему путь в мэрию, поступает как истинный патриот и верный республиканец.
Вот почему, отнюдь не желая преуменьшать досадных последствий его опрометчивости, я полагаю, что немало следует сказать и о том злопамятном чувстве, в котором мы упорствуем, может быть, оттого, что нам не хватает хладнокровия. То, что этот человек частично несет ответственность за грозившую тебе опасность (явившуюся в какой-то мере следствием и твоей опрометчивости тоже), я с тобой согласен, хотя эффект неожиданности служит смягчающим обстоятельством. Однако так или иначе, это дело касается только вас двоих, и я не хочу в него вмешиваться; разве что, дабы покончить с этим пунктом, позволю себе воззвать к твоему великодушию. Остается рассмотреть то печальное происшествие, случившееся с нашей матушкой, которое, по всей видимости, явилось следствием болтливости 3… Ты поймешь, почему я говорю „по всей видимости“, если согласишься правильно понять ситуацию, в которой находилась наша матушка в момент этого мучительного испытания.
Когда баварский сержант со своим отделением появился из-за поворота дороги и когда перед ним предстал изолированный, почти пустой дом с одинокой, выглядывавшей из окна женщиной, то не логично ли предположить, что именно в этот момент он и принял дурное решение? Ты ведь сам во время нашей последней встречи говорил мне, что баварцы – это скоты, которые поддерживают свою воинственность лишь с помощью убийств, грабежа и особенно насилия. Я ограничусь тем, что напомню тебе про случай с Луизой Беф, подвергшейся нападению сразу одиннадцати этих вахлаков. Так что, похоже, что присутствие ополченца в доме явилось для сержанта всего лишь удобным предлогом; предлогом, который избавлял его от необходимости прибегать к силе и позволял ему вести дело наедине в отсутствие его двенадцати или пятнадцати солдафонов. И я с ужасом думаю о том, какому унижению могла бы подвергнуться наша дорогая матушка, не будь этого предлога. Сделка, конечно, возмутительная, но ведь, в конце концов, она же уступила только одному, причем сержанту, унтер-офицеру. Может быть, этот человек был даже офицером? Кроме того, наша матушка была уже не молода, а когда женщине за пятьдесят, то она переживает некоторые обиды не так остро, как во цвете лет.
Так уж получается, что аргументы возникают в моем сознании с такой неодолимой силой, что я был вынужден отказаться от первоначального намерения: оставить эту деликатную тему до нашей ближайшей встречи. И вот теперь я сомневаюсь, стоит ли мне отправлять это письмо, где я сделал кое-какие выводы, которые, быть может, покажутся тебе несколько поспешными, но которые во время более обстоятельной беседы, я уверен, предстанут перед тобой во всей их обоснованности. Дорогой мой Оноре, Элен и дети присоединяются ко мне, чтобы засвидетельствовать тебе и твоей семье нашу искреннюю любовь. Главное же, прошу тебя не очень распространяться по поводу того, что я сказал тебе о генерале Буланже. Лучше не заходить слишком далеко по пути, который еще не совсем расчищен: даже сам Вальтье и тот вроде бы колеблется. Не забудь, если будешь писать мне, сообщить о том, как идут дела у бедняги Меслона.
С наилучшими пожеланиями
Твой брат Фердинан».
Ветеринар перечитал письмо только один раз. Очарованный удачными переходами и вкрадчивой решительностью своих аргументов, он без лишних колебаний сунул его в конверт, схватил шляпу-котелок и направился к двери. Идя по улице, он все еще продолжал пересказывать в уме отдельные пассажи и радоваться к месту поставленным запятым. Прохожие обращали внимание на его почти улыбающееся лицо и в городе потом два дня ходили слухи, что он получил наследство. Однако, бросив письмо в почтовый ящик, ветеринар тут же подумал о том, какую грозную тайну он только что доверил почте, и под рубашкой у него прокатилась волна ужаса и сожаления. Впрочем, он тут же решил, что это с его стороны не более чем дань малодушию, и взял себя в руки.
Письмо было проштемпелевано после обеда, пропело ночь на сен-маржлонской почте и утром следующего дня выехало на поезде в Вальбюисон, прибыло туда в половине девятого, а в девять уже лежало на почте. Почтовая служащая проштемпелевала его вторично, положила в пакет для писем, и оно поступило во владение клакбюкского почтальона.
В то утро у Деода было пятнадцать писем и три газеты. Он вышел из Вальбюисона, когда еще не пробило десяти, и ему оставалось преодолеть девять километров, отделявших его от Клакбю. Письма были ровным рядком уложены в кожаную сумку, висевшую на перекинутом через плечо ремне, и он шел бодрым шагом, не торопясь, а именно с той скоростью, с какой нужно. Он размышлял о своих письмах, повторяя в уме имена адресатов в том порядке, в каком они будут встречаться ему на пути, причем ни разу не ошибся – доказательство того, что он знал свое ремесло.
У подножия Красного Холма Деода сказал себе: «Вот поднимусь на косогор и можно будет сказать, что я поднялся на косогор». И он засмеялся, потому что это была правда: поднявшись на косогор, можно было действительно утверждать, что он это сделал. Он шел степенно, как и положено степенному, спокойному человеку; разумному человеку, который знает свое дело, хорошему почтальону. Ему было жарко оттого, что солнце сильно припекало, но еще и оттого, что форма его была сшита из хорошей ткани. Так что жаловаться на жару он не собирался. Еще чего.
Деода поднимался по косогору и думал о том, что он работает почтальоном. Это была хорошая должность. Если бы он не заслужил ее, он бы не получил эту должность. Чтобы быть хорошим почтальоном (ведь почтальон почтальону рознь, как во всяком деле), нужно знать, что к чему, но прежде всего нужно уметь ходить. А это не всякому дано, хотя многие думают, что умеют. Ну взять хотя бы такой пример: помчится кто-нибудь сломя голову в Вальбюисон за почтой для Клакбю, и что из этого выйдет? Обратно он еле притащит ноги, и даже если ему удастся разнести все письма, то как он будет выглядеть в глазах людей? Чтобы быть почтальоном, нужно ведь все-таки быть обходительным с адресатами, а человеку, у которого болит нога, не до любезностей. Ну а если кто-то пойдет в Вальбюисон на ватных ногах? Впрочем, нет: все. и перечислить даже невозможно. В то время как главное – это идти степенно, идти так, как ходят степенные люди, и при этом смотреть, куда идешь, чтобы не наступить, чего доброго, на оставленную коровой лепешку. Так ведь никаких башмаков не напасешься, если не будешь глядеть в оба.
Деода дошел до вершины Красного Холма. И громко сказал: «Вот Клакбю». У каждого свои привычки. Он, поднявшись на вершину Красного Холма, говорит: «Вот Клакбю». И Клакбю никогда не обманывает его ожиданий: вот первый дом справа, вот второй дом слева. И он спускается в деревню, размышляя о том, что он работает почтальоном. Это хорошая должность, хорошее ремесло. Можно говорить что угодно про ремесло почтальона, – а по существу говорить-то нечего, – но ремесло это хорошее. Приходится, конечно, ухаживать за формой, но зато у того, кто за ней ухаживает, вид всегда аккуратный. Когда люди встречают на улице почтальона, то они сразу видят, что это почтальон.
Первый дом распахивает свое окно со ставнями и говорит почтальону:
– Ну что, разносишь почту?
– Да, – отвечает Деода, – разношу почту.
Второй дом ничего не говорит. Это потому, что в нем никого нет. Когда наступает очередь третьего дома, Деода подносит руку к своей сумке и, входя во двор, зовет:
– Вдова Домине!
Вдова Домине, должно быть, сейчас в саду. Он мог бы положить письмо на подоконник и прижать его камнем. Но он ждет. Старуха услышала и шаркает своими башмаками в углу дома.
– День тебе добрый, Деода, жарко тебе сейчас разносить почту!
– И вам, Жюстина, добрый день. Копаться в саду сейчас тоже жарко.
После надлежащего обмена любезностями он протягивает ей письмо и произносит своим служебным голосом:
– Вдове Домине.
Старуха недоверчиво посмотрела на письмо и, не думая его брать, похлопала по карманам своего фартука в поисках очков. Однако, когда не умеешь читать, от очков проку не очень много.
– Это от моей Анжелы. Скажи-ка, что она мне пишет.
Деода не чванится и читает ей письмо. Читает и одновременно думает о том, что образование – вещь полезная. Когда он заканчивает чтение, старуха наклоняется к нему и спрашивает:
– Ну так что же она мне там говорит?
Вдова Домине ничего не поняла из письма своей дочери. Когда читают по написанному, то получается все совсем не так, как когда разговаривают. Деода объяснил ей, что Анжела здорова и что ей предлагают место, где она будет зарабатывать девяносто франков в год да еще получит башмаки.
– А заканчивая письмо, она вам говорит: «Дорогая матушка, я думаю, что ваше здоровье улучшилось и что вы продолжаете и дальше так же». Понимаете, это она, чтобы сказать вам любезность, это она советует вам лечиться.
Вдова Домине качает головой. Вот не поверила бы.
А Деода проходит еще километр, чтобы отдать три оставшиеся письма. В Клакбю переписка ведется небольшая, а ему хотелось бы, чтобы писем было много и чтобы было восстановлено справедливое равновесие между затраченным усилием и выполненной работой. Ему хотелось бы иметь по письму на каждый дом. Но раз уж не получается, то тут ничего не поделаешь. В конце концов, он ведь раздает то, что имеет. Не может же он их сам сочинять. Деода идет посреди дороги, идет степенно, как любой достойный человек, знающий, куда он направляется. Если подъедет повозка, то он пойдет по правой стороне. Это если подъедет повозка, или, например, появится стадо, или какая-нибудь процессия. В профессии почтальона нужно быть готовым ко всему. Он шагает между живой изгородью и рощицей из акаций. Тут красиво: роса на изгороди, высокие акации. Но он об этом ничего не знает, ему необязательно думать об этом, Он спокойно идет себе да идет. На плечах у него большая круглая голова, которая служит ему добрую службу в его ремесле. По правде сказать, он не мог бы без нее обходиться именно потому, что он почтальон. И к тому же, если бы у него не было головы, что он делал бы со своей фуражкой?
Не дойдя до поворота, Деода берет правее, потому что слышит шум. Пока еще не ясно, что это такое.
«У меня есть время пописать», – думает он. Когда отшагаешь девять километров, то в этом нет ничего неожиданного, и он не спеша писает. Есть люди, которые писают вслепую, не глядя на то, что они делают. Уважающий себя почтальон так не может: ведь чтобы ты не делал, ты делаешь свое дело. Покончив с этим своим занятием, Деода легонько сгибает ноги в коленях, чтобы не жали штаны, и снова отправляется в путь. Шум усиливается, и, дойдя до поворота, Деода понимает: это ссорятся возвращающиеся из школы дети. Деода узнает их всех, так как знать всех жителей Клакбю – это как раз и есть его профессия. Среди них двое младших Одуэнов: Гюстав и Клотильда, трое Меслонов, Тентен Малоре, Нарсис Рюньон, Алина Дюр и другие. В общей сложности не больше дюжины, а заняли всю дорогу и орут так, что это переходит все пределы разумного.
Спор разгорелся из-за птички, улетевшей за изгородь. Никто не успел разглядеть ее, в том числе и Тентен Малоре, но он стал утверждать, что это жаворонок, причем с таким видом, что вызвал недовольство других. Жюд, старший из Меслонов, спокойно ответил:
– Понимаешь, а мне так показалось, что это был рак.
Естественно, это была всего лишь такая ироничная манера разговаривать: ведь никто никогда не видел, чтобы раки летали. Тентена это рассердило:
– А что же это такое, как не жаворонок?
Гюстав Одуэн заявил, что птичка была синицей, и три Меслона присоединились к его мнению. Тентен Малоре рассмеялся, сказав, что принять эту птичку за синицу можно только если у тебя глаза залиты лошадиной мочой. Жюду не хотелось, чтобы последнее слово оставалось за Тентеном, и он бесстрастно сказал ему:
– Только клерикалу может прийти в голову мысль принять синицу за жаворонка.
Дело сразу приняло совсем иной оборот. Нарсис Рюньон, Алина Дюр, Тентен Малоре, Леон Беф и Нестор Русселье дружно выступили против синицы. Трое Меслонов и двое Одуэнов продолжали настаивать на своем.
Когда Деода поравнялся со спорщиками, про птицу все забыли. И уже обзывали друг друга ябедами или летающей дрянью, освященными лопухами, сукиным отродьем, ублюдками, заячьим дерьмом и стоеросовыми республиканцами. Появление почтальона могло бы утихомирить страсти, но Жюд Меслон взял его в свидетели:
– Вы посмотрите только на этих свиней, которые орут на нас только из-за того, что мы голосуем за Республику!
Деода в недоумении остановился. Он никогда не встревал в политику и ничего в ней не понимал. Однако тут он попытался решить простое уравнение. Коль скоро он подчиняется правительству, то он является почтальоном Республики и, значит, является республиканцем.
– Нужно быть за Республику, – говорит он. – Республиканцы…
Но Тентен не дает ему говорить. Этих республиканцев, сообщает он, на прошлой неделе у него дома свинья принесла сразу целых четырнадцать штук, и, похлопывая себя ниже пояса, предложил почтальону очки собственного изготовления. Деода от неожиданности и справедливого гнева замер с разинутым ртом. Тем временем обмен ругательствами возобновляется. Охваченный внезапным вдохновением, Нестор Русселье заводит песню, и все, кто на стороне жаворонка, подхватывают ее, громко скандируя: