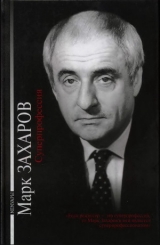
Текст книги "Суперпрофессия"
Автор книги: Марк Захаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Непосредственно во младенчестве прекрасное последствие этого брака, Марию Андреевну Миронову-Градову, я как-то не очень запомнил. Обратил на нее внимание позже, когда она была уже очень худой, ничем не примечательной студенткой. Даже закралась мысль: «Уж не отдохнула ли природа на ребенке столь примечательных родителей?» И даже когда она впервые вышла на сцену Ленкома, я еще терзался некоторыми тайными сомнениями, и только после ее появления в роли Бланш в «Варваре и еретике», а чуть позже в спектакле «Две женщины» с терзаниями простился. Хотя сомнения остались. Они в нашей профессии всегда рядышком, далеко не отпускают. Впрочем, когда я говорю, что на нашей ленкомовской сцене замечательно работает продолжательница знаменитой актерской династии и я очень этим горжусь, – я не вру ни себе, ни людям. Хотя чего-чего, а врать-то режиссеры все умеют. Из того, что я написал, почти всё вранье.
У Марии, Андреевны сильная, подвижная нервная система, выразительная внешность, волевая актерская хватка. Если поворачивается в профиль – похожа на Андрея. Теперь это уже не главное ее достоинство, осталось совсем немного людей, для кого это что-то значит. Я пока в их числе.
Сын Марии Андреевны Андрей в возрасте 4–5 лет фантастическим образом напоминал детские фотографии своего прославленного деда. Интересно, когда его внучка-актриса (будет внучка) засядет за книгу воспоминаний, станут ли ей интересны такие далекие от нее свершения и глупости ее предков? И главное – друзей ее предков. Ибо они-то как раз и специализировались в основном на глупостях.
Уверен что ей, прапраправнучке Андрея Александровича, эго будет любопытно. Для нее, для лапушки, сейчас и пишу, потому что современность я давно опередил. С большими художниками это случается. Ширвиндту с Гориным многого не понять уже с десятой страницы. (Шутка.)
После бракосочетания и торжественного обеда Катя с Андреем отправились в свадебное путешествие в Ленинград (бывший Санкт-Петербург). Нет, в бывший Ленинград, ныне Санкт-Петербург. (Это чтобы прапраправнучка не запуталась в нашем героическом времени.)
Во время привокзальной суеты с распитием шампанского мы с Ширвиндтом незаметно для молодоженов положили в их чемоданы несколько кирпичей и портрет Ленина. Нескрываемую радость нам доставило то, что молодожены с большим трудом втащили чемоданы в купе. Мы с Ширвиндтом не переставали искренне удивляться – зачем брать с собой так много тяжелых вещей?
Андрей потом нам рассказывал, что Кате при вскрытии чемодана уже в купе шутка поправилась не очень. Она даже в нас тогда слегка разочаровалась.
Вторая жена Андрея, Лариса Голубкина, однажды в нас тоже разочаровалась. Причем громко. Почему сейчас сразу пишу о второй жене? Потому что это – мемуарный поток сознания и явной логики здесь просматриваться не может. Скрытой тоже.
Когда происходило бракосочетание Андрея с Ларисой Голубкиной, я как раз вычитал у одного классика, что американские ковбои всегда долго готовились к шуткам в брачную ночь любимого друга. Мы хотя специально не готовились, но довольно большой компанией отправились ночью на автомобиле в сторону дачи, где уединились Андрей с Ларисой.
Сначала мы осторожно изображали ночные привидения, ходящие с воем вокруг дома с погашенными окнами. Поскольку окна не зажглись, звуковую гамму решили разнообразить. «Привидения» стали не только выть, но противно пищать и ухать. Когда пришло физическое утомление без всяких видимых изменений на даче, Ширвиндт проявил огромную, незабываемую на всю оставшуюся мою жизнь изобретательность. Он неслышно влез через окно в спальню и укусил Ларису Ивановну за пятку. Ларисе Ивановне это почему-то страшно не понравилось. Почему – для меня загадка.
Отчасти подуставшие мы собрались у машины, когда уже начало светать.
– Ох, и намучаемся мы с ней! – сказал я искренне.
Все расценили эту фразу, не просто как на редкость остроумную. Ширвиндт вместе с Червинским восприняли ее прежде всего как мудрую и даже провидческую.
Раз из моего потока сознания материализовался Ширвиндт, я просто обязан обозначить его значение и роль в современности Потому что у нас есть такой тост: «Дорогие друзья! Давайте поблагодарим друг друга за то, что мы друг дружке современники!»
Александр Анатольевич Ширвиндт, наверное, все-таки не артист, хотя умеет играть в спектаклях смешно и занятно. Тем более не режиссер. Хотя замечательно ставит в Вахтанговском училище остроумные спектакли со студентами. В театре он, скорее, генератор идей. Когда мы совместно ставили в Театре сатиры веселую комедию М. Дьярфоша «Проснись и пой!», он прежде всего убедил меня подальше отойти от автора и сделать собственную фантазию на тему этой среднестатистической венгерской пьесы. Название «Проснись и пой!» нам подарил Валентин Николаевич Плучек, единственный человек, с которым Шура на «вы». Александр Анатольезич угадал, а может быть, создал жанр нашего совместного творения, притащив в театр молодого композитора Геннадия Гладкова, из которого после «Бременских музыкантов» продолжали фонтанировать исключительно одни шлягеры. Для нашего спектакля он написал несколько бессмертных творений.
Если уж я поставил вопрос радикально: кто такой Ширвиндт? – отвечу, что профессия у него уникальная: он – Ширвиндт. Без всякой иронии скажу, что мне лично не попадалось в жизни, что-либо на него похожее.
В самые цензурно-беспросветные годы, он будучи молодым артистом Театра имени Ленинского комсомола, организовал в Доме актера на улице Горького (теперь Тверская) знаменитый актерский капустник, который существовал много лет с потрясающим успехом. Здесь, а не в театре, он, очевидно, сформировал свой актерский организм с редким комедийным обаянием и особой манерой поведения (точнее – общения). Думаю, что его удачи в театре Эфроса (например, Людовик в «Мольере» Булгакова) питались во многом именно его редкостным «шоуменским» талантом.
В определенных условиях он действует, как гипнотизер, и умеет делать то, чего не умеет делать никто. Недавно в Германии эмигрировавший туда когда-то племянник знаменитого комика Хенкина, выслушав мой монолог о Ширвиндте, сказал:
– Я с этим знаком. Это очень редкая разновидность актерского таланта. Мой дядька был примерно таким же.
Но он же был знаменит именно как артист. Я помню в исполнении Хенкина рассказы Зощенко, так часто звучащие тогда по радио.
– Был, конечно, артистом. Неплохим, смешным. Но его уникальность заключалась в наиредчайшем импровизационном даре. Если было настроение, он доводил хохочущих людей до полуобморочного состояния Особенно если собиралось знакомое или полузнакомое застолье.
Я был свидетелем нескольких, такого рода «сеансов» Ширвиндта и, честно говоря, не очень понимаю, как можно так долго импровизировать и с таким оглушительным эффектом.
Некоторые его случайно брошенные фразы, если запомнить, можно рассказывать потом как анекдоты. На его творческом вечере я имел большой успех, рассказывая, как моя жена у нас дома поставила перед ним банку с зернистой икрой, а он, подцепив вилкой одну икринку, поднес икринку к ее носу и сказал:
– Вот, Нинка, смотри, – твоя пенсия.
Наверное, он ей отомстил за ее идею, предложенную нам с Андреем в те годы, когда Александр Анатольевич постоянно снимался на студии Довженко в мелких эпизодических ролях, которые никто никогда не видел, в том числе он сам.
Мы почему-то очень торжественно провожали его на съемку в Харьков, развлекали известной мелодией Нино Рота, Шурик стоял в тамбуре, не опуская руку в невозмутимо молчаливом приветствии. Исчерпав всевозможные шутки по поводу его украинской кинематографической карьеры, Андрей сказал:
– Эту «Железную маску» ничем не проймешь!
Поскольку Шурик придумал слово «Дрюсик», Андрей всячески внедрял прозвище «Железная маска» в связи с хронической невозмутимостью Ширвиндта практически во всех ситуациях.
Когда поезд тронулся, моя мудрая жена сказала:
– Вот интересно, удивилась бы Железная маска, если бы приехала утром в Харьков, а вы уже там?..
Мы с Андреем сразу же бросились занимать деньги на авиабилеты.
Деньги на исторический перелет ссудил администратор Театра сатиры Громадский, открывший нам дверь, в связи с поздним временем, в трусах.
В диспетчерской аэропорта, несмотря на отсутствие билетов, к Андрею отнеслись с пониманием, его уже стали узнавать после «Бриллиантовой руки», но кто такой я и зачем это меня срочно несет в Харьков, поняли не сразу.
– Это мой пиротехник, – сказал Андрей. – Без него не снимаюсь. Просто боюсь, если его вдруг со мной не будет. Специалист.
– Да, уж, – сказал я фразу, которую мы потом в «Двенадцати стульях» отдали Кисе Воробьянинову.
Почувствовав на себе любопытные взгляды, я, помнится, тихими короткими посвистами изобразил полеты пуль, потом, вздрогнув, серию более громких взрывов. Чтобы не оставалось сомнений – закомплексованный профессионал.
На съемочной площадке мы оказались раньше Ширвиндта. Когда он появился вальяжной походкой, мы приблизились к нему со спины и тихо запели мелодию Нино Роты. «Железная маска» не удивилась, но, подумав, одобрила:
Хорошо, – скромно сказала она.
Потом, через несколько лет призналась:
Когда утром услышал ваши голоса, все-таки подумал про себя страшное: пить надо меньше.
Приятно, что студия Довженко оплатила Андрею Миронову и его пиротехнику участие в съемках массовки. Сохранилась фотография, где мы с Мироновым играем на равных: изображаем провожающий украинский народ в аэропорту.
Театр в лифте и поток подцензурного сознания
Когда у нас возникла мода на постановку спектаклей в репетиционных залах, рабочих комнатах, просто комнатах и коридорах, количество зрителей такого рода экстравагантных зрелищ стало угрожающе уменьшаться – не потому, что не находилось охотников, а наоборот – сокращение пространства вызывало повышенное любопытство, непривычные зрительские ощущения, новую эстетическую заразительность и театроведческий восторг.
Несмотря на то что я уже касался проблемы малого театрального пространства и очень высоко оценил многие работы А. Васильева, – например, его замечательное вокально-пластическое действо «Плач Иеремии», меня по-прежнему тупо раздражало, что многие опытные театральные мыслители ставили знак равенства между спектаклями на большой сцене и в репетиционном зале. Конечно, здесь существует еще одна весьма сложная и деликатная проблема: какое пространство следует относить к нормальной сцене, а какую театральную кубатуру считать не большим, а малым залом.
Вообще проблема границ, как философское понятие, относится к числу самых непростых. Попробуйте точно определить, где именно кончается черный цвет и начинается темно-серый, где окончание одного атома и начало другого. Еще интереснее задуматься: много вам платят денег или опять мало. И где она, та условная черта, после которой можно сказать: денег так много, что зарабатывать их дальше нет смысла? Сколько это, по вашему?
Во всех такого рода загадочных обстоятельствах, вероятно, надо общими силами, коллективным разумом принимать пусть не простые, не бесспорные, но волевые решения. Например, кого считать боксером тяжелого веса, а кого – среднего.
Оценка в театральном искусстве – величина подвижная, вечно ускользающая, зависящая от несметного количества обстоятельств и тончайших нюансов, включая погоду, атмосферное давление, физиологические данные, гипноз того или иного актерского (режиссерского) имени и еще одну тысячу причин. И все-таки о грубо приближенном (коллективном, общественном восприятии того или иного явления в искусстве говорить полезно – хотя бы во имя развития того самого искусства, которое так непросто оценить.
В прежние времена, по которым так тоскует большинство нашего народа, партийные органы власти, разного рода цензурно-редакционные комиссии обоих министерств культуры (союзного и эрэсэфесерного), Главного управления культуры и других руководящих органов только и делали, что собирались по поводу идейно-художественных оценок и, главным образом, по устранению досадных идеологических просчетов, так свойственных наиболее известным деятелям театра. Кого ни возьми – все ошибались, как идейно, так и художественно. И Георгий Товстоногов и Анатолий Эфрос, и Олег Ефремов. А Юрий Любимов вообще только этим и занимался.
При Сталине за художественные ошибки расстреливали, в любимом же народом застойном периоде вместо выстрелов применяли изощренно-карательный, психо-демагогический набор всевозможных мер воздействия – от едва ощутимых укусов до зубодробительных акций. Некоторые «заплечных дел мастера» подвешивали «на дыбу» провинившихся режиссеров, словно бы стесняясь или тайно им сочувствуя. Однако находились мастера вроде Ю. С. Мелентьеза (министр культуры РСФСР), которые получали от своего занятия нескрываемое удовольствие. Если говорить о моем режиссерском поколении, мне все-таки кости целиком переломать не успели, а вот по Леониду Хейфену и Петру Фоменко прошлись основательно, с громким хрустом. В кинематографе жестоко покалечили Михаила Калика за его «Человека, идущего за солнцем» и Александра Аскольдова – постановщика фильма «Комиссар». Впрочем, список приблизительный и может быть продолжен.
Позвоночники обычно ломали без свидетелей, но иногда проводились и специальные «обсуждения» для заботливо-воспитательного воздействия на мастеров сцены. Помимо режиссеров на них приглашали директоров, парторгов, иногда профсоюзных вождей и ведущих актеров. Получался полный драматизма и непредсказуемого сюжетного развития увлекательный спектакль.
При коллективных «выволочках» у каждого уважающего себя художника была своя тактика и манера поведения. Меня в свое время очень вооружил разного рода демагогическими приемами Валентин Николаевич Плучек. При повторных сдачах готового спектакля я обычно ничего существенною не менял, почти все дорогие мне фразы всегда сохранял, и к моим спектаклям цензурный аппарат просто по-человечески привыкал. Даже иногда тайно начинал симпатизировать. (В Ленкоме редкий спектакль не принимался специальной комиссией по три-четыре раза.) Поэтому часто критика в мой адрес начиналась с фразы: «Ну вот, прошлые замечания, конечно, пошли на пользу». «Еще бы, – соглашался я, демонстрируя сыновние чувства, – как не пойти!» – «Многое уже сделано, – кивали мне, – но далеко не все». Я послушно доставал блокнотик, как бы обозначая свое намерение принять с радостью все замечания: все высказанное должно пойти «на пользу» без остатка. «Одному театру, без идеологического руководства, ведь пользу не принести, – как бы соглашался я веем своим видом. – Только вместе с партией, которая ничего не делает другого, как только заботится обо всем, чего ни увидит».
Когда меня укоряли в неумении правильно ставить спектакли, я сначала всегда огрызался, иногда неглупо, уходил из-под удара и стремился, между прочим, в разных инстанциях ссорить между собой цензоров. (Почему в Москве главным режиссерам работать всегда было легче? Начальства больше.)
Когда обрушивались все сразу с остервенением, я, помнится, всегда старался светлеть на глазах, какую бы чушь ни слышал. Скрыть отношение к перлам, которые иногда звучали, было трудно, требовалось волевое усилие.
Утверждая меня главным режиссером на бюро МГК КПСС, член Политбюро В. В. Гришин, например, сказал:
– Ошибок у вас было очень много. Но теперь уж работайте, как говорится, без экспериментов!
Я согласился, что весь вред в театре именно от экспериментов. И если уж работать – то без них.
Юрий Петрович Любимов, которого мне довелось видеть пару раз на такого рода экзекуциях, придерживался иной тактики. Когда только начинался разговор о его очередных идейно-художественных просчетах, он преображался, как-то внутренне воодушевлялся, можно сказать, расцветал на глазах от самого запаха предстоящей борьбы и сразу же наносил серию превентивных, утверждающих ударов по заботливым отцам-цензорам, заодно – и по матерям. Однажды после невинного замечания первого заместителя министра культуры СССР он, круто взметнувшись, как буревестник, радостно напомнил ему и всем присутствующим, как замминистра в бытность свою артистом одного из ведущих московских театров, приклеенный к бороде, дабы изобразить кучера, свалился с козел по причине чрезмерного употребления спиртных напитков. «Что же теперь может мне посоветовать этот бывший пьяный кучер?» – примерно так резюмировал Любимов.
Вообще, Ю. П. Любимов – пример особого мужества, таланта и, я бы сказал, стратегической интуиции. Идти откровенно в лобовую атаку – это, пожалуй, в определенные годы было под силу ему одному. Кроме общепризнанной одаренности за ним стояло особое человеческое, гражданское обаяние, мощная общественная поддержка. Это хорошо чувствовала власть и иногда просто опасалась с ним связываться. Хотя ничего не простила, не забыла и, в конце концов, свела с ним счеты.
Меня, например, размазать по стеклу было много легче. Один из бывших руководителей Главного управления культуры рассказал мне, какому сильнейшему телефонному воздействию подвергался он со стороны известного только номенклатурным деятелям культуры грозного генерала КГБ Абрамова. «Если мы лишили гражданства Любимова, что останавливает нас сделать то же самое по отношению к Захарову?» – примерно так ставил вопрос генерал, курировавший в КГБ искусство.
Думаю, что он неправильно выбрал момент для удара, слишком большая волна недовольства нашей полицейской политикой в отношении культуры уже поднялась на Западе и в США. Генерал припозднился. И потом, я предполагаю, всегда что-то от моей персоны в последний момент отвлекало, возникало что-то более важное, внимание переключалось, одним словом, везло. Первый раз повезло еще с Д. С. Полянским, известным членом Политбюро. У него очень большое раздражение вызвал мой спектакль в Театре сатиры «Темп-1929». Покидая театр, Полянский пообещал Плучеку разобраться с молодой идейно-порочной режиссурой. Но буквально через день-другой Полянский был переброшен на руководство сельским хозяйством, что всегда расценивалось в государстве как публичная казнь. После сельского хозяйства он очень скоро уехал послом в Японию, и, естественно, ему уже было не до спектакля с веселой музыкой Геннадия Гладкова.
Совершенно очевидно, что повезло мне и с «Тилем» Гр. Горина. После сенсационного успеха, сопровождающего этот спектакль, где-то через год, примерно в 1975 году, на «Тиля» занесло родственницу «портрета». («Портретами» Ю. П. Любимов называл членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС). Дама почему-то решила, что спектакль детский, и привела с собой «портретова» внука. В спектакле присутствовала некоторая невинная по тем временам доля фламандского юмора, в одном зарифмованном месте хотя и не произносилось, но подразумевалось слово «жопа», что повергло воспитательницу не просто в ярость, но вызвало в ней желание действовать незамедлительно, на уровне высшего партийного руководства.
Примерно дня через два меня вызвал в Главное управление культуры М. С. Шкодин, руководивший в то время этим грозным учреждением. Шкодин был личностью одиозной, вписавшей свое имя навечно во всемирно-историческую акцию под названием «бульдозерная выставка», когда первые осмелевшие художники выставили свои полотна под открытым небом, как на Монмартре. Так вот, самой организацией прибывших на место бульдозеров, как и вспашкой почвы на месте «бунта», руководил лично Шкодин. До этого он собственноручно сломал несколько декораций в Театре на Таганке, чтобы исправить режиссерские заблуждения Ю. П. Любимова.
Но сейчас я пишу об этом потому, что не устаю удивляться, как на бушевавшем в XX веке фронте идеологических сражений все запутывалось, перемешивалось в какой-то фантасмагорический калейдоскоп, где определить, при всем желании, причинно-следственные связи, не говоря уже об элементарной логике, часто не представлялось возможным. Так, своим назначением в главные режиссеры Театра имени Ленинского комсомола я обязан был прежде всего В. В. Гришину, члену Политбюро, Первому секретарю МГК КПСС, который, как мне потом подробно рассказывали, долго беседовал по вертушке с незабываемой мною Е. А. Фурцевой, тогдашним министром культуры СССР. Фурцева долго и обстоятельно объясняла Гришину, какую роковую ошибку может совершить московская партийная организация, настояв на столь необдуманном назначении, против которого она решительно возражает. Фурцева подробно описала Гришину мой идейно-порочный, отдающий антисоветчиной внутренний облик, так хорошо знакомый ей по засмотренному «Доходному месту». Но, на мое счастье, Гришин не внял добрым советам министерши и единолично назначил меня главным режиссером. Спрашивается: какие чувства я испытываю теперь к В. В. Гришину? Прямо и попросту ответить не могу, нужен психоаналитик. Аналогичная ситуация с М. С. Шкодиным.
Мы кончили театральные школы в один и тот же год, после чего три сезона проработали вместе в Пермском облдрамтеатре, некоторое время жили вместе в пермской гостинице, наши гримерные столики стояли рядом. Естественно, мы много общались и после выступления Хрущева на XX съезде повели даже по пермским масштабам вызывающе смелые разговоры. Практически антисоветские. Я, помнится, сказал, что небоскребы в Нью-Йорке мне нравятся, потому что их много и они все высокие. А Шкодин, помнится, согласился, но добавил при этом еще, что заграничные мужские носки с резиночкой лучше наших. «Кроме носков, говорят, есть еще товары, которые лучше», – это уже сказал я, завершая тревожную тему. После всего этого в 1958 году я уехал из Перми, оставшись при своем мнении, а Миша Шкодин был вскоре вызван в военкомат. Так он мне потом рассказывал в порыве редкой, но отчаянной откровенности. Хотя повестка и пришла как бы из военкомата, на самом деле Мишу сразу же препроводили в районное отделение КГБ, где сказали строго, что нам, дескать, хорошо известны ваши подлые беседы с уехавшим Захаровым, хорошо бы для вашего же счастья их прекратить с кем бы то ни было. Что было дальше, Миша рассказывать не стал, но я постепенно догадался, что вызвавшая ею организация помогла ему перебраться сначала в режиссеры, а потом в Москву на руководящую работу.
Вызвавши меня в главк после «Тиля», засмотренного семьей «портрета», Миша по-дружески, но кисло улыбнулся. Сказал прямо:
– Решение о твоем увольнении принято на самом верху. К нам бумага придет дня через два-три. Знаешь, как мы к тебе относимся, поэтому решили так: тихо, без шума, незаметно переводим тебя режиссером в Театр оперетты. Придет распоряжение – а ты уже на другом месте.
Несмотря на известное огорчение при мысли о «Сильве», я все-таки ответил разумно. Примерно так:
– Спасибо, Миша. Слишком много артистов пришло в театр ради меня, и я не имею права их предавать. Буду ждать официального увольнения.
Спрашивается: почему не пришел приказ об увольнении? Наверное, это наша великая государственная тайна. Что-то кого-то опять куда-то отвлекло. Может быть, кто-то вдруг почему-то раздумал или где-то под ковром на Старой площади случилось такое, какое никому, кроме бывших там, под ковром, не известно. Но ответ может быть и проще: порядка как не было, так и нет.
Мой Миша умел очень сильно хамить как своим непосредственным подчиненным, так и руководителям московских театров. Делал он это с удовольствием и подолгу. Но со мной ею связывали пермские товарищеские отношения, и он им остался верен. Не только вяло укорял за идейные ошибки, но однажды совершил важный для моей последующей режиссерской судьбы поступок. Вызвал как-то в главк и спросил:
– Ты хочешь всю жизнь работать под Плучеком? Или хотел бы сам руководить каким-нибудь театром?
Конечно я ответил, что «хотел бы сам и каким-нибудь театром».
– Мы тут поговорили о тебе, подумали, – сообщил Миша многозначительно. – Возьми лист бумаги и пиши заявление в партию.
Совсем неглупое предложение для 1972 года, хотя в партию меня никогда не тянуло. Не было такого, чтобы проснуться ночью и подумать: «Вот бы в партию!» Но порядок вещей был таков, он всегда казался незыблемым, несмотря на оставленный процент для беспартийных, – получить самостоятельную, интересную, перспективную работу, уклоняясь от марксизма-ленинизма, было почти невозможно. И потом, если честно, никакой персональной ненависти к кому-либо только за то, что он член КПСС, да и к самому марксизму-ленинизму я тогда не испытывал. Мне казалось вполне нормальным, что такие люди, как Юрий Любимов или Булат Окуджава, состояли в партии. Короче, в 1973 году, когда кончился мой кандидатский стаж, я вступил, по рекомендации трех уважаемых людей, в числе которых была Татьяна Ивановна Пельтцер, в ряды КПСС. После вступления я неприлично быстро был вызван в Отдел культуры МГК, где мне было велено прийти в следующий раз в скромном галстуке на заседание бюро, потому что там меня будут утверждать главным режиссером Московского ордена Красного Знамени театра имени Ленинского комсомола.
Вспоминая замечательные по своей конечной непредсказуемости общения с цензурным прессом, хотел бы заметить, что набор средств воздействия на сомнительных художников был много разнообразнее, чем может теперь показаться. Во-первых, не всегда давили прямо, ломая кости, – иногда только надламывали. Кроме кнута широко применялись пряники. Во-вторых, разговор с главным цензором (это было чаще в кино) мог начинаться сперва по-дружески, с глазу на глаз. И вопрос мог стоять не только о здоровье мятежного художника, но даже о его бытовых проблемах, иногда даже как бы сообща обдумывался жилищный вопрос. Были в запасе у опытных идеологических надзирателей и такие меры воздействия, против которых устоять простому человеку было не просто трудно – практически невозможно.
После окончательного приема на «Мосфильме» моего фильма «Обыкновенное чудо», где я уже был вынужден сделать досадные заплатки, меня искренне поздравили со сделанными заплатками и уже пожимали руки, когда один из тогдашних телевизионных руководителей, взяв меня под локоток, вывел из просмотрового зала в коридор для окончательного прощания. Там он сказал:
Как же я все-таки рад за ваше творчество! Причем – искренне.
Я, было, нацелился на обцеловывание, но поклонник моего таланта добавил:
Вот только фразочку у Андрея Миронова «Стареет наш королек» давайте уберем. Лично для меня, по-дружески.
Но ведь ее придумал не я, а сам Шварц! – подавил я спазм в горле.
По дружески, – улыбнулся ласковый друг. – Просьба сугубо личная.
Ну, в общем-то, и не совсем личная. За время съемок, как назло, Брежнев как раз постарел.
С «корольком», плача и стеная, я расстался и потом даже смирился. Во-первых, потому, что вскоре собирался снимать «Того самого Мюнхгаузена» по пьесе Гр. Горина, а во-вторых, потому, что мой телевизионный друг, обладая известным обаянием и сочувствием, после долгих дискуссий, раздумий и мучительных сомнений все-таки оставил столь смущавшую всю редактуру «Мосфильма» песенку Миронова о бабочке, которая крылышками бяк-бяк-бяк-бяк и за которой рванул воробушек.
Чего это воробушек с ней сделал? – спрашивали меня редакторы «Мосфильма», сощурясь.
– Воробушек возжелал дуру-бабочку как бы скушать, – отвечал я со всей доступной мне искренностью.
– Нет, – говорили мне наиболее умные редакторы. – Он от нее другого захотел, поэтому и погнался.
Что вы! – махал я рукой на редактуру. – Тема чисто гастрономическая.
– Сексуальная.
– Гастрономическая.
Конечно, я лукавил, изворачивался, двурушничал, позорно лгал. Песня Андрея Миронова про воробушка была не просто песней – то занималась заря грядущей в России сексуальной революции.
Здесь самое время углубиться в сексуальную революцию на конкретных примерах. А я знаю такие примеры, от которых тираж этой книги резко возрастет. Но, поскольку это поток сознания, а оно, сознание, еще полностью не потеряно, хочу вернуться к тому, с чего начал. К театру в лифте.
Теперь, когда начался то ли беспредел, то ли вольница, то ли демократия, коллективные оценки содеянного в театре стали происходить реже, чем в вышеописанное время. Вопрос о непосредственном устройстве театра в лифте у меня возник как-то на заседании секретариата СТД, когда речь зашла о наиболее интересных спектаклях прошедшего сезона. Все театральные достижения, по мнению многих экспертов, возникали, как правило, только при стечении двадцати или тридцати зрителей. (Немного преувеличиваю – но не слишком.) Подобные раздумья о так называемых малых сценах (чаще комнатах) случались и на разного рода заседаниях жюри, в которых я иногда участвовал излишне часто, как Городулин у А. Н. Островского.
Пишу об этом потому, что убежден: в репетиционном зале осуществляется режиссура иной «весовой категории». Спектакль, разыгранный для пятидесяти пяти зрителей, есть театр иной постановочной ориентации. И судить о нем, оценивать или как-то на него реагировать стоило бы иначе, не так, как оцениваются и воспринимаются спектакли в традиционном театральном пространстве. Пространство само по себе, его объем, конфигурация, эстетическое своеобразие и прочие психологические аспекты, как и конечная сумма энергетического зрительского потенциала, вкладывающаяся при особых специфических условиях из индивидуальных (зрительских) эмоциональных величин, – все это слишком серьезные категории в нашем деле, требующие длительного и углубленного изучения.
На разного рода заседаниях и в работе всевозможных жюри я честно старался, но мне было очень трудно согласиться, что спектакль, вызывающий радость у нескольких сотен зрителей, может быть приравнен к успеху у тридцати или пятидесяти людей, где действие, естественно, разворачивается у них «на носу» и актеры думают, как им не отдавить ноги.
Согласен, что есть много соблазнительных аспектов в режиссерских сочинениях, заключенных в непривычную кубатуру, где по-другому, в ином нервном режиме возникает контакт актера со зрителем (если, конечно, возникает).
Я однажды не поленился и воспользовался приглашением в домашний театр. (Есть и такие театры!) В московской квартире, расположенной в районе Тверского бульвара, для меня и, по-моему, еще одного гостя была специально разыграна какая-то западная пьеса среди небольшого жилого пространства, – натуральной, много лет существующей мебели, занавесок, домашней утвари. Здесь собралось трое или четверо актеров, включая, по-моему, и хозяйку дома. Я не сумел запомнить ни сюжета, ни актеров, но запомнил чувство непривычной зрительской благодарности, что вот так, ради нас двоих, взрослые, серьезные, не слишком молодые люди жертвуют своим временем и с нескрываемым удовольствием творят искусство прямо перед моим носом Я проникся и благодарностью, и редким уважением.








