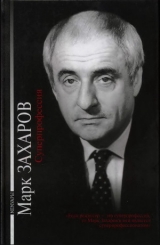
Текст книги "Суперпрофессия"
Автор книги: Марк Захаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
При нашем в целом презрительном отношении к любителю стоит подчеркнуть, что любитель, достигший высокого интеллектуального уровня, обладающий человеческой незаурядностью, может продемонстрировать такие качества, до которых не дотянется иной преуспевающий профессионал. Г. А. Товстоногов, рассуждая о Треплеве – герое чеховской «Чайки», убедительно доказал, что «нигилисты», подобные Треплеву, ниспровергатели общепризнанных норм в искусстве, необходимы обществу даже в том случае, если сами мало что умеют и уступают в профессионализме Тригориным.
Треплевых скопилось в те годы на улице Герцена предостаточно, они часто весьма невнятно играли на сцене, городили что-то неумелое и несуразное в режиссуре и драматургии, но вместе с тем постепенно создавали благодатную почву для интенсивного творческого созидания, для неординарного мышления, для поиска новой театральной истины. Дилетанты с улицы Герцена лучше иных профессионалов чувствовали время и его скрытый затаенный пульс, они лучше других понимали, во имя чего трудятся, что хотят сделать и что делать не хотят ни под каким видом.
Студенческий театр тогда возглавлял замечательный советский кинорежиссер Сергей Иосифович Юткевич, с которым у меня на долгие годы завязалась творческая дружба. Вместе с Юткевичем мы поставили «Карьеру Артуро Уи» Бертольда Брехта – спектакль долго шел на сцене театра, с успехом выезжал за рубеж. Но до брехтовской постановки в моей режиссерской судьбе произошло одно весьма существенное и принципиальное событие – дебют на сцене Студенческого театра со спектаклем по пьесе Евгения Шварца «Дракон».
Трудно сейчас судить, насколько хорош был тот спектакль, поставленный в 1962 году, но он запомнился московским зрителям. На одну из многочисленных генеральных репетиций потянулись авторитетные деятели театра, среди них Олег Ефремов, Валентин Плучек, Назым Хикмет, Афанасий Салынский. Они создали определенное давление, и спектакль был принят строгой цензурной комиссией. Он просуществовал несколько месяцев – до знаменитой выставки «абстракционистов» в московском Манеже и, разумеется, после провозглашения Хрущевым термина «пидарасы» был немедленно запрещен.
Сергей Иосифович Юткевич после Андрея Михайловича Лобанова стал вторым человеком, оказавшим на меня серьезное личное воздействие. Эйзенштейновский «монтаж аттракционов» из малопонятного абстрактного понятия вдруг превратился для меня в практическое руководство к действию. Юткевич необычайно расширил мое представление об эстетической стороне режиссерского дела. Он обладал феноменальным эстетическим «обонянием» и чувством стиля.
На репетициях Юткевича я вообще впервые познал новое для себя чудодейственное ощущение от сценического приема. Я почувствовал радость от того, как уходит, дематериализуется литературный, сюжетносмысловой характер сценической акции и взамен него выступает на первый план эстетически сбалансированное режиссерское построение, а не просто формообразующее начало – оно обретает на наших глазах новый глубинный смысл, становится сердцевиной, основой основ. Режиссерский аттракцион вытесняет поверхностную «литературу», хотя сам в конце концов становится такой же «литературой», но уже на ином, высшем витке своего театрального бытия. На сцене рождается иная художественная ткань, менее осязаемая с точки зрения здравого смысла, но излучающая необходимую порцию таинственного внутреннего света. Истинное искусство обязательно включает в свой расчет человеческое подсознание. Формообразующая работа режиссера – это прежде всего работа со зрительским подсознанием.
Эстетика для меня не стилевой декоративный знак, сегодня эстетика в моем представлении – это сгусток энергии. Думать так и формулировать проблему подобным образом я начал сравнительно недавно, но начало такого ощущения восходит к первым дням нашей совместной работы с С. И. Юткевичем.
Помимо существования в недрах студенческой самодеятельности, которое вывело меня в профессиональнную режиссуру, я, разумеется, пытался еще как-то зарабатывать деньги, потому что в Студенческом театре моя зарплата была чисто символической.
Кроме крайне сомнительных художественных достижений в Московском театре имени Гоголя, я пытался потом, с помощью жены, не слишком удачно актерствовать в Эстрадном театре миниатюр под руководством Владимира Соломоновича Полякова, личности, по-моему, недооцененной в нашей юмористической литературе, эстраде и кинематографе. В своей первой книге «Контакты на разных уровнях» я попытался подробно описать этот уникальный «домашний» театр и свое актерское пребывание там с некоторыми режиссерскими поползновениями. Но ничего примечательного ни в режиссуре, ни в эстрадном лицедействе мне сделать там не удалось разве что поумнеть, что немало. По-моему, я на всю жизнь научился распознавать все градации эстрадного юмора, от притчеобразных высот до самой низкопробной пошлятины.
Может быть, самым главным импульсом, который я получил от Полякова, – было упрямое желание взяться за перо. Под его непосредственным психологическим воздействием я приобрел очень ценный и необходимый режиссеру литературный навык.
Режиссеру не обязательно сочинять оригинальные драматургические произведения, но излагать мысли на бумаге, формируя то, что в кинематографе называется режиссерским сценарием, – крайне желательно. По-моему, необходимо.
Современная режиссура все дальше уходит от старомодно-хрестоматийного воспроизведения на сцене классических или просто приглянувшихся режиссеру драматургических сочинений. Сделать собственную сценическую версию, закономерно опустив некоторые фрагменты драматургической ткани и субъективно деформировав другие в соответствии с собственной фантазией, – дело в высшей степени необходимое. (Вопрос о границах допустимого вмешательства в литературную ткань классического произведения, степени ее режиссерской деформации – вероятно, вопрос культуры и таланта.)
В конце концов, при минимальной, чисто литературной одаренности мне удалось предварительно сочинить на бумаге некоторые мои спектакли. Я никогда не рассматривал написанное мной как набор обязательных словесных или мизансценических построений, но во всех последних театральных работах я, как правило, имел прочный драматургический каркас. Потом при соприкосновении с живой и подвижной индивидуальностью актера и, вообще, с некоторыми факторами музыкального, ритмического свойства очень многое видоизменялось. Вместе с актерами я с удовольствием импровизировал, не стесняясь предлагать даже самые рискованные, нелогичные, казалось бы, акции – из них потом формировалось что-то третье, четвертое, словом, какая-то новая, неизвестная мне прежде сценическая ткань, но я чувствовал при этом себя уверенно – потому что имел «режиссерский скелет», имел достаточно надежные тылы.
Я не говорю сейчас о своих теле– и киноработах. Там, оперируя большими экономическими величинами, всегда приходилось не только писать, но многие идеи схематично зарисовывать.
В последних своих театральных работах, таких, как «Варвар и еретик» по Достоевскому и «Мистификация» Н. Садур по Гоголю, я, может быть, от наглости, а может быть, со страху сочинял отдельные сцены и диалоги. Иногда на помощь приходил Григорий Горин, из которого я по дружбе вытягивал некоторые фразы, усиливая комедийный эффект гам, где он был необходим, но очень часто сочинял сам заранее. Иногда побуждал к такого рода творчеству некоторых артистов. Какое-то комедийное чутье во мне безусловно бродит, единственное, что меня всегда тревожило и настораживало, – не сорваться бы в банальную эстраду или, не дай бог, в юмор стиля КВН.
Вкус у меня не безупречный, я это хорошо знаю и стараюсь потому пропускать все свои веселые находки через строгие фильтры, которые выстраиваю сам и каждый раз.
Вероятно, мое увлечение юмористическими рассказами, которые я стал сочинять, работая в театре Полякова, очень помогло мне. Рассказы писались, публиковались и даже переводились за рубежом, как я это потом часто объяснял, в связи с настоятельной потребностью в дополнительном заработке, но, вероятно, это не совсем так. Я инстинктивно чувствовал, что надо тренировать мозги и сочинять, что-то писать, выдумывать, иногда мучительно, из последних сил, во имя некоторой весьма туманной цели, которую не мог тогда точно определить, но знал, что стараюсь не зря, – сколачиваю профессиональный капитал. Так и оказалось, хотя от своих юмористических рассказов теперь вздрагиваю, даже от самого воспоминания воротит Однако знаю цену «репризе». То есть смешной фразе, иногда одному смешному слову. Некоторыми своими шутками вызываю в зрительном зале Ленкома громовой, дружный хохот тогда, не скрою, радуюсь этому, как когда-то радовался Поляков своим репризам, но и удивляюсь тоже, потому что хватает ума не считать себя писателем. Не с каждым юмористом, выпустившим несколько тонких сборников, такое случается.
В Театре миниатюр долгое время шла моя миниатюра «Кто виноват», за которую года два-три получал авторские отчисления, чем, разумеется, очень гордился. И писать преимущественно глупые рассказы научился в театре Полякова, после того как он познакомил меня с не издававшимися в советское время рассказами Аверченко. Очень проникся к его главному, замечательному герою, от лица которого написано много любимых мной рассказов, думаю, во многом непревзойденных. Характер этот показался мне очень близким и дорогим. Был он наивен, чуть придурковат, но с большими геополитическими претензиями. Чего стоит начало одного из повествований Аверченко: «Проснулся я утром и подумал – а не продать ли мне Россию?»
Смешная глупость мне, наверное, все-таки нравится больше, чем юмор умный и чересчур тонкий. Конечно, делаю вид, что тянусь к формам изысканным, на самом деле любимое место у Горина в «Том самом Мюнхгаузене», когда неожиданно и не вовремя в городе звучит музыка, герцог недоумевает и спрашивает у главнокомандующего, откуда оркестр.
– Ваше величество, – объясняет главнокомандующий, – сначала намечались торжества, потом аресты… Потом решили совместить.
Некоторые недоброжелатели с кривой усмешкой относят меня к последователям «головного» направления в театральной режиссуре. Такое мое принудительное «отнесение» я с негодованием отвергаю: все мои принципиальные, наиболее приличные сценические и кинематографические сочинения рождались и рождаются на основе сугубо внутренних интуитивных побуждений. Рациональный, математический расчет хорош на завершающем этапе творческого свершения. Истинно «сумасшедшую» театральную идею, равно как и удачную мизансцену, с помощью логарифмической линейки не построишь. Стало быть, раз уж неожиданно вторгся в эти необъятные и тревожные области, то, не дожидаясь подходящего композиционного момента, углублюсь в замысловатую вязь нынешних режиссерских исканий.
Сфера эта туманная, с большим налетом опасных субъективных ощущений и даже галлюцинаций. Галлюцинация в искусстве, впрочем, не всегда есть аномалия медицинского привкуса, часто она есть проявление творческого поиска или даже серьезного режиссерского достижения (достаточно вспомнить в этой связи заслуги Ингмара Бергмана и Федерико Феллини). Можно, конечно, сделать вид, что я совершенно свободен от воздействия этих великих режиссеров, но лучше такого вида не делать и постараться прослыть сочинителем честным и объективным. А если так, то следует признать, что Федерико Феллини (вместе с композитором Нино Рота) оказал ошеломляющее воздействие на современное российское театральное и киноискусство, начиная с самых первых пересказов и фантазий на темы великого фильма «8 1/2», в числе которых числится, на мой взгляд, знаменитый в свое время спектакль А. Эфроса по пьесе Э. Радзинского «Снимается кино». При желании можно написать докторскую диссертацию на тему влияния Феллини на сознание российских режиссеров. Не всегда это воздействие было прямым и буквальным, но легендарный Мастер на наших глазах осуществил высокохудожественный и новаторский прорыв в глубины экзистенциализма, бердяевского «самопознания», когда исследование человеческой судьбы строилось не по принципу объективного движения по событийному ряду причинно-следственной цепочки, а в противопоставлении личности субъекта и всех атакующих его эмоций и событий.
В этом смысле мое «Доходное место» А. Н. Островского в Театре сатиры явилось познанием жизни одного единственного героя, погруженного в клоаку враждебной среды. Еще раньше это случилось в спектакле Студенческого театра «Хочу быть честным» по рассказу В. Войновича.
Феллини в жестоком конфликте с окружающей средой сообщал своему герою мучительное движение и мучительное восхождение к истокам собственной человеческой сущности. Об этом писать и фантазировать можно долго, привлекая все новые и новые мотивы иных режиссерских и драматургических построений, замешанных на эмоциональных и подсознательных прозрениях Феллини.
В природе театра есть своеобразное буйство, в нем живут атомы древних вакхических безумств, которым предавались наши предки. Можно жаловаться на дурную наследственность, но генетика упряма, полную независимость от нее мы не обретем и потому попытаемся понять некоторые первоосновы нашего вдохновения утопленные в позднейших напластованиях, скрытые под фундаментальными сооружениями иногда лишь мнимой идейно-художественной значимости.
Определенные точки соприкосновения глубинного театрального эффекта и состояния, когда рассудок словно «выключен», видны даже невооруженным глазом. Можно назвать это магией театра. Можно назвать прекрасной спецификой и даже театральным волшебством. Ясно, что само по себе содержание происходящего на сцене не может привлечь нас после второго, третьего, шестого посещения. Мы же знаем отдельных, «отравленных» театром зрителей, например Сталина, который хаживал на мхатовские «Дни Турбиных» семнадцать раз. Похожих примеров можно привести много.
Завораживающая магия присутствует в музыке, ибо она и есть самое «бессмысленное» искусство. В отдельных видах музыкального сочинительства наркотический эффект присутствует в особо зримых, грубых и сильнодействующих дозах; в каких-то видах музыкального творчества – едва заметен. Но заметен. Присутствует. Звуками африканских тамтамов можно ввести в буйную истерику всю первобытную деревню, а потом, в изнеможении, уложить ее штабелями на землю. Умеют такое проделывать некоторые африканские «режиссеры-постановщики». Но можно почти то же самое проделать и с сегодняшним молодежным зрителем под сводами громадного концертно-спортивного сооружения. Децибелы будут играть тут свою роль, но не они одни. Еще и ритмические построения и эмоциональные оттенки. И не надо думать, что к подобному воздействию расположена только сотканная из недостатков молодежь. Наши деды и прадеды тоже имели сильнодействующее «зелье» – цыганские напевы.
К цыганским ритмам сложилось, в общем, довольно устойчивое отношение: ценим, по-своему уважаем, но знаем, что эта мощная атака на нашу подкорку не обязательно относится к проявлениям высокого искусства. А как быть с камерным скрипичным концертом? Принято говорить о чисто эстетическом, возвышенном эффекте. А мне как раз и кажется, что эстетика становится действенной, а следовательно, в моем представлении, выходит за нулевую отметку, когда обретает она, эстетика, характер энергетического потока.
Вообще, все созидаемое в искусстве связано друг с другом, подчас незримыми волнами взаимовлияний, но есть в нашей театральной истории события, что оставляли долгий и многообразный след в отечественной режиссуре, – таковым, кстати, явился показанный в Москве в шестидесятые годы спектакль Питера Брука «Король Лир». Его прежде всего чисто эстетические запахи основательно пропитали сознание режиссеров-постановщиков. Не стоит от них открещиваться, как не стали это делать основатели МХАТа применительно к собственным впечатлениям от гастролей труппы немецкого герцога Мейнингенского с режиссером Кронеком в конце XIX века.
Как только возникает устойчивый ряд энергетических коммуникаций между сценой и зрительным залом, начинается акт театрального искусства. Ни секундой раньше. Этот поток энергии, преобразующийся в энергообмен, должен вызывать, и довольно скоро, может быть с первой секунды, устойчивое чувство «удовольствия». Его не нужно и невозможно объяснить чисто литературными, идейно-смысловыми достоинствами, они сродни «буйному» и «неотвратимому» дионистическому вдохновению. Иногда такой эффект называется у нас «атмосферой», иногда мы придумываем для него другие расплывчатые термины и снова входим в зону эфемерную, лишь отчасти осязаемую, да и то не всеми.
Если читатель согласился со мной, что музыке присуще подобное «завораживающее начало», стоит пойти дальше и признать, что оно присуще и любому другому искусству.
Зачем об этом думать? Чтобы отдать себе трезвый отчет в том, что искусству один информационный строй, одна «литература» – недостаточны. Существует в нашей практике, увы, крайне вредный соблазн – подменить истинную театральность одной только иллюстративно-информационной вывеской. Впрочем, то же самое относится и к живописи, и к кино…
Возможно, самое интересное и загадочное действие описанного выше эффекта можно ощутить в изобразительном искусстве. Здесь мы уйдем еще глубже, в самые далекие зоны, что устанавливают гипнотическии контакт, скажем, с опускающимся на землю снегом. Кстати, очень важен ритм, при котором возникает акт гипноза. Годится по-настоящему не любой снег, но только снег, опускающийся хлопьями в безветренную погоду. Удовольствие, которое мы испытываем, как все в этом мире, тоже имеет свою вершину и последнюю меру любого качества – смерть.
Гипноз в своем пределе может парализовать нашу волю и отдать нас в объятия смерти. Живая человеческая воля может не устоять перед слишком мощным энергетическим объектом и изменить разуму. В одном нашем театре так погиб человек, не сумев выйти из-под медленно опускающегося железного противопожарного занавеса. Он заметил его движение задолго до рокового мгновения и с точки зрения здравого смысла несколько раз мог спокойно отойти в сторону, но здравый смысл не сработал. Он вообще не всегда срабатывает. В этом тайна человеческого организма, в этом и его ограниченность и безмерное могущество.
Я думаю, что заразительность сценическою акта возрастает по мере усиления гипнотического начала. Но возрастание это не должно быть тем не менее безмерным, безграничным – любое безмерное движение, любой неограниченный «благородной нормой» процесс приведет нас к смерти в той или иной степени, в том или ином смысле. Смерть, увы, располагается, как и в человеческой жизни, по обе стороны живого театра.
Очень часто наши сценические поползновения не выходят за нулевую отметку, несмотря на внешнюю динамику, темпераментные выкрики ведущих артистов и стремительные мизансценические перемещения неистово реагирующей массовки. Та энергия, тот энергетический мост, о котором я так настойчиво толкую, никак не связаны с динамикой самых искрометных, самых якобы неистовых мизансцен. Он, этот поток волшебной живительной энергии, может покинуть нас, когда мы привычно «разгоняем» спектакль до неистовых скоростей; и, напротив, посетить нас, когда на сцене все замирает и «народ безмолвствует».
Многое в нашей профессии вроде бы построено на обмане. Прибор, о котором я мечтаю, еще не изобретен. Нервную температуру зрительного зала никакими объективными способами познать не дано. Энергетический контакт с залом можно искусно смоделировать: притвориться, что я в контакте со зрителем, и все. Можно притвориться? Можно. Притворство в театре? Этим никого не удивишь. Притворяться можно сколько угодно… но обмануть зрителя тем не менее нельзя. Я думаю: невозможно.
Мне рассказали недавно о существовании в прошлом одной изощренной азиатской казни. Вокруг обреченного человека садились кружочком люди с сильной нервной системой, с очень развитой волей и… молча взирали на свою жертву. Через некоторое время жертва начинала испытывать беспокойство, тревогу, волнение, испуг, ужас и так далее… до самой смерти. Смерть наступала в полной тишине. Никто не совершал никаких резких движений, человек уничтожался с помощью мощного коллективного разрушительного потока биологической энергии.
Это фантастическое явление, по моему разумению, на выдумку непохоже. Думаю, что оно лишь одно из подтверждений того, что может при желании совершить «группа единомышленников». Механизм подобного акта, если исключить его разрушительную цель, имеет прямое отношение к современному театру. Познание этого механизма и составляет суть современного актерского, а стало быть, режиссерского поиска. Все мои нынешние театральные раздумья сосредоточены вокруг этой темы, вокруг безграничных возможностей человеческого организма, вокруг поисков устойчивой методологии – системы необходимых тренировочных упражнений и поиска закономерностей при установлении в зрительном зале плотного гипнотического контакта. Для меня это неоспоримая истина.








