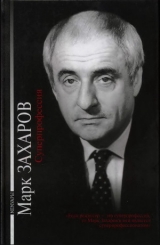
Текст книги "Суперпрофессия"
Автор книги: Марк Захаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
О многих перипетиях, связанных с этим спектаклем, уже подробно рассказывал, пытался поведать и об особом энергетическом излучении Джигарханяна, а вот о его весьма своеобразной трагикомической заразительности, о его откровенно комедийной органике сказать постараюсь именно сейчас.
Я заметил эту его актерскую особенность не сразу, хотя видел не раз Джигарханяна на экране в вихрях эдакого комедийного фейерверка, где он не скрывал своего дурашливого умонастроения пополам с шаржированной пластикой. Я не слишком серьезно относился к его прошлым комедийным опусам, но теперь понимаю, что с их помощью он интенсивно обогащал свой актерский организм, как иногда люблю выражаться, на клеточном уровне.
В период наших репетиций «Города миллионеров» я весьма скоро узрел в его повадках и актерском мышлении нечто чаплинское. Были отдельные репетиции, где мы много спорили, но все же чаще – работали, искали, изучали «неиспользованные ресурсы» его актерского организма. Мне казалось, что иногда он сам с некоторым удивлением обнаруживал в себе что-то, о чем не подозревал ранее. Я не уверен в своей стопроцентной правоте, но юмор Джигарханяна, как чисто внешний, основанный на своеобразной пластике, так и глубоко внутренний, запрятанный глубоко в недра подсознания, был уже внутренне сформирован. Мне оставалось только давать осторожные советы и иногда настаивать на некоторых мизансценах. Впрочем, очень многое придумал он сам, ибо, как и Чурикова, этот артист обладает поразительным импровизационным даром.
Я запомнил одну из репетиций и один из первых спектаклей, когда испытал своеобразное потрясение, то есть увиден на сцене то, чего никогда прежде не видел Я имею в виду сцену с тремя усыновляемыми ребятами во втором акте. Дон Доминико в исполнении Джигарханяна так волновался, точнее боролся с волнением, впервые близко общаясь с неизвестными ему подростками, так старался им понравиться и одновременно определить, кто из троих его сын, что актерский организм Армена совершал на моих глазах серию акций из разряда «высшего актерского пилотажа». Его волнение гипнотизировало, подвергало в хохот и озадачивало. Вероятно, к сложным нервным процессам присоединялись еще какие-то очень тонкие, но вместе с тем все-таки ощутимые механизмы особого психологического воздействия. Я имею в виду излучаемую Арменом «психическую энергию». Беру это не слишком достоверное в академическом плане понятие в кавычки, ибо это из терминологии Н. Рериха. Что такое чисто нервная заразительность мы в общих чертах понимаем, но что такое по Н. Рериху «психическая энергия» – четко сформулировать пока не умеем.
Как всегда, гуляют во мне некоторые утопические идеи. Размышляю о появлении в наступающем тысячелетии особого прибора, подобии детектора лжи, где можно было бы за счет датчиков установить сверхплотною обратную связь исключительно для совершенствования актерского мастерства, точнее некоторых его составляющих. О каких-то похожих методологиях в современной медицине я уже где-то читал, но вот о приборе для тренировки плохо изученных и вообще проблематичных возможностей человека пока можно только мечтать. Находясь с таким прибором в плотном визуальном контакте, полагаю, любой человек может научиться видоизменять частоту сердцебиения или величину артериального давления. Но вот пойти дальше и глубже, в те сферы, куда заглядывают только некоторые виртуозы, занимающиеся аутотренингом в его самых высших проявлениях, – здесь необозримое и загадочное поле для самых смелых фантазий.
Джигарханян мои путанные размышления о подключении к делу «психической энергии» полностью разделил, привел интересные примеры из собственной сценической практики, согласился, что его подобного рода загадочные психические механизмы посещают нестабильно, от случая к случаю. Он признался, что надежно управлять такого рода процессами на каждом спектакле не в состоянии… Словом, подарил истинное творческое единомыслие и даже никак не расстроил, потому что я все-таки не однажды наблюдал это чудо. Я его зафиксировал в своей режиссерской памяти и отнес к самым ценным подаркам, полученным мною когда-либо от любимого артиста.
Еще одно важное обстоятельство сделало нашу работу над «Городом миллионеров» явлением неслучайным, очень повысило мою личную заинтересованность в этом театральном проекте, прибавило режиссерского упрямства и даже, возможно, вдохновения. Оно, вероятно, подтолкнуло нас к идее резкого уменьшения возраста сыновей Филумены. У Эдуардо Де Фслиппо сыновья Филумены – взрослые люди, один даже имеет собственную семью и детей. Мне и Роману Самгину показалось, что важность усыновления, иными словами – обретения законной и полноценной семьи, имеет далеко не одинаковую значимость для двадцатилетнего и двенадцатилетнего человека. Отчий дом крайне необходим именно в детстве, поэтому на нашей сцене появились подростки, сверстники тех, кого мы так часто теперь встречаем на улицах Москвы: торгующих между автомобилями пачками газет, книгами, цветами, подозрительно мелькающих на вокзалах и подземных переходах.
На первых порах московские школьники, которых мы пригласили в спектакль, чувствовали себя скованно и не всегда умели совладать с волнением – все-таки их партнерами оказались Чурикова и Джигарханян. Та естественность и органика, которых, как мне показалось, мы добились на последних репетициях, вдруг стали у наших молодых друзей ускользать, и замаячил дилетантский звуковой привкус. Но, надо отдать должное ребятам и, конечно, Самгину, который вложил в них изрядную порцию режиссерской и педагогической воли, – через два-три спектакля наши юные артисты обрели уверенность и столь дорогой для этого спектакля режим естественного, правдивого существования пополам с той наивной мальчишеской искренностью, которая при определенных обстоятельствах свойственна детям.
С появлением на сцене Ленкома подростков-непрофессионалов для меня связан еще один пласт режиссерского замысла. Во имя чего в конечном счете мы ставили этот спектакль?.. Я уже признавался, что решающим в данном случае, как, впрочем, и во многих других, являлось желание занять ведущих артистов в таких ролях, где они могли бы наиболее эффектно продемонстрировать свою уникальность и, главное, некоторые новые нюансы из числа неиспользованных прежде особенностей их актерского естества. Очень важное обстоятельство – жанр пьесы, где комедийные построения тесно переплетались с мелодраматическими мотивами высокого качества. У драматурга было то, что издавна так дорого ценилось в русском театре, – было где вдоволь посмеяться и поплакать. Не я один заметил, что зритель готов расплакаться лишь в том случае, если до этого он много смеялся. А стало быть, сознательно или бессознательно, полюбил тех людей, что доставили ему эту радость. Был также повод для неожиданного погружения в новую для ленкомовского зрителя сценографическую стихию «неоконформизма». И было, конечно, еще то, что, хочу я того или нет, всегда присутствует в спектаклях нашего театра, – некая политическая подоплека. В отдельные подцензурные годы эта связь театрального сочинения и общественно-политической ситуации в стране доходила до степеней острой публицистической атаки, но часто режиссерская политизированность обретала и ненавязчивый, деликатный характер, почти исчезая, прячась в недрах актерского бытия, (когда режиссерские акценты перемещались в самые потаенные сферы «жизни человеческого духа». В «Трех девушках в голубом» Л. Пегрушевской, спектакле, который в течение четырех лет запрещался цензурой, отсутствовали какие-либо намеки на публицистический или сатирический пафос. И все-таки этот пафос существовал, разумеется в ином эстетическом, психологическом ракурсе, и цензурный аппарат, который не всегда был глупым, справедливо чувствовал это. Мы рассказывали о нашей жизни нечто такое, что предписано было тщательно скрывать.
Существовала ли некая политическая подоплека в режиссерском замысле «Города миллионеров»? В моем, быть может несколько наивном и субъективном, восприятии – безусловно. Появление полубеспризорных сыновей Филумены в возрасте 12–15 лет для меня и Романа Самгина – не простая прихоть людей, желающих во что бы то ни стало пересказать пьесу знаменитого драматурга своими словами. Лично мне показалось, что здесь мы прикоснулись весьма осторожно и ненавязчиво к проблеме, которая почти не имела в нашей театральной традиции ярких сценических воплощений. Посему придется сейчас употребить чужой заграничный термин – «семейные ценности». К моему стыду, долгие годы это словосочетание вызывало во мне плохо маскируемую скуку. То есть, заслышав или прочитав о значении для человечества так называемых семейных ценностей, я, конечно, понимающе кивал головой, однако, всегда эти ценности ассоциировались у меня со скучной школьной нотацией. Все-таки вести себя в жизни так, как тебе вздумается, представлялось мне делом справедливым и естественным Тут, как у Е. Шварца в «Обыкновенном чуде», можно многое свалить на дурную наследственность, на деформацию мозгов идеологией тоталитарного государства, где семейная «ячейка» не могла даже мечтать о сравнении – по своей ибщечеловеческой значимости – с государственным «ульем».
Однако за последние годы в стране и в отдельно взятых мозгах, в частности в моих собственных, произошли резкие и необратимые изменения. Мы получили возможность узнать многое из того, о чем прежде знать не могли и даже в массе своей не мечтали. Правильнее – не задумывались. Государство, подаренное нам политическими экстремистами криминально-большевистского розлива, оказалось не просто в своей основе ущербным, но оно прямо на наших глазах удручающим образом продолжило усиливать это свойственную ему изначальную ущербность, медленно расползаясь и разваливаясь
Сравнительно недавно я узнал, что в нашей стране сейчас свыше четырех миллионов «выброшенных» детей. Как правило, в самом прямом смысле этого слова. Мы имеем несколько миллионов беспризорников при живых родителях. Самой страшной для меня новостью в последние годы была информация об отсутствии в развитых странах детских домов. Если, допустим, в Швеции ребенок остается без родителей, то всегда находится множество его соотечественников, готовых принять этого ребенка в семью. Отсутствие в цивилизованных странах детских домов, с моей точки зрения, – жесткий удар по чести и достоинству российского государства. К сожалению, эта страшная проблема, хотя и связанная в какой-то степени с экономикой, – отнюдь не экономическая. Похоже, она имеет прямое отношение к отрицательной динамике российского этноса. Л. Н. Гумилев, ученый, посвятивший жизнь изучению этногенеза, оставил для нас, современных россиян, малоприятные формулы: «…В процессе освоения ландшафта общность (этнос. – М.З.) формирует новый уникальный «стереотип поведения». Это понятие, включая в себя особый способ деятельности, отношения к миру, характеризует этнос как носителя определенного культурного типа».
Из всех сложнейших экономических ситуаций, включая, допустим, голод и полнейшую послевоенную разруху в Германии, существуют теоретические и практические, математически обоснованные схемы выхода и экономического выздоровления. Бесспорно, существуют такие схемы и для российской экономики. Но какие математические рецепты могут существовать для людей, выбрасывающих своих детей на улицу, иногда прямо из родильного дома – сказать наша наука пока не в состоянии. В связи с чем и залетают в голову помимо воли подлые мысли о глубинном распаде нашего этноса.
Меньше всего я хотел бы в заключение повторить уже хорошо известные всем постулаты о бережном отношении к культуре – как в ее материальном, так и в смысле тех ценностей, что лежат в сфере самого духа нации, ее ментальности. Здесь все без исключения всегда кивают головами, соглашаясь с важностью культурных институтов, хотя и не понимают до конца, что культура сама по себе не есть система украшений, эдаких инкрустаций на экономически прочном теле государства. Культура, увы, нечто большее, слишком плотно связанное с тенденциями исторического развития народа, в данном случае зримой его деградации, в том числе демографической. Остается молить Бога, чтобы толпы все умножающихся «лишних» людей в России, включая младенцев и подростков, оказались бы порождением ограниченного во времени исторического кризиса, чтобы пагубные тенденции в нашем культурном самосознании оказались бы трещинами, а не смертельными «тектоническими» сдвигами.
Этот очередной поток сознания я бы хотел превратить в заключительный. Христианскому мышлению свойственна тяга к покаянию. Я не могу отнести себя к людям безупречного христианского мировосприятия; слишком поздно крестился, остро ощущаю личностные пробелы в духовной и ритуальной системе основополагающих православных ценностей. Но посмотреть на свои писания с одной только иронией, но и с ядовитым сарказмом – невообразимо тянет. Откуда это из меня выскочило; «суперпрофессия»? То, что «супер» – эрзац и полусленг, стало ясно уже в середине написанного. Вероятно, эта лексическая химера вырвалась у меня от подмены красивого красивостью. Честно говоря, не очень этого от себя и ожидал, потому что ненавижу и вздрагиваю от многих сомнительных словесных новообразований. «Прикольная, крутая тусовка» для моего языка вещь невозможная, хотя бы потому, что слово «тусовка» почерпнуто культурным слоем нашего общества из лексикона проституток. Это мне объяснил хорошо осведомленный ученый-филолог. Но очень хочется иногда прыгнуть выше головы. Нахлынувшие на тебя чувства легко перерастают не в гордость за профессию, но – гордыню. (Кстати, распространенное профессиональное заболевание.) Вероятно, где-то в недрах подсознания возникло желание подменить высокое профессиональное самоутверждение, к которому обязан тянуться любой режиссер, плакатным «слоганом».
А если копнуть глубже и больнее – может быть, это еретический суррогат некоторых подспудных религиозных поползновений? Впрочем, изображать из себя раскаявшегося грешника не хочу. Таковым себя не считаю. Не потому, что безгрешен, а потому, что серьезных грехов за собой не числю. Хотя еще надо подумать хорошенько, где она, та самая граница, что отделяет грехи несерьезные от серьезных.
Наверное, очень хотелось красиво определить подаренное мне судьбой земное предназначение. А оно все-таки, по-трезвому размышлению, лежит за пределами театра, и режиссерские экзерсисы не есть мерило человеческой силы и глубины. Категории эти лежат ближе к той, пусть несколько анекдотической системе человеческих взаимоотношений, которых коснулся итальянский драматург Эдуардо Де Филиппо, затронув сквозь смех и слезы высшее предназначение человека, не отягощенного мессианскими комплексами всемирного или сугубо профессионального преобразования. «Дети есть дети», – говорит и снова повторяет в нашем спектакле Филумена Мартурано. А как можно сказать лучше, даже в том случае, если это не твои собственные дети, но дети нашей общей Земли – маленькой и хрупкой планеты? Вот такой финальный поток созна… принципиально не хочу заканчивать, потому что тешу себя надежной на продолжение и мыслей, и профессиональных мечтаний. Тем, кто все-таки добрался до этой фразы, спасибо за долготерпение.
Иллюстрации








































