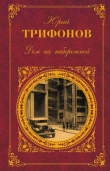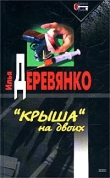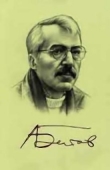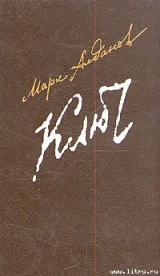
Текст книги "Ключ"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
XXIV
Искры рвались за пролетом вокзала, прорезывая клубы дыма, черные у отверстия труб, понемногу светлевшие повыше. Из-под вагонов поезда с непрерывным свистом выходил белый пар и редел, обволакивая вагоны. Пахло железнодорожной гарью. По лоснящемуся черной слякотью перрону пробегали нервные пассажиры. Господин с большой коробкой в руке догонял артельщика, быстро катившего двухколесную тележку. Две дамы растерянно обнялись перед отворенной дверью вагона второго класса. Слышались отчаянные свистки. По соседнему пути локомотив медленно надвигался задним ходом на сверкавший огнями вокзал. Человек с лопатой в руках работал на полотне, повернувшись к поезду спиною. Мальчик из окна с радостным ужасом смотрел на полотно. По крайнему перрону угрюмо, не в ногу шли солдаты.
Федосьев, опираясь на палку, оглядываясь по сторонам, вышел с портфелем в руке и направился вперед, к вагону первого класса. Шедший навстречу человек в пальто с каракулевым воротником поравнялся с Федосьевым и, не глядя на него, сказал вполголоса:
– В первом вагоне за машиной.
Федосьев дошел до конца поезда и поднялся на площадку вагона, уютно светившегося тусклыми желтоватыми огоньками. В коридоре он столкнулся с Брауном.
– Александр Михайлович? Приятный сюрприз, – сказал удивленным тоном Федосьев, здороваясь. – Тоже в Царское?
– Нет, я в Павловск.
– Значит, до Царского вместе… Вы в этом купе? Разрешите и мне сесть здесь, благо никого нет.
– Сделайте одолжение… Я думал, вам полагается отдельное купе или даже отдельный вагон?
– Ну, вот еще. Я никому на вокзале и не говорил, что еду… Вам все равно – спиной к локомотиву? – спросил Федосьев, кладя портфель на диван и садясь. – Так вы в Павловск?
– Да, я туда езжу по понедельникам и четвергам. Одно из наших учреждений по изготовлению противогазов помещается в Павловске.
– Вот ведь какая приятная встреча, – повторил Федосьев. – А я звонил в «Палас», да вас дома не было… Мне особенно интересно побеседовать с человеком, прибывшим недавно из Европы. Вы курите? – спросил он, вынимая портсигар. – Я без папиросы не могу прожить часа… Так как же вы к нам изволили проехать? Через Англию и скандинавские страны?
– Да, на Ньюкестль-Берген.
– Значит, всякие видали государства, и воюющие, и нейтральные. Верно, и в Стокгольме задержались?
– Несколько дней.
– Стокгольм да еще Лозанна теперь интереснейшие города: гнезда всех агентур и контрагентур мира.
– Я недавно побывал и в Лозанне.
– Так-с?.. Да, вы могли многое видеть… Ну что, как там, у наших доблестных союзников?.. Заметьте, – вставил он с улыбкой, – у нас теперь ироническое обозначение «наши доблестные союзники» стало почти обязательным. Казалось бы, почему? Ведь они и в самом деле доблестные?
– Да, у нас, кажется, не дают себе отчета в их жертвах, особенно в жертвах Франции.
– Именно. А может, тут природная русская насмешливость над всякой официальной словесностью. Ведь вовсе не французы, а мы самый насмешливый в мире народ… «Над чем смеемся?..» Хоть и правда, со стороны не совсем это понятно. Подумайте, ведь у них на. западном фронте вся французская армия, вся английская, вся бельгийская, да еще разные вспомогательные войска, канадские, австралийские, индусские, алжирские – и все это против половины германской армии. А мы одни, и против нас другая половина немцев, да три четверти австрийской армии, да еще турки. Может быть, если на дивизии считать, это и не совсем так. Хоть верно почти так и на дивизии. Но публика судит без цифр. Отсюда и пошло: «доблестные союзники», «дом паромщика» и все такое.
– Зато у союзников дела лучше, чем у нас. У них фронт крепкий.
– Да, да, конечно… Хоть и не такие уж у них блестящие дела. Да и снарядов, и аэропланов у союзников не то что у нас, как кот наплакал. У них могучая промышленность, флот, американская база, а у нас ничего…
Послышались звонки, свисток кондуктора. Поезд покачнулся, вокзал медленно поплыл назад.
– И живем, однако, – сказал, устало глядя в окно, Браун.
– Дивны дела твои, Господи, живем! Вот только долго ли проживем?
– Вы думаете, недолго?
– Увы, не я один думаю, все мы смутно чувствуем, что дело плохо. И заметьте, большинство очень радо: грациозно этак, на цыпочках в пропасть и спрыгнуть.
– Мне все-таки несколько странно это слышать от представителя власти.
– Я, Александр Михайлович, не так уж типичен для представителя власти. Разумею нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть, – сказал Федосьев, ускоряя речь в темп ускоряющемуся ходу поезда.
– Вот как: «с позволения сказать»?
– Да, вот как. Такого правительства даже у нас никогда не бывало. Истинным чудом еще и держимся. Кто это, Тютчев, кажется, сказал, что функции русского Бога отнюдь не синекура?.. Впрочем, что ж говорить о нашем правительстве, – сказал он, нахмурившись. – О нем нет двух мнений. А я от нашей левой общественности тем, главным образом, и отличаюсь, что и в нее нисколько не верю. У нас, Александр Михайлович, военные по настроению чужды милитаризму, юристы явно не в ладах с законом, буржуазия не верит в свое право собственности, судьи не убеждены в моральной справедливости наказания… Эх, да что говорить! – махнул рукой Федосьев. – Расползается русское государство, все мы это чувствуем.
– Я, признаться, не замечал, чтобы все это чувствовали в Петербурге. Напротив…
– Я говорю о людях умных и осведомленных. Ум, конечно, от Бога, а вот осведомленности у людей моей профессии, конечно, больше, чем у кого бы то ни было. Нам все виднее, чем другим, и многое мы такое знаем, Александр Михайлович, или хоть подозреваем, – вставил он, – о чем другие люди не имеют понятия. Те же, которые понятие имеют, те не догадываются, что мы это знаем…
Оба вздрогнули и быстро оглянулись в окно – по соседнему пути со страшной силой пронесся встречный поезд. Прошло несколько мгновений, рев и свист оборвались. Сверкнули огни, телеграфная проволока быстро поднялась и, подхваченная столбом, полетела вниз. Впереди простонал свисток.
– Да, многое мы видим и знаем, – повторил Федосьев.
– Жаль, однако, что ваше ведомство не дает более наглядных доказательств своей проницательности, – сказал Браун.
Федосьев посмотрел на него и усмехнулся.
– Дадим, дадим.
– Истории оставите?
– Истории мы уже оставили.
– Это что же, если не секрет?
– Теперь, пожалуй, больше не секрет. Я разумею записку, года три тому назад, поданную нашим человеком «в сферы», как пишут левые газеты. Вы, верно, о ней слышали: записка Петра Николаевича Дурново. Не слыхали? Об этой записке начинают говорить, и не мудрено. В ней, Александр Михайлович, все предсказано, решительно все, что случилось в последние годы. Предсказана война, предсказана с мельчайшею точностью конфигурация держав: с одной стороны, говорит, будут Германия, Австрия, Турция, Болгария, с другой – Англия, Россия, Франция, Италия, Сербия, Япония. Он еще, правда, указывает Соединенные Штаты, пока в войну не вмешавшиеся. Предсказан ход войны, его отражение у нас, тоже совершенно точно. А кончится все, по его словам, революцией и в России, и в Германии, причем русская революция, говорит Петр Николаевич, неизбежно примет характер социалистической: Государственная дума, умеренная оппозиция, либеральные партии будут сметены и начнется небывалая анархия, результат которой предугадать невозможно… Вот так, Александр Михайлович, предсказывает человек! Насчет войны сбылось. Вдруг сбудется также о революции, и будем мы вздыхать по плохому государству, оставшись вовсе без государства. Плохое как-никак просуществовало столетия.
– Это всегда говорят в таких случаях. Довод, извините меня, не из самых сильных.
– Будто? По-моему, в политике только одно и нужно для престижа: продержаться возможно дольше… На этом пролете, Александр Михайлович, между Петербургом и Царским, два века делается история. Не скажу, конечно, чтоб она делалась очень хорошо. Но ведь еще как ее будут делать революционеры? Я, слава Богу, личный состав революции знаю: есть снобы, есть мазохисты, преобладают несмышленыши.
– А то, вероятно, есть и убежденные люди?
– Да, есть, конечно, и такие. Родились, можно сказать, старыми революционерами. Немало и чистых карьеристов: революция – недурная карьера, разумеется, революция осторожная. В среднем, немного опаснее ремесло, чем, например, военная служба, зато насколько же и выгоднее, ведь повышение идет куда быстрее. Вы, например, с молодым князем Горенским не знакомы? Его все знают…
– Да, я с ним встречался.
– Значит, незачем вам доказывать, что это далеко не орел. А какую карьеру сделал! Его общественное положение: левый князь. Ведь, не будь он левым, быть бы ему секретарем миссии где-нибудь в Копенгагене или корнетом в гвардейском полку. А теперь всероссийская величина!
– Тогда мне не совсем ясно, отчего вы опасаетесь революции. Что ж такой мелкоты бояться?
– Да ведь с обеих сторон мелкота! – с силой в голосе сказал Федосьев. – Мне бы, пока не поздно, дали всю власть для последней схватки, я не очень боялся бы, уж вы мне поверьте!
Он раздраженно сунул папиросу в углубление под стеклом окна и тотчас закурил другую. Браун с любопытством на него смотрел. Синий огонек спички пожелтел и расширился, осветив бледное лицо Федосьева.
– Я, Александр Михайлович, своей среды не идеализирую, слишком хорошо ее для этого знаю. Но многое нам как будто и вправду виднее. Вы, верно, больше моего читали, много ли вы знаете в истории таких предсказаний? Согласитесь, это странно, Александр Михайлович: умные люди, ученые люди думали о том, куда идет мир; думали и философы, и политики, и писатели, и поэты, правда? И все «провидцы» попадали пальцем в небо. А вот не ученый человек, не мыслитель и не поэт, скажем кратко, русский полицейский деятель все предсказал как по-писаному. Согласитесь, это странно: в мире слепых, кривых, близоруких, дальнозорких один оказался зрячий – простой Русский охранитель.
– Да не миф ли эта записка?
– Нет, Александр Михайлович, не миф, когда-нибудь прочтете. Я вдобавок и сам не раз то же слышал от Петра Николаевича… Знал я его недурно, если кто-либо его вообще знал… Немного он мне напоминает того таинственного насмешливого провинциала, от имени которого Достоевский любил вести рассказ в своих романах. Но умница он необыкновенный. Как и ваш покорный слуга, он имеет репутацию крайнего реакционера и заслуживал ее, быть может, больше, чем ваш покорный слуга. Однако в частных разговорах он не скрывал, что видит единственное спасение для России в английских государственных порядках. Хорошо?
– Недурно, в самом деле. Только тогда опять-таки я не совсем понимаю: какой же он зрячий в мире слепых? Ведь слепые именно это и говорят, правда, не в частных беседах, а публично, за что зрячие иногда сажают их в тюрьму… Со всем тем, не спорю, вещь удивительная. Вождь реакционеров – в душе сторонник английского конституционного строя! Правду говорят, что Россия – страна неограниченных возможностей.
– Да, правду говорят… Я, Александр Михайлович, иногда себя спрашиваю: возможен ли в России социалистический или анархический строй? И по совести должен ответить: возможен, очень возможен. А то думаю другое: возможно ли в России восстановление крепостного права? И тоже вынужден честно ответить: отчего бы и нет, вполне возможно… Не все ли равно, какие домики строить из песка? У нас ведь все парадоксы. Мы и гибнем, если хотите, из-за парадокса… То, что сейчас политически необходимо, психологически совершенно невозможно – мир с Германией, – сказал Федосьев поспешно, точно не желая дать собеседнику возможность вставить слово. – А лагерь нашей интеллигенции весь живет в обмане, хуже, в самообмане, Александр Михайлович. У нас очень немногие твердо и точно знают, чего именно они хотят. Может быть, Константинополя и проливов, а может, социалистической республики? Или социалистической республики, но с Константинополем и с проливами? Каюсь, я не очень высоко ставлю нашу интеллигенцию. Могу о ней говорить правду: я сам русский интеллигент. Учился в русской гимназий, в русском университете, читал в свое время те же книги, которые все читали. Паскаля не читал, а Николая-она[27]27
Николай-он – псевдоним Н. Ф. Даниельсона (1844—1918) писателя-экономиста, переводчика и популяризатора «Капитала» К. Маркса.
[Закрыть] читал… Вы смеетесь? Не верите, что читал? Даю вам слово, выписки делал.
– Вполне верю. Но ведь русская интеллигенция никогда не возбраняла читать и Паскаля. Если кто возбранял что бы то ни было читать, то никак не она.
– Это, конечно, правильно, но очередь на книги устанавливала не власть, а именно интеллигенция. Паскаль или, например, Шопенгауэр в мое университетское время значились в третьей очереди, если вообще где-либо значились. А вот Николай-он (его теперь и по фамилии никто не помнит) или позже какой-нибудь Плеханов, тех читать было так же обязательно, как, скажем, в известном возрасте познать любовь. Мы расшибали лбы, молясь на Николая-она!
– Не сами же все-таки расшибали? Может быть, вам кто-нибудь расшибал?
– Да, может быть, – рассеянно повторил Федоеьев, теребя меховую шапку, лежавшую у него на коленях. – Может быть… Все было бы еще сносно, если б Николай-он-то хоть был настоящий. Боюсь, однако, когда-нибудь выяснится, что и Николай-он был подделкой. Боюсь, выяснится, что все, чем жила столько десятилетий русская интеллигенция, все было обманом или самообманом, что не так она любила свободу, как говорила, как, быть может, и думала, что не так она любила и народ и что мифология ответственного министерства занимала в ее душе немногим больше места, чем, например, премьера в Художественном театре. Люди сто лет проливали свою и чужую кровь, не любя и не уважая по-настоящему то, во имя чего это якобы делалось. Поверьте, Александр Михайлович, будет день, когда этот символический Николай-он окажется подделкой, самой замечательной подделкой нашего времени. Будем мы тогда, снявши голову, плакать по волосам… Верно, и тогда преимущественно по волосам будем плакать.
– Не понимаю, – сказал Браун, пожимая плечами. – Люди хотят свободы, им ее не дают да еще возмущаются, что они любят свободу недостаточно. Извините меня, при чем тут символический Николай-он? Допустим, в одном лагере знали только Николая-она. Да ведь и в лагере противоположном не все читали Шопенгауэра – больше Каткова и «Московские ведомости»…
– С этим я нисколько и не спорю. У нас, говорят, страна делится: «мы» и «они». Что ж, если они знают цену нам, то и мы еще лучше знаем цену им.
– Да вы вообще узко ставите вопрос, уж если на то пошло, – сказал Браун. – Почему русский интеллигент? Сказали бы в общей форме: человек есть животное лживое. Толку, правда, немного от таких изречений. Да и произносить их надо непременно по-гречески или по-латыни, иначе теряется эффект… Я, кстати, очень хотел бы знать, что такое русский интеллигент. Точно главные ваши вожди к интеллигенции не принадлежат. Обычно русскую интеллигенцию делят довольно произвольно, и каждый лагерь – ваш в особенности – берет то, что ему нравится. Казалось бы, всю русскую цивилизацию создала русская интеллигенция.
Федосьев опять засмеялся.
– Петр, например? – спросил он. – Правда, типичный интеллигент? А он ведь принимал участие в создании русской цивилизации… Любил ли он ее или нет, любил ли вообще Россию, твердо ли верил в нее и в свое дело, наш голландский император, это другой вопрос. Говорил по должности разные хорошие слова, но… Я шучу, конечно, какое может быть сомнение в самоотверженном патриотизме Петра? Вам не приходилось читать его последние указы? Они удивительны. В них такая душевная тоска и неверие, чуть только не безнадежность. Подумайте, и этакий великан у нас устал! Должно быть, у Петра под конец жизни немного убавилось веры. Во все убавилось, даже в науку, которую он так трогательно любил. Ведь этот гениальный деспот был, собственно, в известном отношении первым человеком восемнадцатого столетия, пожалуй, больше чем Вольтер. А вот на европейца все-таки не очень походил. Я думаю, его любимые голландцы на этого Саардамского плотника смотрели с большой опаской… Переодеваться в чужое платье мы любили испокон веков. У нас большинство великих людей, от Грозного до Толстого, обожали духовные маскарады. Москвичей в Гарольдовом плаще в нашей истории не перечесть. Вот только мода на плащи меняется…
– Никак я не предполагал, – сказал Браун, – что у людей власти может быть так развито чувство иронии, как у вас.
– Чувство иронии? – переспросил Федосьев. – Не скажу, что это смех сквозь слезы, уж очень было бы плоско. Что делать? И для смеха, и для слез у нас теперь достаточно оснований. Но для слез оснований много больше.
Они помолчали.
– Вы говорите, мы гибнем, – сказал Браун. – Возможно… Во всяком случае, спорить не буду. Но отчего гибнем, не знаю. По совести, я никакого рационального объяснения не вижу. Так в свое время, читая Гиббона, я не мог понять, почему именно погиб великий Рим. Должно быть, и перед его гибелью люди испытывали такое же странное, чарующее чувство. Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций. А наша – одна из величайших, одна из самых необыкновенных… На меня после долгого отсутствия Россия действует очень сильно. Особенно Петербург… Я хорошо знаю самые разные его круги. Многое можно сказать, очень многое, а все же такой удивительной, обаятельной жизни я нигде не видал. Вероятно, никогда больше и не увижу. Да и в истории, думаю, такую жизнь знали немногие поколения. Я порою представляю себе Помпею в ту минуту, когда вдали, над краем кратера показалась первая струя лавы.
– С той разницей, однако, что извержение вулкана вне человеческой воли и власти. У нас еще, пожалуй, все можно было бы спасти.
– Чем спасти? Князь Горенский, может быть, и глуп, но противопоставить ему у вас, по-видимому, нечего. Для власти всякий энтузиазм пригоден, кроме энтузиазма нигилистического. За Горенского, по крайней мере, история… Или вы тоже думаете, что все можно было бы спасти «мифологией ответственного министерства»?
– Как вам сказать? Я не отрицаю, что это один из выходов. Однако есть еще и другой… Трудно спорить, конечно, с историей, с миром. Но мой опыт – по совести, немалый – говорит мне, что устрашением и твердостью можно добиться от людей всего, что угодно.
– За чем же дело стало? Отчего не добились?
Федосьев развел руками.
– Какая же у нас твердость, Александр Михайлович? Да у нас и власти нет, у нас не правительство, а пустое место!
– Плохо дело, вы правы. Фридрих-Вильгельм жаловался на Лейбница: «Пустой человек, не умеет стоять на часах!» Никто не требует от наших министров, чтоб они были непременно Лейбницами. Но хоть бы на часах умели стоять!.. Впрочем, может быть, вас призовут в последнюю минуту?
– Поздно будет, – сказал Федосьев. – Да и не призовут, Александр Михайлович, – добавил он, помолчав, – вы напрасно шутите. Мое положение и то очень поколеблено, у журналистов спросите. Не сегодня завтра уволят…
Дверь отворилась. Кондуктор спросил билеты и с поклоном вышел.
– Ну, а как же на Западе, Александр Михайлович? – спросил Федосьев, взглянув на часы. – Иногда меня берег сомнение: много ли прочнее и Запад? Вдруг и в Европе решительно все возможно? Вы как думаете? Я Европу плохо знаю. Ведь и там революционные партии хорошо работают?.. Вы ко всему этому не близко стояли?
– К чему?
– К работе революционных партий. Наблюдали?
Браун смотрел на него с удивлением и с насмешкой.
– Конечно, как тут ответить? – приятно улыбнувшись, сказал после недолгого молчания Федосьев. – Если и стояли близко, то не для того, чтоб об этом рассказывать.
– Особенно государственным людям, – с такой же улыбкой произнес Браун.
– О, я ведь говорю только о наблюдении, притом об иностранных революционных партиях, их деятельность меня мало касается… Не настаиваю, конечно… Не скрою от вас, впрочем, что некоторые из ваших научных сотрудников меня интересовали и, так сказать, по делам службы. Да вот хотя бы дочь этого несчастного Фишера, о котором теперь так много пишут, она ведь у нас работала, – быстро сказал Федосьев, взглянув на Брауна, и тотчас продолжал: – Приходилось мне слышать и о вашем политическом образе мыслей, вы из него не делаете тайны. И признаюсь, я несколько удивлялся.
– Можно узнать, почему? Тайны я не делаю никакой. Кое-что и писал… Не знаю, видели ли вы мою книгу «Ключ»? Она была перед войной напечатана, впрочем, лишь в отрывках.
– Я отрывок читал… Правда, это работа скорее философского характера. Надеюсь, вы пишете дальше? Было бы крайне обидно, если б такое замечательное произведение осталось незаконченным. Не благодарите, я говорю совершенно искренно… Удивлен же я был потому, что хотя по должности я, кажется, не могу быть причислен к передовым людям, но с мыслями ваших статей согласен – не говорю, целиком, но, по меньшей мере, на три четверти.
– Я очень рад, – сказал, кланяясь с улыбкой, Браун. – Поистине это подтверждает ваши слова о том, что в России юристы не верят в закон, капиталисты – в право собственности и т. д. Впрочем, я всегда думал, что государственные люди позволяют себе роскошь иметь два суждения: в политической работе и в частной жизни. И ни один искренний политический деятель против этого возражать не будет.
– Вы думаете? Однако возвращаюсь к вам. Со взглядами, изложенными в ваших статьях, конечно, трудно править государством, но участвовать в революции, по-моему, еще труднее.
Впереди прозвучал свисток локомотива. На лице Федосьева скользнула досада. Поезд замедлил ход. Сквозь запотевшие стекла стали чаще мелькать огни, показались вереницы пустых вагонов.
– Вот и Царское, – сказал с сожалением Федосьев, протирая перчаткой запотевшее стекло. – Так и не удалось побеседовать с вами… До другого раза? – добавил он полувопросительно и, переждав немного, спросил: – Не сделаете ли вы мне удовольствие как-либо пообедать со мной или позавтракать?
– К вашим услугам. Спасибо.
– Вот и отлично… Вам все равно, у меня или в ресторане? Если, конечно, обед у меня не слишком повредит вашей репутации, – сказал, улыбаясь, Федосьев.
– Мне все равно.
– Очень хорошо. Я вас предуведомлю заблаговременно.
Он встал, простился с Брауном и, опираясь на палку, вышел на площадку вагона. Поезд с протяжным свистком остановился. Федосьев нетерпеливо надавил ручку тяжело поддававшейся двери. Ветер рванул сбоку, слепя глаза Федосьеву. Он, ежась, надвинул плотно меховую шапку и осторожно сошел по мерзлым ступеням на слабо освещенный перрон. Шел снег крупными тающими хлопьями. Носильщик бежал вдоль поезда, вглядываясь в выходивших пассажиров. В окнах вокзала светились редкие огни. Где-то впереди рвались красные искры. За ними все утопало в темноте.