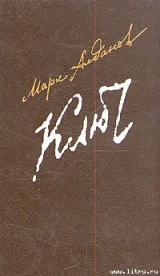
Текст книги "Ключ"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
XVI
На острова должен был ехать почти весь кружок, кроме Фомина, который никак не мог оставить банкет. Ему предстояла еще вся довольно сложная заключительная часть праздника: проверка счетов, начаи и т. д. В последнюю минуту, ко всеобщему сожалению, отказался и Горенский. Князю и ехать с молодежью очень хотелось и остаться в тесном кругу друзей было приятно – он был теперь вторым героем дня. Кроме того, дон Педро хотел предварительно прочесть Горенскому свою запись его речи.
– Вините себя, князь, что вам докучаю, – шутливо пояснил он. – Ваша речь – событие… Завтра будет в нашей газете только первый краткий отчет, а подробный, разумеется, послезавтра.
Семен Исидорович, услышавший эти слова, поспешно поднялся с места и, крепко пожимая руку дон Педро, увлек его немного в сторону.
– Я хотел бы вам дать точный текст своего ответного слова, – озабоченно сказал он. – Зайдите, милый, ко мне завтра часов в одиннадцать, я утречком набросаю по памяти… Будьте благодетелем… И пожалуйста, захватите весь ваш отчет, я желал бы, если можно, взглянуть, – прибавил он вполголоса.
Альфред Исаевич встревожился: в черновике его отчета ответная речь Кременецкого была названа «яркой». Теперь, при предварительном просмотре, о таком слабом эпитете не могло быть речи. Альфред Исаевич тотчас решил написать «блестящая речь юбиляра», но он почувствовал, что Семен Исидорович этим не удовлетворится. «Как же ему надо? „Ослепительно блестящая“? „Вдохновенная“? – спросил себя с досадой дон Педро. – Пожалуй, можно бы, черт с ним! Но все равно Федя никакого „ослепительно“ не пропустит, еще будет полчаса лаять… Дай Бог, чтоб „блестящую“ пропустил. – Альфред Исаевич решил не идти дальше „блестящей“. – Ну, в крайнем случае, добавлю „сказанная с большим подъемом“…»
– С удовольствием зайду, милый Семен Исидорович, – сказал он. В обычное время дон Педро не решился бы назвать Кременецкого милым. Но теперь, как автор отчета об юбилее, он чувствовал за собой силу и намеренно подчеркнул если не равенство в их общественном положении, то, по крайней мере, отсутствие пропасти. Семен Исидорович еще раз пожал ему руку и вернулся на свое место.
– Конечно, поезжай, Мусенька, – нежно сказал он дочери, целуя ее в голову. – Вам, молодежи, с нами скучно, ну, а мы, старики, еще посидим, побалакаем за стаканом вина… «Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»… – с легким смехом добавил он. – Пожалуйста, не стесняйтесь, господа. Спасибо, Григорий Иванович… Дорогой Сергей Сергеевич, благодарствуйте… Майор, от всей души вас благодарю, я очень тронут и горжусь вашим вниманием, майор… Вы знаете к нам дорогу…
– Ради Бога, застегнись как следует, – говорила дочери Тамара Матвеевна. – Григорий Иванович, я вам поручаю за ней смотреть… Не забывайте нас, мосье Клервилль.
– До свидания, мама. Я раньше вас буду дома, увидите…
Клервилль, Никонов, Березин поочередно пожали руку юбиляру, поцеловали руку Тамаре Матвеевне и спустились с Мусей вниз. Глафира Генриховна, Сонечка Михальская, Беневоленский и Витя уже находились там в шубах – они с разрешения Муси сочли возможным уйти, не простившись с ее родителями. Муся рылась в шелковой сумке. Витя выхватил у нее номерок, сунул лакею рубль и принес ее вещи. Он помог Мусе надеть шубу, затем, опустившись на колени, под насмешливым взглядом Глафиры Генриховны надел Мусе белые фетровые ботики. Застегивая сбоку крошечные пуговицы, Витя коснулся ее чулка и, точно обжегшись, отдернул руку.
– Готово? – нетерпеливо спросила Муся, завязывая сзади белый оренбургский платок; по новой, немногими принятой моде она носила платок, как чалму, делая узел не на шее, а на затылке. Это очень ей шло.
Витя поднялся бледный. Муся с улыбкой погрозила ему пальцем. Она почти выбежала на улицу, не дожидаясь мужчин. От любви, шампанского, почета ей было необыкновенно весело. Кучер первой тройки молодецки выехал из ряда на середину улицы. У тротуара остановиться было негде. Муся перебежала к саням по твердому блестящему снегу и, сунув в муфту сумку, легким движением, без чужой помощи села в сани с откинутой полостью.
– Ах, как хорошо! – почти шепотом сказала она, с наслаждением вдыхая полной грудью разреженный холодный воздух. Колокольчик редко и слабо звенел. Глафира Генриховна, ахая, ступила на снег и, как по доске над пропастью, перебежала к тройке, стараясь попадать ботиками в следы Муси. Муся протянула ей руку в белой лайковой перчатке. Но Глафиру Генриховну, точно перышко, поднял и посадил в сани Клервилль, она даже не успела вскрикнуть от приятного изумления. К тем же саням направилась было и Сонечка. Мужчины громко запротестовали:
– Что ж это, все дамы садятся вместе…
– Это невозможно!
– Мальчики протестуют! Через мой труп!.. – закричал Никонов, хватая за руку Сонечку.
Вторая тройка выехала за первой.
– Господа, так нельзя, надо рассудить, как садиться, – произнес внушительно Березин, – это вопрос сурьезный.
– Мосье Клервилль, конечно, сядет к нам, – не без ехидства сказала Глафира Генриховна. – А еще кто из мальчиков?
Муся, не успевшая дома подумать о рассадке по саням, мгновенно все рассудила: Никонов уже усаживал во вторые сани Сонечку. Березин не говорил ни по-французски, ни по-английски.
– Витя, садитесь к нам, – поспешно сказала она, улыбнувшись. – Живо!..
Витя не заставил себя просить, хоть ему и неприятно было сидеть против Глафиры Генриховны. Ее «конечно», он чувствовал, предназначалось в качестве неприятности и Мусе, и ему, и англичанину. В последнем он, впрочем, ошибался: Клервиллю неприятность не предназначалась, да он ее и просто не мог бы понять. Швейцар застегнул за Витей полость и низко снял шапку. Клервилль опустил руку в карман и, не глядя, протянул бумажку. Швейцар поклонился еще ниже.
– По Троицкому мосту…
– Эй вы, са-ко-олики! – самым народным говорком пропел сзади Березин. Колокольчик зазвенел чаще. Сани тронулись и пошли к Неве, все ускоряя ход.
За Малой Невкой тройки понеслись так, что разговоры сами собой прекратились. От холода у Муси стыли зубы, она знала и любила это ощущение быстрой езды. Сдерживая дыхание, то прикладывая, то отнимая ото рта горностаевую муфту, Муся смотрела блестящими глазами на проносившиеся мимо них пустыри, сады, строения. «Да, сегодня объяснится», – взволнованно думала она, быстро вглядываясь в Клервилля, когда сани входили в полосу света фонарей. Глафира Генриховна перестала говорить на трех языках неприятности и только вскрикивала при толчках, уверяя, что так они непременно опрокинутся. Клервилль молчал, не стараясь занимать дам, он был счастлив и взволнован необыкновенно. Витя мучился вопросом: «Неужели между ними вправду что-то есть? Ведь та ведьма-немка все время намекает» (Глафира Генриховна никогда немкой не была). Витя упал духом. Он ждал такой радости от этой ночной поездки на острова.
Развив на Каменном острове бешеную скорость, тройка на Елагином стала замедлять ход. У Глафиры Генриховны отлегло от сердца. Из вторых саней что-то кричали.
– Ау! Нет ли у вас папирос?
Клервилль вынул портсигар, он был пуст.
– Папирос нет… Не курите, простудитесь! – закричала Глаша, приложив к губам руки.
– Да все равно нельзя было бы раскурить…
Никонов продолжал орать. Спереди подуло ветром.
– Так холодно, – проговорил Клервилль.
– Сейчас Стрелка, – сказала Муся, хорошо знавшая Петербург. Тройка пошла еще медленнее. «Стрелка! Ура!» – прокричали сбоку. Вторые сани их догнали и выехали вперед, затем через минуту остановились.
– Приехали!
Все вышли, увязая в снегу, прошли к взморью и полюбовались, сколько нужно, видом. На брандвахте за Старой Деревней светился огонь.
– Чудно! Дивно!
– Ах, чудесно!..
– Нет, какая ночь, господа!..
Все чувствовали, что делать здесь нечего. Березин, возившийся у саней, с торжеством вытащил ящик. В нем зазвенело стекло.
– Тысяча проклятий! Carramba!
– Неужели шампанское разбилось?
– Как! Еще пить?
– Нет, к счастью, не шампанское… Разбились стаканы.
– Кто ж так укладывал! Эх, вы, недотепа…
– Что теперь делать? Не из горлышка же пить?
– Господа, все спасено – один стакан цел, этого достаточно.
– Узнаем все чужие мысли.
– То-то будут сюрпризы!
– А если кто болен дурной болезнью, пусть сознается сейчас, – сказал медленно поэт, как всегда, вполне довольный своим остроумием. Муся поспешно оглянулась на Клервилля.
– Давайте в снежки играть!
– Давайте.
– Разлюбезное дело!
– Что же раньше? В снежки или шампанское пить?
– Господа, природа – это, конечно, очень хорошо, но здесь холодно, – сказала Глаша.
– Ах, я совсем замерзла, – пискнула Сонечка.
– Сонечка, бедненькая, ангел, – кинулся к ней Никонов, – трите же лицо! Что я вам приказал?
– Мы согреем вас любовью, – сказал Беневоленский.
– А что, господа, если б нам поехать дальше? Мы, правда, замерзнем.
– О да! – сказал Клервилль. – Дальше…
– Куда же? В «Виллу Родэ»?
– Да вы с ума сошли!
– Ни в какой ресторан я не поеду, – отрезала Глафира Генриховна.
– В самом деле, не ехать же в ресторан со своим шампанским, – подтвердил Березин, все выбрасывавший осколки из ящика.
– А заказывать там – сто рублей бутылка, – пояснила Глафира Генриховна.
– Господа, в ресторан или не в ресторан, но я умру без папирос! – простонал Никонов.
– Ну и умрите, – сказала Сонечка, – так вам и надо.
– Жестокая! Вы будете виновницей моей смерти! Я буду из ада являться к вам каждую ночь.
– Пожалуйста, не являйтесь, нечего… Так вам и надо.
– За что, желанная?
– За то, как вы вели себя в санях.
– Сонечка, как он себя вел? Мы в ужасе…
– Уж и нельзя погреть ножки замерзающей девочке.
– Гадкий, ненавижу…
Сонечка запустила в Никонова снежком, но попала в воротник Глаше.
– Господа, довольно глупостей! – рассердилась Глафира Генриховна. – Едем домой.
– Папирос! Убью! – закричал свирепо Никонов.
– Не орите… Все равно до Невского папирос достать нельзя.
– Ну, достать-то можно, – сказал Березин. – Если через Строганов мост проехать в рабочий квартал, там ночные трактиры.
– Как через мост в рабочий квартал? – изумился Витя. Ему казалось, что рабочие кварталы отсюда за тридевять земель.
– Ночные трактиры? Это страшно интересно! А вы уверены, что там открыто?
– Да, разумеется. Во всяком случае, если постучать, откроют.
– Ах, бедные, они теперь работают, – испуганно сказала Сонечка.
– Как хорошо говорил князь! Я, право, и не ожидала…
– Господа, едем в трактир… Полцарства за коробку папирос!
– А как же снежки?
– Обойдемся без снежков, нам всем больше шестнадцати лет.
– Всем, кроме, кажется, Вити, – вставила Глаша.
Витя взглянул на нее с ненавистью.
– А вам… – начал было он.
– Мне много, скоро целых восемнадцать, – пропела Сонечка. – Господа, в трактир чудно, но и здесь так хорошо!.. А наше шампанское?
– Там и разопьем, вот и бокалы будут.
– Господа, только условие под самым страшным честным словом: никому не говорить, что мы были в трактире. Ведь это позор для благородных девиц!
– Ну, разумеется.
– Лопни мои глаза, никому не скажу!
– Григорий Иванович, выражайтесь корректно… Так никто не проговорится?
– Никто, никто…
– Клянусь я первым днем творенья!
– Да ведь мы едем со старшими, вот и Глафира Генриховна едет с нами, – отомстил Витя. Глафире Генриховне, по ее словам, шел двадцать пятый год.
– Нет, какое оно ядовитое дитё!
– В сани, в сани, господа, едем…
Ехали не быстро и довольно долго. Стало еще холоднее, Никонов плакал, жалуясь на мороз. По-настоящему веселы и счастливы были Муся, Клервилль, Сонечка. Муся знала твердо, что этой ночью все будет сказано. Как, где это произойдет, она не знала и ничего не делала, чтоб вызвать объяснение. Она была так влюблена, что не опускалась до приемов, которые хоть немного могли бы их унизить. Муся даже и не стремилась теперь к объяснению: он сидел против нее и так смотрел на нее, ей этого было достаточно; она чувствовала себя счастливой, чистой, расположенной ко всем людям.
Старый, низенький, грязноватый трактир всем понравился чрезвычайно. Дамы имели самое смутное понятие о трактирах. В большой теплой комнате, выходившей прямо на крыльцо, никого не было. Немного пахло керосином. Со скамьи встал заспанный половой, которого Березин назвал малый и братец ты мой, дамы окончательно пришли в восторг, и даже Глафира Генриховна признала, что в этом заведении есть свой стиль.
– Ах, как тепло! Прелесть!
– Здесь надо снять шубу?
– Разумеется, нет.
– Отчего же нет? Mesdames, вы простудитесь, – сказал Березин, сдвигая два стола в углу. – Ну, вот, теперь прошу занять места.
– Право, я страшно рада, что нас сюда привезли. А вы рады, Сонечка?
– Ужасно рада, Мусенька! Это прямо прелесть!
– Господа, я заказываю чай. Все озябли.
– Папирос!
– Слушаю-с. Каких прикажете?
– Папирос!..
– Ну-с, так вот, голубчик ты мой, перво-наперво принеси ты нам чаю, значит, чтоб согреться, – говорил Березин, он теперь играл купца, очевидно, под стиль трактира. Дамы с восторгом его слушали.
– Слушаю-с. Сколько порций прикажете? – говорил еще не вполне проснувшийся половой, испуганно гладя на гостей.
– Сколько порций, говоришь? Да уж не обидь, голуба, чтоб на всех хватило. Хотим, значит, себя чайком побаловать, понимаешь? Ну, и бубликов там каких-нибудь тащи, што ли.
– Слушаю-с.
– Папирос!..
– А затем, братец ты мой, откупори ты нам эту штучку. Своего, значит, кваску привезли… И стаканы сюда тащи.
– Слушаю-с… За пробку с не нашей бутылки у нас пятнадцать копеек.
– Пятиалтынный, говоришь? Штой-то дороговато, малый. Ну да авось осилим… И ж-жива!
Отпустив малого, Березин засмеялся ровным негромким смехом.
– Нет, право, он очень стильный.
– Здесь дивно… Григорий Иванович, положите туда на стол мою муфту.
– Ага! Прежде «ну, и умрите», а теперь «положите… на стол мою муфту»?.. Бог с вами, давайте ее сюда, ваше счастье, что я такой добрый.
– И такой пьяный.
– Вам нравится здесь, Вивиан? Вы не сердитесь, что мы все время говорим по-русски?
– О, нет, я понимаю… Мне так нравится!..
Клервилль действительно был в восторге от поездки, в которой мог наблюдать русскую душу и русский разгул. Самый трактир казался ему точно вышедшим прямо из «Братьев Карамазовых». И так милы были эти люди! «Она никогда не была прекраснее, чем в эту ночь. Но как, где сказать ей?» – думал Клервилль. Он очень волновался при мысли о предстоящем объяснении, об ее ответе, однако в душе был уверен, что его предложение будет принято.
– Мосье Клервилль, давайте поменяемся местами, вам будет здесь удобнее, – предложила Глафира Генриховна. – Григорий Иванович, несут ваши папиросы. Слава Богу, вы перестанете всем надоедать.
– Господа, кто будет разливать чай?
– Глаша, вы.
– Я не умею и не желаю. И пить не буду.
– Напрасно. Чай – великая вещь.
Никонов жадно раскуривал папиросу.
– Григорий Иванович, дайте и мне, – пропела Сонечка. – Я давно хочу курить.
– Сонечка, Бог с вами! – воскликнула Муся. – Я маме скажу.
– А страшное честное слово? Не скажете.
Она протянула руку к коробке. Никонов ее отдернул, Сонечка сорвала листок.
– Господа, это стихи!
– Стихи? Прочтите!
– Отдайте сейчас мой листок.
– Григорий Иванович, не приставайте к Сонечке. Сонечка, читайте.
В дни безвременья, безлюдья
Трудно жить – кругом обман.
Всем стоять нам надо грудью,
Закурив родной «Осман».
– «Десять штук – двадцать копеек», – прочла нараспев Сонечка.
Послышался смех.
– Как вы смели взять мой листок? Ну, постойте же, – грозил Сонечке Никонов.
– Господа, ей-Богу, эти стихи лучше «Голубого фарфора»!
– Какая дерзость! Поэт, пошлите секундантов.
– Господа, несут шампанское!
– Несут, несут, несут!
– Вот так бокалы!
– Наливайте, Сергей Сергеевич, нечего…
– Шампанское с чаем и с баранками!
– Я за чай.
– А я за шампанское.
– Кто как любит…
– Кто любит тыкву, а кто офицера.
– Ваше здоровье, mesdames.
– Господа, мне ужасно весело!
– Вивиан…
– Муся…
– Сонечка, я хочу выпить с вами на «ты».
– Вот еще! И я вам не Сонечка, а Софья Сергеевна.
– Сонечка Сергеевна, я хочу выпить с вами на «ты»… Ну, погодите же!
– Григорий Иванович, когда вы остепенитесь? Налейте мне еще…
– Mesdames, я пью за русскую женщину.
– О да!..
– Лучше за того, кто «Что делать?» писал!
– Выпила бы и за него, да я не читала «Что делать?».
– Позор!.. А я и не видела!
– Можно и не читамши и не видемши.
– Мусенька, какая вы красавица. Я просто вас обожаю, – сказала Сонечка и, перегнувшись через стол, крепко поцеловала Мусю.
– Я вас тоже очень люблю, Сонечка… Витя, отчего вы один грустный?
– Я нисколько не грустный.
– Отчего ж вы, милый, все молчите? Вам скучно?
– Атчиго он блэдный? Аттаго что бэдный…
– Выпьем, молодой человек, шампанского.
Сонечка вдруг пронзительно запищала и метнулась к Никонову, который вытащил из ее муфты крошечную тетрадку.
– Не смейте трогать!.. Сейчас отдайте!
– Господа, это называется «Книга симпатий»!
– Сию минуту отдайте! С-сию минуту!
– Что я вижу!
– Муся, скажите ему отдать! Сергей Сергеевич…
– Григорий Иванович, отдайте ей, она расплачется.
– Господа, здесь целая графа: «Боже, сделай так, чтобы в меня влюбился…» Дальше следуют имена: Александр Блок… Собинов… Юрьев… Не царапайтесь!
Все хохотали. Сонечка с бешенством вырвала книжку.
– Сонечка, какая вы развратная!
– Я вас ненавижу! Это низость!
– Я вам говорил, что отомщу. Мессалина!
– Я с вами больше не разговариваю!
– Сонечка, на него сердиться нельзя. Он пьян так, что смотреть гадко… Налейте мне еще, поэт.
– Поверьте, Сонечка, ваш донжуанский список делает вам честь.
– Господа, а вы знаете, что здесь был убит Пушкин? – сказал Березин.
Наступило молчание.
– Как? Здесь?
– Не здесь-здесь, а в двух шагах отсюда. С крыльца, может быть, видно то место. Хотя точного места поединка никто не знает, пушкинисты пятьдесят лет спорят. Но где-то здесь…
Большинство петербуржцев никогда не были на месте дуэли Пушкина. Муся полушепотом объяснила по-английски Клервиллю, что сказал Березин.
– …Наш величайший поэт…
– Да, я знаю…
Он действительно знал о Пушкине – видел в Москве его памятник, что-то слышал о мрачной любовной трагедии, о дуэли.
– Место, на котором был убит Пушкин, ничем не отличается от места, на котором никто не был убит, – произнес с расстановкой Беневоленский.
– Это очень глубокомысленное замечание, – сказала Муся, не вытерпев. Она встала. – А вы знаете, господа, здесь очень душно и керосином пахнет. У меня немножко кружится голова.
– У меня тоже.
– На воздухе пройдет… Но поздно, друзья мои, пора и восвояси…
– В самом деле, пора, господа… Так вы говорите, с крыльца видно?
Муся отворила дверь. Пахнуло холодом. Березин подозвал полового. Муся вышла на крыльцо. Справа жалостно звенел колокольчик отъехавшей тройки. Слева у соседней лавки уже вытягивалась очередь. Дальше все было занесено снегом.
«Нет, ничего не видно… Он, однако, не вышел за мною…» – подумала Муся. Вдруг сзади сверкнул свет и она, замирая, увидела Клервилля.
– Ах, вы тоже вышли, Вивиан? – спросила она по-английски. – Нет, отсюда ничего не видно!.. Смотрите, это очередь за хлебом. Бедные люди, в такой холод! Верно, у вас в Англии этого нет?
Он не сводил с нее глаз.
– Какая прекрасная ночь, правда? – сказала она дрогнувшим неожиданно голосом. «Да, сейчас, сейчас все будет сказано», – едва дыша, подумала Муся.
– Я вышел, чтоб остаться наедине с вами… Мне нужно вам сказать… Нам здесь помешают… Пройдем туда…
Видимо, очень волнуясь, он взял ее под руку и пошел с «ей в сторону, по переулку. Через минуту он остановился. Снизу приятно пахло печеным хлебом. Было почти темно. Людей не было видно. „Неужели у места дуэли Пушкина?.. Это было бы так удивительно, память на всю жизнь… Нет, это простой переулок… Стыдно думать об этом… Сейчас все будет кончено… Но что ему сказать?“ – пронеслось в голове у Муси.
– Муся, я люблю вас… Я прошу вас быть моей женою.
Слова его были просты и банальны. Муся не могла этого не заметить, как взволнованна она ни была, какой торжествующей музыкой ни звучали эти слова в ее душе. «Так с сотворения мира делали предложение. Но теперь мне!.. Сейчас ответить или подождать?.. И как сказать ему? Лишь бы не сказать плоско… И не сделать ошибки по-английски…»
– Я не могу жить без вас и прошу вас стать моей женой, – повторил он, взяв ее за руку. – Согласны ли вы?
– Я не могу отказать вам в таком пустяке.
Он не понял или не оценил ее тона, затем с усилием засмеялся, смех оборвался тотчас.
– Вы говорите правду?.. Вы шутите?
– Это была бы довольно глупая шутка.
Он поцеловал ей руку, затем обнял ее и поцеловал в губы. Она чуть-чуть отбивалась. Опять с еще гораздо большей силой, чем при их телефонном разговоре, счастье залило душу Мусе, вытеснив все другое. «Надо стать достойной его!»
Они молча пошли назад. Не доходя до крыльца, Муся остановилась. «Так нельзя войти… Все сейчас догадаются по нашим лицам, уж Глаша, конечно… Ну и пусть! Нет, не надо», – подумала она. Как она ни была счастлива и сердечно расположена ко всем людям, Муся не хотела так сразу же открыть Глаше…
– Оставьте меня, Вивиан… Я хочу побыть одна.
Он взглянул на нее с испугом, затем, по-видимому, как-то очень сложно объяснил ее слова. Наклонив голову, он выпустил ее руку и отошел, взбежал на крыльцо своим легким, упругим шагом. Муся вздохнула легче. «Да, все решено. Неужели может быть так хорошо? – книжной фразой выразила она самые подлинные свои чувства. – Он изумительный…»
Теперь все было другое – дома, снег, эти оборванные люди. Конец очереди у фонаря был от нее в двух шагах. «Бедные, бедные люди…» Муся оставила сумку в муфте, да и в сумке почти не было денег, она все раздала бы этим людям. «Нет, теперь и им будет житься легче, идут новые времена», – подумала Муся, вспомнив речь Горенского. Она ясным, бодрящим, сочувственным взглядом обвела очередь, встретилась глазами с бабой и вдруг опустила глаза, такой ненавистью обжег ее этот взгляд. Мусе стало страшно. Она быстро направилась к крыльцу.
– Шлюха! – довольно громко прошипела баба. – …в шубе…
В толпе засмеялись. У Муси подкосились ноги. На крыльце сверкнул свет, появились люди. Колокольчик зазвенел. Тройки подъехали к крыльцу.
– Мусенька, что же вы скрылись? Вот ваша муфта, – сказала Сонечка.
Назад ехали скучно. Было холодно, но по-иному, не так, как по дороге на острова. Клервилль сел во вторые сани, по-видимому, сложное объяснение слов Муси включало и эту деликатность, давшуюся ему нелегко. Вместо него рядом с Витей на скамейку сел Никонов. Он начинал скисать – петербургская неврастения в нем сказалась еще сильнее, чем в других. Глафира Генриховна была крайне озабочена, даже потрясена. Она сразу все поняла. В том, что, по ее догадкам, произошло, она видела завершение блестящей кампании, которую Муся мастерски провела собственными силами, при очень слабой помощи родителей. «Да, ловкая, ловкая девчонка, нельзя отрицать», – думала Глаша. Она думала также о том, что ей двадцать седьмой год, что жениха нет и не предвидится и что для нее выход замуж Муси – тяжкий удар, если не катастрофа. Глафира Генриховна сразу приняла решение перегруппировать фронт и сосредоточить силы на одном молодом адвокате, который, правда, не мог идти в сравнение с Клервиллем, но был очень недурен собой и уже имел хорошую практику. «Что ж делать… Да, она очень ловкая, Муся. И молчит, будет мне теперь подавать его по столовой ложке…»
«Рассказать или нет? – спрашивала себя Муся. – Зачем рассказывать? Глупо… В такую минуту плюнули в душу… За что? Что я им сделала?..» Она говорила себе, что не стоит об этом думать, но ей хотелось плакать. Ее разбирала предрассветная мелкая дрожь. Чуть-чуть жгло глаза.
Хотелось плакать и Вите. Не глядя на Мусю, он молчал всю дорогу, думая то о самоубийстве, то о дуэли. «Вот и Пушкин послал тому вызов… Нет, дуэль – глупость, конечно. Да он и не виноват, если она его любит… И самоубийство – тоже глупости… Не покончу я самоубийством… Но, может быть, ничего и не было? Вот ведь она сидит грустная… Может, она ему отказала?»
Глафира Генриховна для приличия время от времени говорила что-то скучное. Муся, Никонов скучно и коротко отвечали.
Они подъезжали к Неве. Луна скрылась, стало совершенно темно. Вдруг слева где-то вдали гулко прокатился выстрел. Дамы вскрикнули. Никонов поднял голову. Встрепенулся и Витя. Кучер оглянулся с испуганным выражением на лице. За первым выстрелом последовали другой, третий. Затем все стихло.
– Что это?.. Стреляют?.. – шепотом спросила Муся.
– Ну да, стреляют. Р-революция, – угрюмо проворчал Никонов, как полушутливо говорили многие из слышавших первые выстрелы Февраля.
«Ах, если бы вправду революция! – вдруг сказал себе Витя. В его памяти промелькнуло то, что он читал и помнил о революциях: жирондисты, Дантон, Дмитрий Рудин. Витя увидел себя на баррикаде, со знаменем, с обнаженной саблей. Баррикада была под окнами Муси. – Да, это был бы лучший исход… Ах, если бы, если бы революция!.. Только гроза может принести мне славу и сделать меня достойным ее любви!.. А если не славу, то смерть», – с тоской и страстной надеждой думал Витя.








