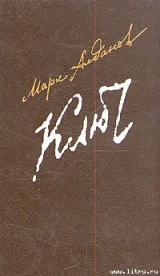
Текст книги "Ключ"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
IV
Эстрады в большой гостиной не было; сцена отделялась от зрителей только шедшей по полу длинной белой доскою с приделанными к ней изнутри электрическими лампочками. Люстру потушили в зале минутой раньше, чем следовало. Гости уже в полутьме поспешно занимали места, расстраивая ряды взятых напрокат стульев, выделявшихся своей простотой в богатой гостиной. Слышались извинения, сдержанный смех. Потом наступила тишина. Звонок позвонил опять, короче, и занавес медленно раздвинулся, цепляясь и задерживаясь на шнурке. Одобрительный гул пронесся по залу. Сцена была ярко освещена, и все на ней – южные деревья, цветные фонарики, мебель, даже декорация с видом залива – было довольно похоже на настоящий театр. Взволнованная Тамара Матвеевна присела на крайний стул у прохода. На сцене вполоборота, почти спиной к публике, наклонившись над перилами, стояла Муся. «Марья Семен… – негромко сказал кто-то и не докончил, видимо испугавшись звука своего голоса. „Ах, как мила Муся, прелесть“, – прошептала рядом с Тамарой Матвеевной госпожа Яценко. Тамара Матвеевна благодарно улыбнулась в ответ и немного успокоилась. Муся в своем белом платье Коломбины, сшитом по рисунку модного художника, была в самом деле очень красива. Где-то в глубине заиграл рояль. „Нет, прекрасно слышно“, – подумала Тамара Матвеевна: рояль после долгих споров и опытов решено было поставить в их спальной. Тамара Матвеевна тревожно обвела глазами зал, полуосвещенный ближе к сцене, более темный позади. Все гости уже разместились. В первом ряду было много свободных стульев, точно все стеснялись занять там места. Посредине первого ряда, с улыбкой глядя на Мусю, сидел, развалившись, Нещеретов. Сердце Тамары Матвеевны радостно забилось. Немного дальше, у прохода, тоже в первом ряду, она увидела в профиль Клервилля. „Какой красавец!“ – почему-то испуганно подумала Тамара Матвеевна.
Рояль замолк. Муся долго разучивавшимся движением оторвалась от перил и повернулась к зрителям. Сердце у нее сильно билось. Муся знала, что очень хороша собой в этот вечер: ей это все говорили в «артистической», и по тому, как говорили, она знала, что говорят правду. Лицо ее, над которым при помощи лейхнеровского карандаша, помады, пудры долго работал искусный гример, было точно чужое. Но это, как маска, придавало ей смелости. Выход, она чувствовала, удался отлично. Муся сделала над собой усилие и справилась с дыханием. «Что же он не бросает букета?» – спросила себя она. Из-за перил справа к ее ногам упал белый букет. Муся слегка вскрикнула и наклонилась, поднимая цветы. И тотчас она почувствовала, что и легкий крик удался, что она сделала то самое «гибкое, порывистое движение», которое делают красивые девушки в романах. Обмахивая себя букетом, Муся вышла на авансцену. Рояль давно затих, но Муся сочла возможным немного затянуть немую сцену. Березин советовал актерам не смотреть со сцены на публику. Муся, однако, теперь была вполне в себе уверена. Она неторопливо обвела взглядом зал. Ей бросились в глаза Нещеретов, Клервилль. Заметила даже сидевшую далеко Глафиру Генриховну. «Так Глаша голубое надела», – подумала Муся, спокойно отмечая в сознании, что все видит. «Теперь начать… Если еще с полминуты тянуть, будет нехорошо…» – сказала она себе и, легким усилием поставив голос, совершенно естественно начала:
И вот уж сколько дней игра ведется эта,
И каждый день ко мне влетают два букета…
Муся теперь почти не думала о произносимых словах. Она знала стихи отлично, множество раз повторяла их без запинки, все интонации и движения были разучены и одобрены Березиным. «Только не думать, что могу сбиться, и никогда не собьюсь, – говорила себе Муся, хорошо и уверенно делая все, что полагалось. – А вот же я об этом думаю – и все-таки не собьюсь. Какой он красавец, Клервиляь… Но зачем же Глаша не надела лилового? Нищеретов ловит мой взгляд… Не надо его замечать…»
…Да, два поклонника есть у меня несмелых,
И одинаковых, и совершенно белых…
«Жаль, что Клервилль плохо понимает по-русски… Рядом с Глашей Витя Яценко… А та дама кто?.. Сейчас нужно принять „притворно-суровый вид“. Потом перейти к столу… Сергей Сергеевич, верно, следит оттуда… Теперь повернуть голову направо…»
О ком же думать мне? Кто будет мне спасеньем?
Кого мне полюбить? О, сердце, рассуди,
Как хочешь, чтобы жизнь сложилась впереди:
Сплошными буднями иль вечным воскресеньем?
Взгляд Муси встретился с блестящими глазами Клервилля, и в них она, замирая, прочла то, о чем догадывалась, не смея верить. «Да, он влюблен в меня…»
Муся закончила свой первый монолог. Перед ней находился Пьеро-веселый, которого играл Никонов. Сердце Вити сжалось от зависти и сожаления – он сам втайне мечтал об этой роли. Однако на первом же собрании актеров все тотчас сошлись на том, что Пьеро-веселого должен играть Никонов. «Совсем по вашему характеру роль, Григорий Иванович», – сказала Муся. На роль Пьеро-печального тоже сразу нашлись кандидаты, и Вите никто ее не предложил.
Печального Пьеро хотел играть Фомин. Этому, однако, под разными предлогами воспротивилась Муся, почувствовавшая смешное в том, что роли обоих Пьеро будут исполняться помощниками ее отца. У Муси был свой кандидат – Горенский. Но князь так-таки отказался зубрить стихи, пришлось его освободить от игры, к большому огорчению Муси. Горенскому, собственно, и вообще не хотелось участвовать в спектакле. Его привлекало преимущественно общение с молодежью, к которой он больше не принадлежал, в передовом кругу, частью вдобавок полу-еврейском: князь Горенский в своей природной среде почти так же (только с легким оттенком вызова) щеголял тем, что бывает у Кременецких, как Кременецкие хвастали им перед своими друзьями и знакомыми. Роль Пьеро-печального досталась Беневоленскому. Фомин, хотя и продолжал говорить «со мной, как с воском», немного обиделся и отказался играть, отчасти, впрочем, из подражания князю.
Вообще, как всегда бывает в таких случаях, не обошлось без обид и неприятностей. Не приняла участия в спектакле и Глафира Генриховна, недовольная ролью Суры, которую ей предложили в сцене из «Анатэмы». Пришлось подобрать сцены так, чтоб вовсе не было ролей пожилых женщин. Не раз ворчал и сам Березин. Но потом все пошло хорошо, обиды удалось загладить и репетиции проходили весело.
При сиянии лунном,
Милый друг Пьеро,
Одолжи на время
Мне свое перо, —
пел за сценой Никонов. У него был недурной голос. По залу опять пронесся одобрительный гул. «Да, он прекрасно поет», – прошептала Наталья Михайловна. Никонов бойко перескочил через перила – этого явления на репетициях особенно опасались: перила то и дело падали. С долгим раскатом смеха, показавшимся публике очень веселым, а Вите неприятно-неестественным, Григорий Иванович в белом костюме, осыпанный густо пудрой, с замазанными усами бросился и ногам Муси. Витя не ревновал Мусю к Никонову – он чувствовал, что Григорий Иванович ей нисколько не нравится, – но его грызла тоска по роли веселого Пьеро, которая могла ведь достаться и ему.
Витя на репетициях окончательно влюбился в Мусю. В присутствии других она обращала на него мало внимания, по совести, он не мог обидеться (вначале хотел было), ибо все без исключения другие актеры были значительно старше его. Кроме того, Муся с первого же дня заявила, что не считает участников спектакля гостями и никем заниматься не будет. «Мы здесь все у себя, дома», – сказала она. Это ей не помешало остаться хозяйкой, а гостям – гостями. Особенно любезна и внимательна Муся была только с Березиным.
Однажды довольно поздно вечером Витя после репетиции случайно остался последним гостем. Муся попросила его посидеть еще, подлила ему рома в чай и принялась расспрашивать его полунасмешливым, полупокровительственным тоном о разных его делах, начала с его родных, с училища и уроков, спросила, не притесняют ли его дома. Характер ее расспросов подчеркнуто ясно свидетельствовал о том, что она считает Витю ребенком. Но в интонациях Муси слышалось и другое. Она сама не знала, зачем попросила Витю посидеть еще, не знала толком, о чем с ним говорить, и вместе с тем ей было с ним интересно. Красивая наружность Вити нравилась Мусе, хотя он был «молокосос». От уроков она вдруг перешла к другому и в упор, с особенным выражением в бегающих глазах спросила Витю, был ли он когда-либо влюблен. Ироническая интонация Муси показывала, что она не совсем всерьез задает этот вопрос провинциальной барышни. Внутренний смысл вопроса был, впрочем, несколько иной: Мусе зачем-то хотелось получить ответ, узнал ли уже Витя женщин. Вероятно, она разъяснила бы свой вопрос – этот разговор на сомнительную тему с мальчиком приятно щекотал ей нервы, – и положение Вити стало бы весьма трудным: он не умел лгать, и ему пришлось бы, немного помявшись, признаться в том, что составляло главную заботу его жизни, – Витя женщин еще не знал. К его спасению, в эту минуту в комнату вошла Тамара Матвеевна. Она тоже была с ним любезна, однако так зевала, стараясь скрыть зевки, и с таким интересом спрашивала, в котором часу ложатся спать у них дома, что Витя счел нужным проститься. Муся проводила его до дверей. Он тревожно ждал, что в передней она повторит свой вопрос. Но Муся только ласково сказала, что рада была хорошо, по-настоящему с ним поговорить. Витя вдруг уже перед выходной дверью поцеловал ей руку и вспыхнул. Он был хорошо воспитан и тотчас почувствовал, что сделал неловкость. Впрочем, об этой неловкости не сожалел. Муся вечером, раздеваясь, долго с улыбкой вспоминала о Вите, о своей нетрудной победе…
Спасти нас от тоски могла бы перемена,
Но не меняется наскучившая сцена.
«Да, не меняется, – подумал Витя, – а давно пора бы ей перемениться… И училище пора кончать…» Пьеса, видимо, нравилась публике. Несомненный успех кроме Муси имел и Никонов. Это раздражало Витю, хотя он не был завистлив. Веселый Пьеро уже побеждал Пьеро-печального, и близилась минута, когда он должен был поцеловать Коломбину, – сцена эта особенно украшала роль первого Пьеро в мечтах Вити. «Как скверно играет болван Беневоленский: тянет, тянет!.. Сейчас шестое явление, радостный Пьеро плачет… Ну, плачет Григорий Иванович слабо… „Вы плакать можете?..“ Как она хороша… „Вы плакать можете?“ Да, могу, могу, Марья Семеновна, очень могу, Муся… Вот теперь поцелуются… А я ограждал входы!..»
Майор Клервилль внимательно слушал пьесу, кое-что разобрал и искренно этому радовался. Игра Муси приводила его в восторг. Однако и ему не понравилась сцена поцелуя – он нашел ее неестественной и неудачно сыгранной. Когда «Белый ужин» кончился и раздались шумные рукоплескания, Клервилль поднялся с места и, стоя, долго аплодировал Мусе. Его высокая фигура во фраке, о котором долго потом говорили молодые люди, привлекла общее внимание зала.
Лакей внес и подал Мусе два огромных букета. Сияя счастливой улыбкой, Муся взяла цветы и поднесла их к лицу совершенно так, как это делала приезжавшая в Петербург Сара Бернар. Тамара Матвеевна знала, что один букет был от Березина. «А другой от кого? Не от Нещеретова ли?» – подумала она, густо краснея от радости. Нещеретов, сидя, снисходительно хлопал, переговариваясь со стоявшим Семеном Исидоровичем, который нежно посылал дочери воздушный поцелуй. «Из актеров никто не поднес цветов, значит, и другие не догадались или не надо», – утешал себя Витя. Муся быстро прошла за кулисы и вывела оттуда скромно упиравшегося Березина. Аплодисменты еще усилились, особенно после того, как Муся грациозным жестом протянула Сергею Сергеевичу цветы. В зале долго не смолкали рукоплескания. На сцене шутливо аплодировал как бы самому себе Никонов. «Кременецкая!» – вдруг яростно заорал он, изображая галерку. Кто-то в зале со смехом подхватил это восклицание. «Браво, Никонов, бб-и-ис!» – ревел взвинченный своей игрой и успехом Григорий Иванович. Клервилль подошел к самой рампе, восторженно аплодируя Мусе.
– Это, верно, от него тот большой букет, – сказала вполголоса дама, сидевшая между Витей и Глафирой Генриховной.
– Что ж, англо-русское сближение теперь в моде, – ответила с улыбкой Глафира Генриховна. – Вот и спектакль пригодится.
– Les manages se font dans les cieux.[42]42
Браки заключаются на небесах (фр.)
[Закрыть]
– Семен Исидорович поможет небесам.
Витя, как раз с поклоном и извинениями надвигавшийся на дам – он тоже стремился к рампе, – слышал этот разговор, который показался ему чрезвычайно неприятным. Он оборвал извинения и быстро отошел. Глафира Генриховна впоследствии так и не могла понять, почему Витя, до того столь милый и предупредительный стал с нею вдруг нелюбезен, смотрел на нее почти с ненавистью и еле отвечал на ее вопросы.
V
Никто не мог бы назвать неудачником Яценко. Он имел заслуженную репутацию умного, образованного, прекрасного человека, был счастлив в семейной жизни, нежно любил жену и сына. Его служебная карьера, не будучи особенно блестящей, была достаточно успешной и быстрой. Однако при всем ровном характере Николая Петровича у него бывали дни, когда его жизнь представлялась ему ненужной, разбитой и бессмысленной. В такие дни Яценко по возможности избегал встреч с людьми, запирался у себя в кабинете и читал с некоторым ожесточением философские книги.
Николай Петрович понимал язык философских книг, и чтение это доставляло ему удовлетворение, но преимущественно как своего рода умственная гимнастика, как экзамен по развитию, который он всегда с честью выдерживал. Душевного успокоения эти книги ему не давали. Слишком трудно было перекинуть в его жизнь простой и короткий мост от ученых слов и отвлеченных мыслей. Наступала усталость, Яценко откладывал философские книги и раскрывал «Смерть Ивана Ильича», которая волновала его неизмеримо больше.
С Толстым у Николая Петровича был старый счет. Он думал, что другого такого писателя никогда не было и не будет; в творениях Толстого видел подлинную книгу жизни, где на все, что может случиться в мире с человеком, дан не ответ, конечно, но настоящий, единственный отклик. Никола» Петрович был еще молодым судебным деятелем, когда появилось «Воскресение». Любя свое дело, гордясь судом, он болезненно принял этот роман, почти как личное оскорбление. Юридические ошибки, найденные им у Толстого, даже чуть-чуть его утешили, точно свидетельствуя, что не все правда в «Воскресении». Именно отсюда и началась глухая внутренняя борьба Николая Петровича с Толстым. Однако со «Смертью Ивана Ильича» и бороться было невозможно. Яценко понимал, что уж в этой книге все правда, самая ужасная, последняя правда, на которую никто ничего ответить не может, как не может ответить и сам автор. Правда других книг Толстого была менее обязательной и общей. С Николаем Петровичем могло и не случиться то, что случалось с Болконским, Левиным, Нехлюдовым, Безуховым. Но от участи Ивана Ильича уйти было некуда, и Яценко иногда недоумевал, зачем, собственно, написан этот страшный рассказ. Самый тон, зловеще-шутливый, почти издевательский тон книги, особенно срединных глав, в которых Толстой, как убийца, подкрадывается к Ивану Ильичу, по мнению Яценко, свидетельствовал о полном отсутствии ответа. Николай Петрович раз двадцать читал «Смерть Ивана Ильича», и всякий раз якобы примиренная книга эта вызывала у него лишь приступ тоски. Впрочем, и это впечатление скоро проходило – чаще всего от общения с приятными людьми, от успешной повседневной работы. Николай Петрович приходил к мысли, что без твердой религиозной веры никак не может быть оптимистического миропонимания. У него твердой веры не было, настроен же он был в нормальное время оптимистически и потому в тяжелые свои дни представлялся самому себе живым парадоксом.
На следующее утро после спектакля у Кременецких. Николай Петрович проснулся позднее обычного и сразу почувствовал дурной день. Легкая, о чем-то напоминавшая головная боль сразу окрасила в черный цвет его мысли. Никаких неприятностей не было, но Яценко умывался и одевался с тревожным чувством, как бы в ожидании очень неприятных происшествий. Вынутый для бритья из. восковой бумажки новый «жиллет» оказался тупым, вода недостаточно согретой. Лампа плохо освещала зеркало. Галстух завязался неровно. Одевшись, Николай Петрович вышел в столовую. Перед его прибором лежали газета, два письма и сложенная вдвое записка без конверта. Это Витя, уже ушедший в училище, просил оставить ему в его комнате месячное жалованье, о чем забыл сказать отцу накануне. Витя писал без твердых знаков; в одном слове твердый знак был по привычке поставлен и тотчас заботливо зачеркнут. Яценко с усмешкой прочел записку. Хотя жалованье полагалось Вите только через неделю (прежде он был аккуратнее), Николай Петрович исполнил просьбу сына. Войдя в еще не убранную комнату Вити, он положил в ящик ночного стола деньги. При этом он рассеянно просмотрел лежавшие на столе книги: альманах «Шиповник», том стихов Блока и тоненькую книжку Каутского об экономическом материализме. Николай Петрович усмехнулся еще сердитее. «Какой сумбур у него в голове!.. Вот у Вити уж никакой веры нет и не будет… Хорошо же моральное наследство, которое он от меня получит… О материальном и говорить нечего…»
Яценко вернулся в столовую, торопливо выпил стакан остывшего чаю, не прикоснувшись к калачу, сунул в карман неразвернутую газету, нераспечатанные письма, ожидая и от них неприятностей; затем, не будя Наталью Михайловну, вышел на улицу. День был очень темный. Горели фонари. Трамвай как раз прошел, когда Николай Петрович подходил к остановке. Вопреки своему обыкновению он нанял извозчика.
На морозном воздухе головная боль у Николая Петровича прошла, но дурное настроение осталось и даже усилилось. Извозчик вез медленно, сани очень трясло.
В камере, тоже освещенной электрическим светом, несмотря на утренний час, письмоводитель Иван Павлович с очевидным удовольствием буравил и прошивал шелковым шнуром бумаги в одной из папок. По тому, как с ним поздоровался Яценко, Иван Павлович сразу догадался о дурном настроении следователя и, не вступая в разговор, заботливо принялся пропечатывать вытянутые концы шелкового шнура.
– Загряцкого в одиннадцать приведут? – спросил Яценко. Получив поспешный утвердительный ответ, он сел за стол. Письмоводитель тихонько вышел с папкой из комнаты. Яценко проводил его недовольным взглядом, затем распечатал и пробежал письма. В них ничего неприятного не было, но оба письма требовали ответа. Корреспонденция угнетала Николая Петровича. Он сделал над собой усилие и принялся писать. Работа пошла хорошо. Дурное настроение Яценко понемногу рассеялось.
– Загряцкого привели, – робко доложил письмоводитель.
– Отлично, пожалуйста, введите его, Иван Павлович, – сказал Николай Петрович, смягчая тон. – И пожалуйста, останьтесь в камере, сегодня вы будете записывать.
В камеру ввели Загряцкого. «Однако и изменился же он!» – подумал невольно Яценко, отвечая на неуверенный поклон обвиняемого. Осунувшееся лицо Загряцкого было совершенно серого цвета, глаза воспалены и красны.
Николай Петрович расписался в книге, отпустил городового и показал Загряцкому на стул. Загряцкий сел и опустил голову, старательно теребя среднюю пуговицу пальто, плохо державшуюся на оттянутых нитках. Этот жест, как и весь вид обвиняемого, показался следователю и жалким, и неестественным. «Впрочем, очень нелегко держать себя естественно в их положении», – подумал Николай Петрович.
– Господин Загряцкий, – сказал он, – предварительное следствие по вашему делу закончено.
– Как? Закончено? – хриплым голосом перебил его Загряцкий. – Я думал…
Он замолчал. Яценко посмотрел на него вопросительно, подождал, затем продолжал ровно, точно читая по записке:
– Согласно четыреста семьдесят шестой статье устава уголовного судопроизводства я обязан до отсылки товарищу прокурора всего следствия предъявить его вам. Вы получили копии всех следственных актов. Тем не менее, если вы пожелаете, производство будет вам прочтено целиком.
– Нет, зачем же? Я читал копии, – ответил, теребя пуговицу, Загряцкий.
Николай Петрович вздохнул с облегчением.
– По закону я также обязан спросить вас, не желаете ли вы еще что-либо представить в свое оправдание?
Загряцкий быстро взглянул на следователя, снова опустил голову и сказал тихо:
– Зачем я буду говорить? Вы все равно мне ни в чем не верите.
Яценко за долгие годы службы очень часто слышал этот ответ от допрашиваемых. Однако что-то в выражении лица Загряцкого кольнуло Николая Петровича.
– Послушайте, господин Загряцкий, – помолчав, сказал он мягким тоном. – Как вы, конечно, понимаете, я не имею никаких причин желать вам зла. Но вы видите, что все обстоятельства дела складываются решительно против вас. Следствием собран ряд подавляющих улик. Подумайте, господин Загряцкий, не в ваших ли интересах чистосердечно во всем сознаться? – сказал с силой Николай Петрович и в ту же минуту при своей искренности и прямоте почувствовал укор совести: он знал, что улики следствия далеко не подавляющие и что чистосердечное сознание отнюдь не в интересах Загряцкого.
Загряцкий засмеялся, как показалось следователю, несколько театрально.
– Я не могу сознаться в том, чего я не делал.
– Как знаете, это ваше дело, – сказал Яценко, возвращаясь к официальному тону. – Сейчас будет составлен протокол о предъявлении вам следствия. Угодно вам представить еще что-либо в ваше оправдание?
– Господин следователь, – сказал с видимым усилием Загряцкий и опять остановился. – Господин следователь, ведь вы живой человек, вы умный человек… Поймите же, что у меня не было никаких причин убивать Фишера.
– Об этом мы с вами достаточно говорили… Вы. упорно стоите на том, что не были в связи с госпожой Фишер? Поймите и вы, господин Загряцкий, что отстоять эту позицию на суде вам будет трудно.
Загряцкий молчал. Николаю Петровичу вдруг показалось, что он колеблется.
– Вы же, наконец, знаете, господин следователь, – сказал нерешительно Загряцкий, – что с момента моего отъезда из Ялты между нами было порвано даже простое знакомство. Ведь мы поссорились, господин следователь.
– По этому вопросу ваши показания были особенно неубедительны, – ответил Николай Петрович, насторожившийся при слове Загряцкого «наконец». – Следствию так и осталось неясным, почему вы поссорились. Госпожа Фишер говорила о письмах, о том, что вы просили у нее взаймы десять тысяч рублей, в которых она вам отказала. Вы совершенно это отрицали… Даже с негодованием отрицали, господин Загряцкий. Вы говорили, что в материальном отношении всегда отстаивали свою полную независимость. Потом вы сказали, что вы не помните, было ли это так… Подумайте, могу ли я поверить такому ответу? Может ли человек забыть, просил ли он взаймы крупную сумму несколько месяцев тому назад? Неужели вы предполагаете, что суд этому поверит?
– Я на этом не настаиваю, – помолчав, сказал Загряцкий. – Да, я просил у нее взаймы десять тысяч.
– Отчего же вы это отрицали до настоящей минуты?
– Я давно хотел взять назад это свое показание… Я отрицал, потому что признаться в этом порядочному человеку, человеку из общества, не так легко. Хоть никакого преступления здесь нет… Вы мне в упор задали вопрос, просил ли я взаймы денег у дамы. Я сгоряча ответил: нет, не просил. Вы человек, господин следователь, вы должны это понять… Помните и то, что я был болен, когда вы меня допрашивали… Я был измучен обыском, арестом… Эти городовые, камера, этот подземный ход сюда из предварилки… Вы все умеете обернуть против меня. А отвечать на ваши вопросы надо сразу, немедленно, не думая… Я и теперь боюсь каждого слова, которое говорю! – вскрикнул он и оторвал пуговицу пальто. Видимо, это его смутило: он зажал пуговицу в кулаке, затем сунул ее в карман. – Я сказал, что не помню… Разумеется, это неправдоподобно, вы правы… Но ведь это и так несущественно, господин следователь…
– Напротив, это очень существенно… Почему же вы могли думать, что госпожа Фишер даст вам такую сумму?
– Мы были с ней в приятельских отношениях, я для нее поехал в Ялту, по просьбе ее мужа… Я думал, что она даст. Она отказала… И в этом, если хотите, одна из причин ее злобы против меня… Не то чтоб она пожалела денег, нет, она не скупа, это грех сказать… Да и денег у нее так много, я потому и попросил… Но она потеряла ко мне уважение… Она вообразила, что мне нужны были ее деньги, а не она сама, – сказал упавшим голосом Загряцкий.
Письмоводитель оторвался от протокола, поспешно взглянул искоса на Загряцкого, на Яценко и продолжал писать.
– Так, значит, до того госпожа Фишер предполагала, что вам, как вы сказали, нужна она? – спросил небрежно следователь.
– Я могу ошибаться… Это не показание, это только предположение.
– Вы, значит, отрицаете свою связь с госпожой Фишер, но допускаете, что могли ей нравиться?
– Да, я готов это допустить.
– Вы готовы это допустить, – повторил Николай Петрович. – Собственно, почему же вы это допускаете?
– Мне так казалось… Мужчины ведь всегда это чувствуют. Простите нескромность – она естественна в моем положении, – я нравился многим женщинам…
«Не без удовольствия это говорит, как ни тяжело его положение», – подумал Яценко.
– И я имел основания думать, – продолжал, несколько оживившись, Загряцкий, – что Елена Федоровна не вполне ко мне равнодушна. Она, например, явно нервничала, если я в Ялте на прогулке провожал глазами женщин… Это, каюсь, со мной бывало, – сказал он и вдруг улыбнулся победоносной улыбкой, которая на измученном лице его показалась следователю жалкой.
– С вами бывало, – повторил Яценко. – Так что госпожа Фишер немного вас ревновала?
– Да, я думаю, с ее стороны было некоторое увлечение.
– Но связи между вами не было, вы на этом стоите по-прежнему?
– Да, стою…
– Господин Загряцкий, – сказал решительно, с силой в голосе следователь, – бросьте вы это! Я прекрасно понимаю те причины, по которым вы считаете нужным скрывать правду: вы думаете, что, поскольку ваша связь с госпожой Фишер не доказана, постольку отсутствуют и мотивы преступления. Но понимаете ли вы значение того, что вы сейчас сказали? Допустим, связи не было. Однако вы признали, что госпожа Фишер вас любила, что она ревновала вас к другим женщинам. Значит, если б вы того пожелали, если б этого потребовал ваш интерес, вы всегда могли бы вступить с ней в связь или жениться на ней. Вот и мотивировка преступления. Вы, в сущности, уничтожили все, на чем до сих пор стояли. Вопрос о связи теперь отступает на второй план.
«Прихлопнул, – подумал удовлетворенно Иван Павлович. – Ну, не совсем, а все-таки прихлопнул».
Загрицкий горящими глазами смотрел на следователя.
– Да, я был ее любовником, – вдруг сказал он.
– Вы были ее любовником, – повторил Яценко. Он помолчал немного, затем заговорил с новыми, сердечными интонациями в голосе: – Так лучше, господин Загряцкий, поверьте мне, я не желаю вам зла. В вашем положении лучше всего вступить на путь чистосердечного признания.
Загряцкий опять засмеялся.
– Вы это об убийстве? Нет, я этого удовольствия вам не сделаю. Я не убивал Фишера, господин следователь.
– Вы не хотите сказать правду, это ваше дело. Но я вас предупреждаю…
– Вам не о чем меня предупреждать! И не думайте, что я попался в вашу ловушку. Если я нравился женщине, то из этого никак не следует, что я мог на ней жениться. Нет, я еще раньше решил сказать правду… Решил сказать все то, что могу сказать! – воскликнул он.
– Вы, значит, не все можете сказать? – с удивлением глядя на него, спросил Яценко. Им вдруг овладело тревожное чувство.
– Нет, не все.
– Можете ли вы сказать, где вы были в вечер убийства?
– Нет.
– Можете ли вы сказать, на какие средства вы жили?
– Я все вам объяснил.
– Вы не объяснили, господин Загряцкий. К сожалению, вы не объяснили…
– Я больше ничего не могу сказать. Можете кончать ваше следствие, – хрипло проговорил Загряцкий. Вид у него был совершенно измученный. «В самом деле, точно затравленный зверь, – подумал Яценко. Тревожное чувство еще усилилось в Николае Петровиче. Он мысленно себя проверил. – Нет, напротив, теперь все в порядке…»
– Ввиду признания вами, господин Загряцкий, факта, до сих пор вами отрицавшегося, я не нахожу возможным сейчас закончить следствие. Мне, вероятно, придется вас допросить еще раз в присутствии госпожи Фишер, – сказал Яценко и невольно опустил глаза перед тем выражением острой ненависти, которое он прочел в глазах Загряцкого.








