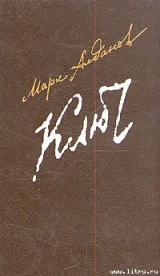
Текст книги "Ключ"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Яценко слушал его со странным чувством, в котором к беспокойству и недоверию примешивалось нечто похожее на сочувствие, этого Николай Петрович потом не мог себе объяснить. Многое из того, о чем говорил Федосьев, было совершенно неизвестно следователю, кое-что он знал и смутно вспоминал по газетам. Яценко понимал односторонность нападок Федосьева, несправедливость разных его доводов, но в таком подборе и рассказе доводы эти звучали убедительно и грозно. «А все-таки здесь он ошибается… Преступление преступлению рознь… Да, то они могли сделать, а это невозможно… Притом как же они могли отравить Фишера? Ведь все это чистая фантазия… Нет, люди, ему подобные, видно, становятся маньяками», – думал Николай Петрович.
– Разрешите формулировать вашу мысль, – сказал он, когда Федосьев наконец кончил. – По вашим подозрениям, какой-то революционер непонятным образом проник в квартиру, где был Фишер, и отравил его в расчете на то, что миллионы перейдут к дочери убитого, которая пожертвует их на революционные цели? Или ваши подозрения еще ужаснее и идут к самой дочери Фишера? Но ведь она находится за границей…
Вдруг мысль о докторе Брауне поразила Николая Петровича. «Какая ерунда!» – сказал себе он.
– Не преувеличивайте значения моих слов, – уже спокойно, даже с некоторым сожалением ответил Федосьев. – Я сказал вам, что это только одна из возможностей, если хотите возможность чисто теоретическая. Вы изволили мне возразить: это совершенно неправдоподобно. Ваши слова меня, каюсь, задели, и я изложил вам – слишком пространно, – почему я такую возможность совершенно неправдоподобной не считаю.
– Значит, вы не настаиваете на своем подозрении? – спросил Яценко.
– Нет, теперь не настаиваю, – ответил нехотя Федосьев. – Да я и прежде только смутно подозревал… Во всяком случае, вам виднее. И добавлю, теперь это уж никак не мое дело, – сказал он, улыбаясь. – Разрешите поделиться с вами маленькой новостью, вы о ней завтра прочтете в газетах. Мои услуги признаны ненужными русскому государству, и я, ко всеобщей радости, уволен в чистую отставку, с мундиром и пенсией, но больше ни с чем.
«Вот оно что! – подумал Николай Петрович. – То-то он так демоничен… Что ж, не сочувствие же ему выражать, в самом деле».
– Очень быстро у нас идут перемены, – уклончиво сказал Яценко.
– Да, мы не засиживаемся. Очевидно, высшее правительство совершенно уверено в своей силе, прочности и государственном искусстве. Слава Богу, конечно… Да, так, видите ли, я не считал себя вправе оставлять своему преемнику дело о Загряцком. Я эту кашу заварил, я ее должен был и расхлебать. Скажу еще, что Загряцкий значится не за охранным отделением, там о нем ничего не знают. А у меня он известен только под кличкой Брюнетка, которую я поэтому также вынужден вам открыть.
– Брюнетка, – повторил Яценко. Оставившее его было раздражение вновь им овладело. – Не могу, однако, не сказать вашему превосходительству, что вы напрасно называете ваши действия расхлебыванием каши. Напротив, расхлебывать ее придется нам, а эта каша с Брюнеткой невкусная, ваше превосходительство.
– Очень сожалею, что доставил вам огорчение. Впрочем, оно ведь не так уж велико? Прокуратура направит дело к доследованию в порядке пятьсот двенадцатой статьи. Это, наверное, не может повредить вашей репутации, она достаточно прочна… Я все-таки хотел бы и очень бы вас просил, чтобы настоящая роль Загряцкого осталась неразоблаченной. Очень бы просил, Николай Петрович… Но если, как я боюсь, это окажется практически невозможным, – вставая, сказал он с подчеркнутой иронией, – то ведомству вашему, да и лично вам тревожиться нечего. Вся одиозность дела ведь падет на наше ведомство, точнее, на вашего покорного слугу. Вам, напротив, обеспечено общественное сочувствие, которое по нынешним временам всего важнее… Прощайте, Николай Петрович, я у вас засиделся.
Яценко, с трудом сдерживаясь, сухо простился с посетителем. Он счел, впрочем, необходимым проводить его до дверей коридора именно ввиду отставки и опалы Федосьева.
– Да, кстати, – добавил у двери Федосьев, – не трудитесь искать убийцу по дактилоскопическому снимку. Это рука околоточного, который производил дознание. Да, да, да… Он по неосторожности прикоснулся к бутылке… Околоточный Шавров… Я случайно выяснил… Прощайте, Николай Петрович, – любезно, почти ласково повторил он, выходя из кабинета.
Яценко растерянно смотрел ему вслед.
VIII
Банкет по случаю двадцатипятилетнего юбилея Кременецкого должен был состояться в одном из лучших ресторанов, в большой зале, вмещавшей около трехсот человек. Еще за несколько дней до банкета запись желающих принять в нем участие была прекращена за отсутствием места. Хотя в феврале было еще несколько юбилеев, день, выбранный для чествований, оказался удачным и не совпал ни с какой другой общественной или театральной сенсацией. Газетная подготовка юбилея прошла отлично: заметки в печати, вначале глухие, в две-три строки, потом понемногу все более подробные, появлялись часто. У Семена Исидоровича были враги в адвокатском мире. Но в газетных кругах, где он был чужой, к нему, в общем, относились хорошо. Он часто выступал в суде по литературным делам и в этих случаях неизменно отказывался от гонорара, даже тогда, когда его подзащитные были люди со средствами. Правда, доброе отношение к Кременецкому у некоторых старых журналистов сочеталось с насмешкой. Так, Федор Павлович, секретарь газеты «Заря», принимал заметки о юбилее с ругательствами, но все же принимал их и печатал на видном месте. В правых газетах Семен Исидорович особой злобы не возбуждал.
Комитета по устройству юбилея было решено не образовывать, так как при этом неизбежны были жестокие обиды. Все делалось способом семейным, безымянным. Главная тяжесть работы выпала на долю Тамары Матвеевны и Фомина, им помогали близкие друзья дома. В течение месяца, предшествовавшего юбилею, у Тамары Матвеевны кроме чисто деловых заседаний происходили и небольшие обеды в тесном кругу. Сам Семен Исидорович, разумеется, не присутствовал на заседаниях, а с обедов рано уезжал, ссылаясь на неотложные дела. Но Тамара Матвеевна по вечерам наедине подробно все сообщала мужу и узнавала его мнение, которое он, впрочем, всегда высказывал отрывисто и уклончиво, ибо его это дело совершенно не касалось.
Работа была трудная и сложная. Постоянно возникали новые вопросы, то мелкие, технические, то серьезные и принципиальные. Так, на первом же обеде в тесном кругу перед устроителями встал вопрос о самом характере чествования. За кофе Тамара Матвеевна, повторяя и слова, и беглые застенчивые интонации мужа, указала, что Семен Исидорович не только один из первых адвокатов России (из приличия она не сказала – первый), он, кроме того, политик и общественный деятель. Должно ли придать чествованию характер политический? В глубине души Тамара Матвеевна предпочла бы отрицательный ответ на этот вопрос. Она боялась преследований со стороны правительства, травли черносотенных организаций. Ее мнение разделял и Фомин. Но другие участники обеда высказались решительно против этого мнения. Особенно горячо высказался Василий Степанович.
– Вы не можете не знать, дорогая Тамара Матвеевна, – сказал он решительно, подливая себе бенедиктина, – что юбилей Семена Исидоровича не только праздник русской адвокатуры – это праздник всей левой России!
«Эх, однако, хватил!» – подумал князь Горенский. Он озадаченно посмотрел на редактора. Но добрые голубые глаза Василия Степановича выражали такую глубокую уверенность в правоте его слов, что Горенский заколебался: может быть, действительно он недооценивал Семена Исидоровича и его заслуги? Быстро обдумав вопрос, князь тоже заявил, что чествованию необходимо придать характер общественно-политический. Против этого мнения осторожно возражал Фомин.
– Левая Россия – это хорошо, но Россия просто еще лучше, – сказал он. – Если мы поставим ударение на слово «левый», то магистратура, во всяком случае, не примет участия в нашем празднике.
– Тем хуже для магистратуры! – воскликнул Василий Степанович. Однако Тамара Матвеевна не могла признать, что тем хуже для магистратуры, она догадывалась, что и Семену Исидоровичу этот вывод не будет особенно приятен. В спор вмешался Никонов. Раздраженный словами Василия Степановича, он высказался со свойственной ему шутливой резкостью:
– Ну, уж там левая Россия или не левая Россия, или никакая не Россия, – сказал он (все немного смутились), – но я прямо говорю: весь смысл банкета именно в политической манифестации. Наш святой долг, господа, показать кукиш правительству!.. Поэтому и публика к нам так валит… Теперь, после убийства Гришки, настроение такое, что и магистратура к нам повалит, голову даю на отсечение!
– Может быть, вы не так дорожите своей головой, Григорий Иванович, – сказал язвительно Фомин, – но могу вас уверить, что сенатор Медведев на левый политический банкет не явится.
– Вот еще кто вам понадобился, зубр этакий! – воскликнул возмущенно князь. – Мы устраиваем банкет не для Беловежской пущи.
Василий Степанович от негодования пролил ликер на скатерть.
– Об этом надо, конечно, очень серьезно подумать, – заметила озабоченно Тамара Матвеевна, не имевшая твердого мнения до тех пор, пока не высказался Семен Исидорович.
Вечером она доложила о споре мужу.
– Фомин отчасти прав, – сказала она нерешительно. – Не только Медведев тогда не придет, Бог с ним, но и многие другие. Я не уверена даже, что придет Яценко.
– Все-таки странно, что русские люди никогда ни на чем не могут сойтись, – сказал с горечью Семен Исидорович. – Во всякой другой стране существуют бесспорные ценности: в Англии, во Франции, в Бельгии («Бельгия» сорвалась у него как-то нечаянно). Одни мы, русские, всегда без нужды грыземся… Делайте как хотите! – в сердцах отрывисто добавил он.
Расстроенная Тамара Матвеевна немедленно перевела разговор на другой предмет. Она принялась рассказывать о том, как все, решительно все стремятся попасть на банкет и в какое отчаяние приходят люди, узнавая, что мест уже нет. Семен Исидорович понемногу смягчился. Характер чествования так и остался неясным. Было решено предоставить полную свободу ораторам.
Вопросы непринципиальные Тамара Матвеевна разрешала сама. Ресторан был выбран очень дорогой, но плату за обед установили низкую – пять рублей с человека, – чтобы сделать участие в банкете возможно более доступным. При этом Тамара Матвеевна поручила Фомину доплатить ресторатору столько, сколько будет нужно, не останавливаясь ни перед какими расходами. У Тамары Матвеевны благодаря щедрости мужа уже года три были собственные деньги и текущий счет в банке. Из этих же денег она оплатила свой дорогой подарок Семену Исидоровичу: портрет Муси работы известного художника. Меню обеда было поручено выработать Фомину, который имел репутацию тонкого гастронома. Он очень хорошо справился со своей задачей, любо было смотреть на проект разукрашенной карточки с разными звучными и непонятными «Homard Thermidor», «Médallion de foie gras», «Coupe Chantilly»[47]47
Названия изысканных и дорогих блюд: омары «Термидор», паштет из гусиной печени, мороженое со взбитыми сливками (фр.)
[Закрыть] и т. п.
Фомину пришлось особенно много поработать по делу об устройстве чествования. Тамара Матвеевна трудилась усердно, но она по своему положению часто должна была оставаться в тени. Никонов помогал больше советами, да и то преимущественно шутливыми. Муся вначале только делала радостно-изумленное лицо и относилась к юбилею отца приблизительно так, как к приезду Художественного театра или к другому событию подобного рода, которое само по себе было очень приятно, но никаких действий с ее стороны не предполагало. Потом ее все же привлекли к общей работе. Она взяла на себя распределение гостей за столами. Столов было много: один в длину зала, почетный, и десять обыкновенных, перпендикулярных к почетному. Рассадка гостей за почетным столом была чрезвычайно трудным и ответственным делом, здесь все обдумывалось и обсуждалось сообща. Боковые же столы были поручены Мусе. Она съездила с Никоновым в зал банкета, купила огромные листы картона и начала озабоченно рисовать план столов с номерами мест. Но вскоре ей это надоело, на первом же столе все почетные лица не поместились и план так и остался недоконченным. Распределение гостей тоже перешло к Фомину. Он с ожесточением говорил знакомым, что совершенно сбился с ног, проклинал и банкет, и юбиляра, и самого себя «за глупость». Однако в действительности Фомина захватила эта работа, требовавшая опыта, такта, дипломатии и вдобавок дававшая материал для его упорного остроумия. В удачном устройстве юбилея Фомин видел как бы собственное свое торжество, хоть и не слишком любил Семена Исидоровича.
Большого такта требовал вопрос о речах на банкете. Этот вопрос, по выражению Фомина, нужно было заботливо «провентилировать». Недостатка в ораторах не было, говорить желали многие, но, на беду, не те, кого особенно приятно было бы услышать Семену Исидоровичу. Было получено письмо от дон Педро, он заявлял о своем желании выступить с речью почти как об одолжении, которое он готов был сделать юбиляру. Альфред Исаевич принял столь самоуверенный тон больше для того, чтобы вернее добиться согласия устроителей банкета, ему очень хотелось сказать слово. Однако дон Педро был сразу всеми признан недостаточно декоративной фигурой, и Фомин в самой мягкой форме ответил ему, что, как ни приятно было бы его выступление, слово не может быть ему дано по условиям времени и места. Эту непонятную фразу «по условиям времени и места» Фомин употреблял постоянно, и она на всех производила должное впечатление. Альфред Исаевич по свойственному ему благодушию не обиделся, он лишь огорчился, да и то ненадолго: что ж делать, если условия времени и места лишали его возможности выступить?
Виднейшие политические деятели либерального лагеря любезно благодарили за приглашение, обещали непременно прийти на банкет, но не выражали желания говорить. Уклонился, в частности, самый видный из всех, что было особенно досадно Семену Исидоровичу. Он даже приписал это уклонение скрытому антисемитизму вождя Либерального лагеря. «Ах, они все явные или тайные юдофобы!» – сердито сказал жене Семен Исидорович, еще накануне восторженно отзывавшийся об этом политическом деятеле. Вместо него был единогласно намечен князь Горенский, но он никак уклонившегося не заменял. Должны были говорить Василий Степанович и Фомин. Наметились и еще несколько ораторов.
Вся эта юбилейная кухня была не очень приятна Кременецким. Помимо обид и огорчений, было беспокойство: удастся ли вообще чествование? Настроение в Петербурге без видимой причины становилось все тревожнее. Ожидали беспорядков и забастовок; говорили даже, что кое-где начинаются голодные бунты. Кременецкий сожалел, что по разным случайным причинам двадцатипятилетие его адвокатской деятельности было назначено на февраль. «Не следовало оттягивать», – думал он.
Насмешек или неприятных отзывов о чествовании он не слышал. Семен Исидорович думал, что такие отзывы непременно должны были бы до него дойти, все равно как до автора через возмущенных приятелей почти неизбежно доходят ругательные рецензии о его книгах, даже помещенные в захудалых изданиях: «А вы видели, какую гадость написал о вас такой-то?.. Просто стыдно читать этот вздор!..» Насмешки, однако, не доходили до Семена Исидоровича. Связанные с праздником мелкие огорчения потонули в той волне сочувствия, симпатии, похвал, которая к нему неслась. Письма, телеграммы, адреса стали приходить еще дня за два до юбилея. В день праздника их пришло около ста. Все утро на квартиру Кременецкого носили из магазинов цветы, торты, бонбоньерки. Приветствия, особенно от прежних подзащитных, были самые трогательные. Некоторые из них Семен Исидорович не мог читать без искреннего умиления. К тому часу дня, когда к нему на дом стали съезжаться друзья и прибыла делегация от совета присяжных поверенных, он уже пришел в состояние подлинного сердечного размягчения.
Одно приветствие особенно его взволновало. Оно было от адвоката Меннера, с которым Семен Исидорович в течение долгих лет находился в состоянии полускрытой, но острой жгучей вражды. В выражениях не только корректных, но чрезвычайно лестных и теплых Меннер поздравлял своего соперника, отмечая его большие заслуги, и слал ему самые добрые пожелания. Кременецкий не верил своим глазам, читая это письмо: он ждал от Меннера, в лучшем случае, коротенькой сухой телеграммы. В одно мгновение исчезла, растаяла долголетняя ненависть, составлявшая значительную часть интересов, действий, жизни Семена Исидоровича. В том размягченном состоянии, в котором он находился, их вражда внезапно показалась ему нелепым и печальным недоразумением. Больше того, это поздравительное письмо в каком-то новом свете представило ему самую жизнь. «Да, надо быть безумцем, чтоб отравлять себе существование всеми этими мелочными дрязгами», – додумал он. Тамара Матвеевна также была взволнована письмом Меннера.
– Конечно, он во многом перед тобой виноват, – сказала она. – Особенно в том деле с Кузьминскими… Но он Все-таки выдающийся человек и адвокат… Не ты, конечно, но один из лучших адвокатов России!
– Один из самых лучших! – с горячим чувством признал Семен Исидорович.
По его желанию Тамара Матвеевна позвонила по телефону Меннеру, сердечно его поблагодарила – «Пока только я!» – и просила непременно приехать вечером на банкет. Семен Исидорович во время их разговора приложил к уху вторую трубку телефона.
– Я сам очень хотел быть, но я слышал и читал, что все триста мест уже расписаны, – ответил взволнованно Меннер.
– Все триста пятьдесят мест давно расписаны, но для Меннера всегда и везде найдется место, – сказала Тамара Матвеевна, за долгие годы она усвоила и мысли, и чувства, и стиль своего мужа. Семен Исидорович взглянул на жену и с новой силой почувствовал, что эта женщина – первый, самый преданный, самый главный из его ныне столь многочисленных друзей. Яснее обычного он понял, что для Тамары Матвеевны никто, кроме него, на свете не существует, что жизнь без него не имеет для нее смысла. Слезы умиления показались на глазах Кременецкого, он порывисто обнял Тамару Матвеевну. Она застенчиво просияла.
Семен Исидорович стал со всеми вообще чрезвычайно добр и внимателен. Накануне банкета он разослал по благотворительным учреждениям две тысячи рублей и даже просил в отчетах указать, что деньги получены «от неизвестного». Никто ни в чем не встречал у него отказа. Так, дня за два до банкета Кременецкий получил билеты на украинский концерт, который должен был состояться «25-го лютого, в Олександровской Залi Мiйськой ради» (в скобках на «квитках» значился русский перевод этих слов). Семена Исидоровича рассмешило и немного раздражило то, что люди серьезно называли Городскую думу Мiйськой радой. Тем не менее он тотчас отослал устроителям концерта пятьдесят рублей, хотя «квитки», стоили гораздо дешевле.
IX
Муся в те дни переживала почти такое же состояние счастливого умиления, в каком находился ее отец. Она была влюблена. Началось это, как все у нее, с настроений светски-иронических. Муся жила веселой иронией, и выйти из этого болезненного душевного состояния ей было очень трудно, для нее оно давно стало нормальным. Когда Муся в разговоре о Клервилле, закатывая глаза, сообщала друзьям, что она погибла, что Клервилль, наверное, шпион и что она без ума от шпионов, это надо было понимать как небрежную, оригинальную болтовню. Так друзья действительно это и понимали. Если б у Муси спросили, что на самом деле скрывается за ее неизменным утомительно-насмешливым тоном, она едва ли могла бы ответить. Что-то, очевидно, должно было скрываться, нельзя было жить одной иронией. Муся это чувствовала, хоть думала об этом редко – она была очень занята, ровно ничего не делая целый день. В откровенных беседах Муся часто повторяла: «Надо все, все взять от жизни…» В ее чувствах что-то выражалось и другими фразами: «сгореть на огне», «жечь жизнь с обоих концов», «отдаваться страстям», но это были провинциальные фразы довольно дурного тона, которых не употребляла и Глаша.
Впрочем, дело было не в выражении мысли – ее некому и незачем было выражать. Тягостнее было то, что в действительности Муся брала у жизни очень немногое. Флирт с Григорием Ивановичем, отдаленное подобие флирта с Нещеретовым, сомнительные разговоры с Витей – все это щекотало нервы, но заполнить жизнь никак не могло. Страх, общий уклад жизни, привычки, брезгливость мешали Мусе пойти дальше. Ей было двадцать два года. Она знала, что не останется без жениха. Но с ужасом чувствовала, что все легко может кончиться очень прозаично и буржуазно, уж без всякой грациозной иронии. Муся как-то прочла у Оскара Уайльда: «Несчастье каждой девушки в том, что она рано или поздно становится похожей на свою собственную мать». От этой фразы Муся похолодела, хотя любила Тамару Матвеевну и очень к ней привыкла.
Клервилль появился так неожиданно. Он не укладывался в привычные настроения Муси, но буржуазности в нем не было или если была, то другая. Слово «буржуазность» часто употреблялось в кружке Муси, правда, в несколько особом смысле: так, дама из буржуазного общества, ездившая со светскими людьми в отдельные кабинеты первоклассных ресторанов, тем самым уже возвышалась над рядовой буржуазностью. Возвыситься над буржуазностью можно было, читая определенные книги, восхищаясь надлежащими писателями, артистами, художниками и презирая надлежащих других, живя врозь с мужем или называя его на «вы». Вообще это было нетрудно и часто вполне удавалось даже на редкость глупым женщинам (мужчинам удавалось еще легче). Клервилль не возвышался над буржуазностью, он был как-то от нее в стороне, этому все способствовало – от мундира и боевых наград до его имени Вивиан, до его чуть пахнущих медом английских папирос. И Муся могла говорить, что она погибла, без риска оказаться ниже своей репутации.
Так было при их первом знакомстве. Но после любительского спектакля в их доме Муся почувствовала, что она влюбилась, влюбилась по-настоящему, в первый раз в жизни, почти без заботы об ощущениях, без всякой мысли о том, буржуазно ли это или нет.
Клервилль занимал ее воображение целый день, и в мыслях о нем теперь заключалось ее лучшее наслаждение. Прежде Муся была не в состоянии провести вечер дома одна. Теперь она предпочитала одиночество и, возвращаясь после театра домой, с радостью вспоминала, что сейчас в ванне, в постели останется с мыслями о нем одна, что, быть может, он приснится ей ночью. Муся проверяла свои чувства по самым страстным романам и с гордостью убеждалась, что это и есть та любовь, которую почти всегда совершенно одинаково и совершенно верно описывали романы. Прежде Мусе было страшно подумать, что ей, быть может, предстоит за всю жизнь знать только одного человека. Теперь эта боязнь казалась ей одновременно и смешной, и гадкой. От счастья она стала добрее, не отвечала на колкости Глаши, была ласкова с матерью, больше не старалась кружить голову Вите: он под разными предлогами забегал к ним так часто, что в кружке уже смеялись, а Тамара Матвеевна полушутливо грозила ему пальцем. Муся теперь говорила с Витей «так, как могла бы говорить с братом любящая старшая сестра», этот новый книжный тон беспокоил и сердил Витю. Никонов говорил, что в доме Кременецких установился дух первых времен христианства, и притом с некоторым опозданием, ибо Семен Исидорович крестился двадцать пять лет тому назад.
Клервилля Муся видела довольно редко. Он сделал им визит, был с Мусей на выставке «Мира искусства», слушал с ней Шаляпина в опере у Аксарина. После третьей встречи с английской легкостью в сближении он попросил разрешения называть ее по имени и произносил ее имя забавно старательно. Это очень ее удивило, она думала, что все англичане «чопорны». Слово «Вивиан» звучало волшебно. Клервилль был не только красавцем. Он оказался милым, любезным, обаятельным человеком. «Умен он или нет?» – не раз спрашивала себя Муся, и вначале ей было трудно ответить на этот вопрос: Клервилль, очевидно, не был умен в том смысле, в каком были умны сама Муся, Глаша или Никонов. Но Муся догадывалась, что в этом смысле Гете, Наполеон, Пушкин тоже не были, пожалуй, умны. Муся скоро все узнала о Клервилле, о его родных, о его планах. Как-то в присутствии ее матери он упомянул о том, что не богат. Это несколько расхолодило Тамару Матвеевну, она сама начинала неопределенно думать о Клервилле. Ей, впрочем, объяснили, что в Англии человек, имеющий состояние в сто тысяч фунтов, не считает себя богатым. Мусе теперь было почти безразлично, богат ли или не богат Клервилль. Ее гораздо больше беспокоил вопрос, зачем он сказал об этом, надо ли отсюда заключить, что он «сделает ей предложение» (это слово, прежде неприятное Мусе, теперь звучало иначе). Клервилль не делал предложения, но после спектакля Муся почти не сомневалась в том, что он предложение сделает.
Она не могла привыкнуть к этой мысли. В их кругу никто никогда не выходил за англичанина. Клервилль в разговоре упомянул о том, что его, быть может, пошлют после войны в Индию. Муся не представляла себе жизни вне Петербурга и невольно улыбалась, воображая себя в Бомбее женой боевого английского офицера. Но и в этой мысли было что-то, волновавшее Мусю, она, смеясь, говорила друзьям, что родилась с душой авантюристки. «Неужели, однако, всю жизнь говорить с мужем на чужом языке?.. Да правда ли еще, что он влюблен?.. Но когда же, когда? Говорят, война скоро кончится… Это, однако, говорят уже три года…» Муся вспомнила частушку, которую газеты откопали где-то в Рязанской губернии:
Девки, очень я сердита
На германца сатану!
Дролю отдали в солдаты
И угнали на войну…
Муся с сочувственной улыбкой думала о «девке», которая тосковала по дроле. Ей была приятна мысль, что она сама похожа на эту девку, и она от всей души желала ей найти с дролей счастье.
Семен Исидорович ничего не знал о новом увлечении Муси. Тамара Матвеевна едва догадывалась, она в мыслях примеривалась ко всем неженатым мужчинам, бывавшим у них в доме. Родителей Муси все еще занимала мысль о Нещеретове. Однако здесь их постигло разочарование. Нещеретов был любезен, но решительно ничто не свидетельствовало о его увлечении Мусей. Им вдобавок сообщили, что Аркадий Николаевич стал часто бывать у госпожи Фишер. «Очень нужно было его с ней знакомить», – с досадой думал Кременецкий. Он вообще был недоволен своей клиенткой, как и ходом ее иска. Дело Загряцкого было направлено к доследованию. В связи с этим какие-то темные слухи поползли по Петербургу. Но в те дни ходило по столице так много самых удивительных слухов, что им большого значения не придавали.
У Кременецких в феврале бывало особенно много гостей, частью в связи с предстоявшим торжественным днем, частью оттого, что в их доме всегда рады были гостям и не жалели денег – из-за росшей дороговизны многие в Петербурге начинали сокращать расходы. Настроение в столице, несмотря на войну и тяжелые слухи, было после убийства Распутина необыкновенно приподнятое и радостное. Особенно оживлена была молодежь, точно гордившаяся бессознательно тем, что историческое убийство, столь нашумевшее во всем мире, совершили блестящие молодые люди.
Муся часто выезжала в театр. В театрах тоже шли очень веселые пьесы – где «Наша содержанка», где «Веселая вдова», где «Любовь… и черти… и цветы». После спектакля она нередко заставала дома гостей. Ужинали в два часа ночи «чем Бог послал», как неизменно говорил Кременецкий. Кружок Муси имел текучий состав и часто совершенно изменялся в течение года. Теперь в него входили преимущественно участники их любительского спектакля. Молодежь собиралась отдельно, мостом между нею и старшими был князь Горенский. К старшим Муся редко выходила надолго и в своем кружке, когда ее звали в гостиную к Тамаре Матвеевне, со вздохом, закатывая глаза, терла пальцем щеку, что по-парижски должно было означать «La barbe!»[48]48
«Скучища!» (фр.)
[Закрыть] (Муся знала argot лучше уроженцев Монмартра). Для некоторых старших она, впрочем, делала исключение, в особенности для Брауна: почему-то он ее интересовал и даже немного беспокоил.
Зимой в комнате Муси по ее просьбе был поставлен отдельный телефон. Аппарат стоял на письменном столе, так что Муся могла разговаривать, сидя в своем любимом атласном кресле. Телефонные разговоры поздним вечером, когда в доме и на улице устанавливалась тишина, стали новым удовольствием Муси. Без всякого дела она вызывала – кого было можно – в двенадцатом, в первом часу ночи и болтала подолгу, часто дурача собеседника. Она по телефону говорила негромко, особенно отчетливо, и ей приятно было слушать красивый, выразительный звук своего голоса. Что-то в этом напоминало хороший модный театр.
Как-то раз, набравшись храбрости, Муся вызвала по телефону Клервилля. Она давно собиралась пригласить его на банкет. Кружку Муси было отведено место в конце последнего бокового стола. Этим подчеркивалось, что они свои люди и что для них в отличие от остальной публики не могло иметь значения, где сидеть. Муся шутливо называла его Камчаткой. Разумеется, для нее самой место было отведено там же, а не рядом с родителями, как предлагала Тамара Матвеевна. «И вот еще что, друзья мои, – объявила Муся незадолго до праздника, – так как, между нами, будет, верно, очень скучно, то мы оттуда едем все на острова! Идет?» Это предложение было немедленно принято: Никонов взял на себя заказать тройки – по просьбе дам не розвальни, а обыкновенные четырехместные сани. Тамара Матвеевна вначале слабо возражала, что не совсем прилично ехать на острова дочери с банкета в честь отца, гораздо лучше было бы им втроем вернуться из ресторана домой и еще потом посидеть немного, поболтать, обменяться впечатлениями в семейном кругу. Но обмен впечатлениями в семейном кругу не соблазнил Мусю, и Тамара Матвеевна уступила.
– Может быть, тогда и Нещеретов с вами поедет? – вскользь осведомилась она.
– Нет, Нещеретов с нами не поедет, – сердито ответила Муся.
– Вот ты хочешь сидеть на банкете Бог знает где… Если уж не с нами, то не лучше ли, тебе отвести двадцать второй номер? Он еще свободен, это рядом с Аркадием Николаевичем… Он такой приятный собеседник, а?
Муся хотела было огрызнуться, но ей пришло в голову, что Клервилля никак нельзя будет посадить с молодежью на Камчатку. «Как я раньше не сообразила!» – с досадой подумала она.
– Нет, двадцать второго номера я не хочу, – сказала Муся. – Но мы действительно неудачно выбрали место… Я думаю, нам лучше быть за первым столом или около него. Так в самом деле будет приличнее, я скажу Фомину.








