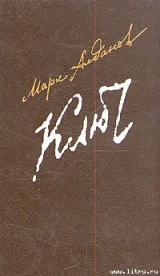
Текст книги "Ключ"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
XV
– В сотый раз говорю: не засиживаться так поздно, самой себя стыдно, ей-Богу, – сказала Наталья Михайловна, как только полуодетый швейцар, не смягченный полтинником Николая Петровича, сердито затворил за ними дверь.
– Что ж, было очень приятно, они все-таки хорошие люди, – лениво отозвался Яценко, поднимая воротник.
– Папа, вы, кажется, мало дали швейцару.
– Ты сколько дал? Полтинник? Предостаточно. Этак от всех ему сколько набежит… Тебе когда завтра на службу? В котором часу проклятый допрос?
– Днем. Успею выспаться, – нехотя ответил Яценко, недовольный тем, что жена его вмешивалась в служебные дела.
– А уж тебе, Витя, совсем ни к чему ложиться с петухами. Вот ведь завтра опять в училище не пойдешь…
– Что?.. Да… Ничего, мама, – сказал рассеянно Витя.
Он был очень взволнован. «Неужели влюбился? Неужели это так может быть?» – спрашивал он себя. Муся на прощание крепко пожала ему руку и спросила, примет ли он участие в их любительском спектакле, если спектакль состоится. «Я буду счастлив!» – сказал Витя. «Неужели будет спектакль? Тогда на репетициях будем видеться постоянно…» Витя чувствовал себя к концу вечера победителем, от его смущения не оставалось и следа. Этот вечер начинал его карьеру светского человека.
– Извозчик! – закричал Яценко. – Извозчик!.. Поместимся на одном?
– Вы с мамой поезжайте, а я пешком приду… Хочется пройтись…
– Ну вот, оставь, пожалуйста! Незачем тебе в шестнадцать лет одному прохаживаться ночью по улицам…
Сзади блеснул свет, дверь снова отворилась, на улицу вышел Браун, за ним Клервилль. «Кажется, не могли услышать», – тревожно подумал Витя. Яценко приподнял меховую шапку в ответ на их поклон и сказал: «Мое почтение». Витя сорвал с себя картуз и высоко помахал им в воздухе. Англичанин раскуривал папиросу. Витя почти весь вечер, с отъезда Шаляпина, с восторженной завистью следил за майором Клервиллем. Он никогда не видел таких людей. Фигура англичанина, его уверенные точные движения, его мундир с открытым воротником и с галстухом защитного цвета, все казалось Вите необыкновенным и прекрасным. Он вообразил себя было английским офицером – не вышло, да и извозчик подъехал. Николай Петрович помог жене сесть в дрожки. Витя покорно полез за ними и кое-как поместился посредине. «Точно на руках… – скользнула у него неприятная мысль. Он вдруг перестал сознавать себя светским человеком и почувствовал еще большую, чем обычно, зависть к взрослым свободным людям. – Может, они вовсе и не домой теперь, а куда-нибудь в такое место…»
– По Пантелеймоновской прямо, – сказал извозчику Николай Петрович.
– Любили ли вы этот вечер? – спросил майор Клервилль, продолжая говорить по-русски, как в течение всего приема.
Англичанин был в возбужденно-радостном настроении, почти в таком же, как Витя.
– Любил, – мрачно ответил Браун.
– Этот человек Шаляпин! Я восхищаюсь его… Идем пешком в отель!
– Что? Что вы говорите? – вздрогнув, спросил Браун, точно просыпаясь.
Англичанин посмотрел на него с удивлением.
– Я говорю, может быть, нам немного гулять пешком?
– Нет, я устал, пожалуйста, извините, меня, – ответил Браун по-английски. – Я поеду.
Они простились.
Ночь была лунная, светлая и холодная. Клервилль с папиросой во рту шел быстрым крупным шагом, упруго приподнимая на носках свое усовершенствованное мощное тело. Он сам не знал, отчего был так бодр и весел: от шампанского ли, оттого ли, что шла великая, небывалая война за правое дело, в которой он, английский офицер, с достоинством принимал участие на трудном, ответственном посту, или оттого, что ему так нравились снег, морозная ночь и весь этот изумительный город, не похожий ни на какой другой. «Та девочка, бесспорно, очень мила». Здесь что-то было, впрочем, не совсем в порядке в мыслях майора Клервилля, но ему было не вполне ясно, что именно. «Шаляпин пел изумительно, другого такого артиста нет на земле. – Клервилль был рад, что видел вблизи Шаляпина и обменялся с ним несколькими словами. – Доктор Браун явно не в духе и даже не слишком любезен, однако он замечательный человек. Хозяева очень милы, особенно эта барышня… Но ведь Биконсфильд тоже был еврей и граф Розбери женат на еврейке», – неожиданно ответил майор Клервилль на то, что было не совсем в порядке в его мыслях. Он остановился, пораженный, и громко расхохотался: так смешна ему показалась мысль, что он может жениться на русской барышне, да еще на еврейке, да еще, во время мировой войны. «Что сказали бы в Bachelor’e?» – спросил себя весело Клервилль. Слева от него под фонарем у ворот, на уступе странно загибавшейся здесь улицы два человека в военной форме, вытянувшись, смотрели на него с изумлением. Майор нахмурился, отдал честь и прошел дальше. Открылась широкая река. За мостом было пусто и мрачно. Сбоку темнели огромные дворцы. «Fontanka gale»[23]23
Ворота Фонтанки (англ.)
[Закрыть], – тотчас признал майор, останавливаясь снова и вынимая изо рта папиросу. Слева, чуть поодаль, в одном из дворцов кое-где таинственно светились в окнах огни. Клервилль слышал, что это какой-то исторический дворец, притом, кажется, с недоброй славой, вроде Worwick Castle или Holyrood Palace[24]24
Варвикский замок – средневековый замок в Англии, место преступлений; Холирудский дворец – в Шотландии, там был убит любовник Марии Стюарт.
[Закрыть]. Но что именно здесь происходило когда-то, что было здесь теперь, этого Клервилль не помнил и с любопытством влядывался в красные огоньки дворца.
XVI
Яценко остановился перед аптекой, светившейся желтыми огнями, расстегнул шубу и не без труда вытащил из жилетного кармана часы. До начала допроса оставалось еще часа полтора. «Что же теперь делать?.. Домой идти не стоит», – сказал себе Николай Петрович. За стеклом радовали глаз огромные бутылки с синей и темно-розовой водою. «Есть в этом какая-то таинственность, даже поэзия», – нерешительно подумал Николай Петрович. Многочисленные, сверкающие огнем склянки, трубки, баночки и особенно эти огромные бутыли странной формы и непостижимого назначения шевелили приятные воспоминания в душе Николая Петровича. «Гематоген доктора Гомеля… – рассеянно прочел Яценко. – Что-то вчера рассказывал смешное этот чудак Никонов… Ах да, его гомельский клиент… Formol…[25]25
Формалин (фр.)
[Закрыть]» Николай Петрович вдруг поморщился, точно вновь услышал запах формалина, карболки и чего-то еще, стоявший в анатомическом театре во время вскрытия тела Фишера. Дама с озабоченным видом вышла из аптеки, неестественно держа в руке пузырек, завернутый в белую бумагу с торчащей лентой рецепта. За аптекой начинался длинный хвост людей, тянувшийся к лавке съестных припасов. Стоявшая последней в хвосте, плохо одетая женщина с усталым и наглым лицом смотрела исподлобья на даму, на барина в шубе. «Да, им еще хуже нашего, все меньше становится продуктов», – подумал, отходя, следователь.
У Яценко не было состояния; он жил исключительно на жалованье, и сводить концы с концами становилось все труднее. Хотя Николай Петрович нисколько не был скуп, с женой, с Витей уже бывали разговоры о расходах и необходимости соблюдать строгую экономию. От этих разговоров Яценко испытывал чувство унижения, которое тщетно пытался сам себе объяснить. «Конечно, бедность не порок, это и повторять смешно… Но все-таки неловко, нет, хуже чем неловко: прямо стыдно, что я, седой человек, за двадцать пять лет, работая как каторжник, не скопил ровно ничего… Тысяч пятнадцать, пожалуй, можно было скопить, если б жить расчетливей…» Впрочем, Николай Петрович всегда жил достаточно расчетливо, да и трудно было жить иначе при его четырехтысячном жалованье. «Теперь Наташа во всем себе отказывает, ни туалетов, ни драгоценностей, ничего у нее нет, – подумал печально Яценко. – Вчера у Кременецких все были наряднее, чем она… Да и Витя не очень-то роскошествует на пять рублей в месяц…» Сам Николай Петрович целый год не заказывал себе платья, не покупал больше книг и старался быстрее проходить мимо витрин книжных магазинов. Вернувшись осенью с дачи, Наталья Михайловна предложила мужу отпустить горничную, а кухарку сделать «одной прислугой». Это предложение означало бы предел бедности, и Николай Петрович велел жене «не выдумывать». Но цены все росли, жалованья не прибавляли, и теперь Яценко ждал, что жена опять об этом заговорит. Он тяжело вздохнул. «Разве к антиквару зайти, отсюда два шага», – пришла мысль Николаю Петровичу. У антиквара Яценко не боялся соблазнов, так все там было недоступно для него по ценам. Но ему неловко было часто заходить в магазин, где он никогда ничего не покупал.
Магазин этот в последнее время вошел в моду. В двух густо заставленных комнатах было все: гравюры, картины, фарфор, безделушки, книги. Всего больше было старинной мебели. Спрос на все старинное рос беспрерывно. «Журнал красивой жизни» имел в обществе огромный успех, и люди, желавшие красиво жить, собирали трубки, табакерки, миниатюры, фарфор, коробочки, первые издания книг и делали на толкучем рынке самые изумительные находки. Не было ни одного хорошего дома, ни одного модного романа без карельской березы, резного дуба, «пузатых комодов» и «золоченой гарнитуры» (полагалось говорить в женском роде: гарнитура).
В магазине у Яценко оказались знакомые, которых он накануне видел на приеме у Кременецкого: Фомин и князь Горенский. Молодой адвокат, то отступая на шаг, то приближаясь, рассматривал висевший на стене портрет красивой дамы в бледно-зеленом платье.
– Неплохая, неплохая штучка… По-моему, это Иван Никитин позднего периода, – говорил Фомин. – Есть в этой фигуре какая-то пасторальная взволнованность Louis XV, правда, князь?.. Я голову на отсечение дам, что это времен Анны Иоанновны…
Фомин считал Людовика XV сыном Людовика XIV, а Анну Иоанновну немкой, не то курляндской, не то какой-то другой. Однако он собирал старинные вещи и считался их знатоком. Кременецкий в салонных разговорах при случае рекомендовал Фомина как «взыскателя старины, страстно в нее влюбленного»… Семен Исидорович и своего Николая Зафури купил по совету Фомина. Мебель у Кременецкого была style moderne, но он отдавал должное духу времени и, услышав от помощника о Николае Зафури, сразу по интонации почувствовал, что, если такую штуку предлагают за двести пятьдесят рублей, нужно, не разговаривая, выложить деньги.
– Есть, есть взволнованность, – подтвердил князь, впрочем, вполне равнодушно.
– А, Николай Петрович, – сказал Фомин, увидев входившего Яценко. – Тоже бываете в этой обираловке?
– Меня не очень-то оберут, – ответил, улыбаясь, следователь. – Картины покупаете, Платон Иванович?
– Платон Михайлович…
– Простите, Платон Михайлович… Это ведь в «Горе от ума» Платон Михайлович?..
– Нынче ничего не куплю. А вот на днях купил, и за гроши, за триста рублей, Андрея Матвеева, ni plus ni moins! Entre nous soit dit, j’ai roulé le bonhomme[26]26
Не больше, не меньше! Между нами говоря, я облапошил этого господина (фр.)
[Закрыть], – сказал Фомин, показывая глазами на подходившего антиквара. Николай Петрович нахмурился: он никогда не слышал об Андрее Матвееве и триста рублей для него отнюдь не были грошами. Впрочем, он догадывался, что это не гроши и для Фомина. Молодой адвокат не нравился Николаю Петровичу. «И очень уж плюгавый, как, кажется, почти все они, эстеты», – неожиданно обобщил Яценко.
– Ваше превосходительство давно к нам не захаживали, – сказал следователю хозяин, сутуловатый и кривой человек в запыленном пиджаке, с узеньким, съехавшим набок черным галстуком.
– Что ж у вас время отнимать? Ведь вы знаете, я ничего не покупаю – не по карману.
– Зачем покупать? Покупать не обязательно. Всегда рады такому гостю. Иной раз нам и продавать не хочется. Вот Платону Михайловичу все чуть не даром отдаю…
– Знаем мы вас, – сказал Фомин, очень довольный. На лице у хозяина появилась хитрая улыбка.
– Как ваше превосходительство заняты сейчас одним делом, в газетах пишут, – сказал он, – то разрешите обратить внимание на эту штучку.
Он снял с полки тяжелый серебряный канделябр и не без труда поставил его на стол.
– В чем дело?
– Это шандал из того дома, где был, сказывают газеты, убит господин Фишер. Дом этот принадлежал господам Баратаевым, угасший дворянский род. Я купил шандал на аукционе, года четыре будет тому назад, у последнего в роде по женской линии. Как этот дом достался купцу, тот этаж надстроил и весь дом разбил на квартиры, так что от него, проще говоря, ничего не осталось. А прекраснейший был дом.
– Вот как, – с удивлением сказал Яценко.
– Это какие же Баратаевы? – озабоченно спросил князя Фомин. – Баратаевы, как Фомины, есть настоящие и не настоящие…
– А кто их знает, я его пачпорта не видел, – сказал князь. Фомин подумал, что слово «пачпорт» нужно будет усвоить: князь, как его предки, говорил «пачпорт», «гошпиталь», «скрыпка».
– Интересное это дело Фишера и характерное, – сказал князь. – Характерное для упадочной эпохи и для строя, в котором мы живем.
– Я наш строй не защищаю, – сказал Яценко, – но при чем же он, собственно, в этом деле?
– Как при чем? На правительственный гнет страна отвечает падением нравов. Так всегда бывало, вспомните хотя бы Вторую империю. Поверьте, общество, живущее в здоровых политических условиях, легко бы освободилось от таких субъектов, как Фишер.
Яценко не стал спорить. На него вдобавок, как почти на всех, действовал громкий трещащий голос Горенского, его резкая манера разговора и та глубокая уверенность в своей правоте, которая чувствовалась в речах князя даже тогда, когда он высказывал мысли, явно ни с чем несообразные.
– Наш Сема спит и во сне видит, как бы заполучить это дельце, – сказал Фомин, слушавший князя с тонкой усмешкой.
Николай Петрович ничего не ответил. Он не любил шуточек над людьми, в доме которых бывал.
– А книг у вас, верно, прибавилось? – спросил Николай Петрович хозяина и, простившись со знакомыми, направился во вторую комнату магазина.
– Обратите внимание, там чудесный Мольер издания тысяча семьсот тридцать четвертого года, – сказал ему вдогонку Фомин. – Знаете, то издание, ну просто прелесть. Николай Петрович кивнул головой и скрылся за дверью. Во второй комнате от вещей было еще теснее, чем в первой. Яценко взял со стола фарфоровую девицу с изумленно-наивным выражением на лице, погладил ее по затылку, бегло взглянул на марку и поставил девицу назад. Перелистал гравюры в запыленной папке, затем раскрыл наудачу одну из книг. Это было старое издание стихов Баратынского, его недавно кто-то вновь открыл. Николай Петрович прочел:
И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Жарким сердцем покоримся
Думам хладным, а не им…
«Как же это понимать? – спросил себя Николай Петрович, не сразу схвативший смысл стихов. – Думам покориться или снам?.. Да, по улыбчивым снам и жить бы, а не вскрывать разлагающиеся тела…»
Верьте сладким убеждениям
Нас ласкающих очес
И отрадным откровениям
Сострадательных небес…
Слово «очес» тронуло Николая Петровича, стихи его взволновали. «В самом деле, поехать бы туда, под сострадательные небеса, в Испанию, что ли?» Яценко никогда не бывал в Испании и представлял ее себе больше по «Кармен» в Музыкальной драме. Но Ривьеру он видал и любил. В памяти Николая Петровича проскользнули жаркий свет, кактусы, бусовые нити вместо дверей, малиновое мороженое с вафлями, женщины в белых платьях, в купальных костюмах – полная свобода от забот, от дел, от семьи… Наталья Михайловна и Витя вдруг куда-то исчезли. Яценко побывал в Монте-Карло года за два до войны, проиграл там семьдесят пять рублей и был очень недоволен собою. Наталья Михайловна придумывала для игорного дома самые жестокие сравнения: называла его и позором цивилизации, и раззолоченным притоном, и болотным растением, и пышным махровым цветком – почему «махровым», этого она, вероятно, не могла бы объяснить. Но теперь, на расстоянии, и раззолоченный притон был приятен Яценко. Ему вспомнились сады из непривычно прекрасных змеистых растений, здания нежного желтовато-розового тона с голубыми куполами, с причудливыми окнами, балконами, статуями, в том стиле, над которым принято было смеяться как над вполне безвкусным и который Николай Петрович в душе находил приятным и своеобразным. «Хоть книгу купить и на досуге вечером почитать стихи…» На переплете изнутри была написана карандашом цена: 20, с какой-то развязной скобочкой. «Четырехмесячное „жалованье“ Вити, все развлечения мальчика за треть года», – подумал со вздохом Николай Петрович. Он положил книгу на место и вышел из магазина.
XVII
Швейцар у вешалки первого этажа радостно-почтительно приветствовал Николая Петровича. Осанистый, дородный адвокат с нетерпением на них поглядывал. Только повесив шубу Яценко и убрав в стойку его калоши с отскочившей вкось буквой «Я», швейцар обратился к адвокату. Монументальный адвокат оставлял на чай щедрее, чем следователь, но швейцар делал поправку на огромную разницу в их средствах.
Яценко неторопливо поднялся по лестнице, ровно-любезно здороваясь со знакомыми. В ярко освещенном здании суда было очень много людей. На площадке второго этажа следователя задержали сослуживцы, выходившие из гражданского отделения. Пребывание в суде, где все его очень уважали, было неизменно приятно Николаю Петровичу. Он любил суд, считал общий тон его чрезвычайно порядочным и джентльменским, возмущался нападками на судей, попадавшимися и в передовой, и в реакционной печати. Поговорив с приятелями, Николай Петрович поднялся в прокурорский коридор, где находился его кабинет, и поздоровался со своим письмоводителем, Иваном Павловичем.
– Владимир Иванович звонил, что никак не может нынче быть, просил его не ждать, – сказал письмоводитель. Яценко кивнул головою. Владимир Иванович был товарищ прокурора, наблюдавший за делом Фишера, Николай Петрович предпочитал вести допрос без свидетелей. Он часто обходился даже без письмоводителя и сам отстукивал показания допрашиваемых на пишущей машине. Это было его нововведением, которого письмоводитель не одобрял. Теперь Ивану Павловичу особенно хотелось присутствовать при допросе.
– Здесь вас этот ждет, Антипов, – сообщил письмоводитель. – Если правду говорить, сыскное отделение могло бы поручить розыск по такому делу чиновнику для поручений, ведь Антипов без всякого образования человек, простой надзиратель… Для научного розыска необходимы люди с известной научной дисциплиной.
– Он у них, говорят, новое светило. Пожалуйста, позовите его.
Сыщик вошел с веселой улыбочкой, окинул быстрым взглядом комнату и поклонился.
– Честь имею кланяться, – сказал он.
«Говорит: „честь имею кланяться“, а так нагло-фамильярно, точно „наше вам с кисточкой“, – сразу раздраженно подумал Яценко.
– Здравствуйте, – сухо ответил он. – Что скажете?
– Презумпция остается прежняя: не иначе, как тот тип Загряцкий эту штучку сделал. Больше некому!
– Есть новые данные?
– Я так скажу, учитывая факты: девочек на этот раз у Фишера не было, не вышел номер. Та баба, Дарья Петрова, прямо говорит: не было. Когда бывали, то часам к девяти приезжали и она всегда видела – бабье любопытство, известное дело, – вставил игриво сыщик. – А теперь, нет, не видала. И другую прислугу в доме я спрашивал, никто не видал.
– Да ведь Дарья Петрова Загряцкого тоже не видала и думала, что Фишер ушел… Что же это доказывает? Она могла и не заметить, как пришли женщины.
– Насчет Фишера она, ваше превосходительство, потому так полагала, что ночью всегда можно незаметно уйти; надо ведь учитывать, что ночью люди простого положения спят. А вечером за женщинами она всегда следила… Не было женщин! – решительно сказал Антипов. – И по комнате видно, что не было. Не успел, значит, он их вызвать, как тот фрукт его прихлопнул.
– Он их как вызывал? По телефону?
– Должно быть, что по телефону… Никто как Загряцкий убил, ваше превосходительство. И грабежа тут никак быть не могло. Я в гостинице и по ресторанам информировался: никогда Фишер денег при себе не держал, разве сотню-другую. Он и в гостинице чеками платил.
– Однако писем госпожи Фишер вы у Загряцкого не нашли. Следовательно, наглядных доказательств их связи нет. А без этого мотив преступления непонятен.
– Про мотив, ваше превосходительство, и без писем известно. У кого хотите в их квартире спросите: жил он с ней? Всякий скажет: а то как же? Понятное дело, жил. Он с ней и в Крым ездил. Это надо учитывать.
– Дактилоскопические снимки с бутылки готовы?
– Обещали в сыскном к шести приготовить, да, верно, надуют, – с внезапной злобой сказал Антипов. – Я сейчас туда иду. Покорнейше прошу, ваше превосходительство, не отпускайте вы этого фрукта…
– Я уже сказал вам, что арест будет зависеть от результатов допроса. Точно вы не знаете закона.
Антипов выслушал слова о законе с унылым выражением на лице, ясно говорившим: ни к чему эти пустяки.
– Вдруг он докажет, что был в момент преступления в другом месте? Как же я его арестую?
– Алиби? – оживился Антипов. – Не докажет, ваше превосходительство, Антипов вам говорит: не докажет. Я последний дурак буду, если докажет!
– А не докажет, так мы посмотрим… Вы сейчас идете в сыскное отделение? Прошу вас прямо оттуда вернуться сюда, наверное, нужно будет проверить его показания. Иван Павлович, как только господин Антипов вернется, дайте мне знать…
– Слушаю-с.
Антипов удалился. Письмоводитель с улыбкой глядел ему вслед.
– Хороший они тоже народ, – сказал он. – А ведь Загряцкий будет упираться, Николай Петрович?
– Что?.. Да, вероятно, – ответил рассеянно Яценко.
– Трудное положение, – сказал письмоводитель, интересовавшийся психологией. – За границей, я слышал, их измором берут: круглые сутки допрашивают, напролет, пока не сознается. Сами сменяются, а ему спать не дают.
– Не знаю, как за границей, не думаю, чтобы это так было, хоть и я такие рассказы слышал. У нас, во всяком случае, эти способы не допускаются, и слава Богу.
– Я потому говорю, что здесь сложное и показательное психологическое явление. В самом деле, как быть, если он упрется: не хочу показывать, устал, завтра приходите. Ведь тогда следователь будет в дураках: не пытать же его… А между тем факты свидетельствуют, преступники этого не говорят. Или расцените, Николай Петрович, явление сходного порядка: военнопленных. В газетах мы постоянно читаем: пленные показали то-то и то-то, где у них какие части стоят. Почему они показывают? Ведь не изменники же они и не ребята и пытать их тоже не пытают.
– Да, непонятная вещь, – сказал со вздохом следователь.
– Я думаю, психологический эффект, – объяснил письмоводитель. – Очень показательны факты, наблюдаемые в Америке: там следователь сидит наверху, а преступник внизу и должен смотреть вверх. Это тоже оказывает психологический эффект.
– Какой вздор! – сказал Николай Петрович. Он не верил в театральные приемы, не верил ни в высокое кресло, ни в лампу, которую ставят так, что ярко освещается лицо допрашиваемого, а допрашивающий остается в тени. Но разговор, поднятый письмоводителем, был неприятен Николаю Петровичу. Яценко имел большой опыт в своем деле и пользовался репутацией превосходного следователя. Тем не менее никакой теории допроса обвиняемого у него не было. Читая «Преступление и наказание», он находил, что в Порфирии Петровиче все выдумано: и следствие так, по-домашнему, никогда не ведется, и следователя такого не могло быть даже в дореформенное время. Однако самому Яценко случалось при допросах сбиваться на тон Порфирия Петровича; он видел в этом лишь доказательство того, как прочно засели книги великих писателей в душе образованных людей. Метод же пристава следственных дел в «Преступлении и наказании» Яценко считал совершенно неправильным. У Николая Петровича в ящике письменного стола уже больше года лежала тетрадь с начатой работой «Проблема гуманного допроса». Он предполагал прочесть на эту тему доклад в Юридическом обществе, но все не мог подвинуть работу, как ему казалось, по недостатку времени, на самом же деле потому, что никакого ответа на проблему гуманного допроса у него не было. Закон прямо запрещал следователю домогаться сознания обвиняемого при помощи разных ухищрений. Однако долгий опыт говорил Николаю Петровичу, что в громадном большинстве случаев при запирательстве преступника следователь должен прибегать к ухищрениям. Жизнь научила Николая Петровича устраивать допрашиваемым ловушки, но признать их гуманным способом допроса ему не позволяла совесть. Опыт говорил ему также, что в большинстве случаев при некотором уме и ловкости для преступника гораздо выгоднее упорное запирательство, чем чистосердечное признание вины. Между тем по своей должности Яценко вынужден был внушать преступникам обратное. Это, конечно, оправдывалось интересами правосудия и общества, но Яценко в таких случаях всегда чувствовал себя неприятно.
– Записывать сами будете, Николай Петрович? – спросил для верности письмоводитель, заметив, что следователь пододвинул к себе бумаги. – Так я вам пока не нужен?
– Нет, благодарю вас. Пожалуйста, дайте мне знать, как только приведут Загряцкого.
Оставшись один, Яценко взял лист бумаги и написал следующее письмо:
«Доверительно.
Ваше Превосходительство,
Милостивый государь,
Сергей Васильевич.
Согласно желания Вашего Превосходительства честь имею сообщить, что мною произведен осмотр сейфа, принадлежащего Карлу Фишеру. При этом выяснилось, что завещания Фишера там не имеется, как не имеется и никаких других бумаг. В сейфе оказались лишь различные драгоценные вещи и золотая монета на сумму двенадцать тысяч шестьсот (12 600) рублей.
Равным образом уведомляю Ваше Превосходительство, что в Военно-медицинской академии в моем присутствии полицейским врачом произведено вскрытие тела Фишера. Вскрытие это выяснило с несомненностью, что смерть последовала от отравления ядом. Химический анализ внутренностей, а равно и жидкостей, найденных на столе в комнате, в которой было обнаружено тело, еще не закончен. Протокол вскрытия, составленный мною с приобщением специального протокола врача, может быть предъявлен Вашему Превосходительству, буде Ваше Превосходительство усмотрите в этом необходимость.
Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в моем совершенном уважении и преданности».
Яценко прочел про себя письмо и остался доволен. Тон был вполне официальный. Это подчеркивалось родительным падежом после «согласно» и особенно словом «буде». «Буде», может быть, и слишком», – подумал Николай Петрович. Он немного пожалел, что вставил в заключительную фразу слово «преданность». Было достаточно и «совершенного уважения». Но переписывать письмо Николаю Петровичу не хотелось. Яценко запечатал конверт, надписал адрес, затем снял клеенчатый чехол с пишущей машинки и бережно придвинул ее к себе. Он очень любил свой «ремингтон» и содержал его в большой чистоте, все в машинке так и блестело. Николай Петрович достал из ящика новую синюю папку с черной четырехугольной каемкой. На ней было напечатано: «Дело судебного следователя по важнейшим делам Петербургского окружного суда №…» Яценко не без труда ввел папку под валик и, подогнав каретку, проставил на точках за значком № число 16, затем тремя строчками ниже простучал большими буквами: Дело о смерти Карла Фишера
Буква «ш» была слегка засорена. Николай Петрович заботливо прочистил ее иголкой, вынул папку из-под валика и вложил в нее все скопившиеся по этому делу бумаги, начиная с прокурорского предложения, которым ему передавалось дело. При этом Николай Петрович еще раз пробежал некоторые из бумаг. Он к трудным допросам готовился серьезно и план всегда вырабатывал заранее. На этот раз план у него был уже готов. Для памяти Яценко наметил на клочке бумаги пять основных пунктов допроса:
Отнош. с Фиш. Векс,
„ „женой Фиш.
«Там, где всегда».
Ключ.
Alibi.
Порядок этих пунктов был не вполне ясен Николаю Петровичу. Впрочем, он имел обыкновение вначале вести допрос «начерно», не углубляясь в ответы, и лишь потом сосредоточивал внимание на главных пунктах. Но для допроса начерно нужна была система.
В дверь постучали.
– Привели, – взволнованно сказал письмоводитель.
– Отлично. Пусть войдет. И вот что еще. Иван Павлович: это письмо, будьте добры, сейчас отправьте с курьером по адресу.
– Слушаю-с.
Письмоводитель взял письмо, прочел адрес на конверте, и, повторив не без удивления «слушаю-с», вышел из кабинета.








