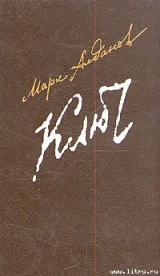
Текст книги "Ключ"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
VIII
Hall гостиницы «Палас», ярко освещенный люстрами, был переполнен. Столики сияли белоснежными скатертями, серебром. Скрипач, толстый румын с потным, оливкового цвета лицом, черно-синими волосами, на бойкой руладе оборвал модную песенку и, радостно оглядев публику, заиграл румынский гимн. Никто не поднялся. Послышался смех. Скрипач раздул черные ноздри и возвел глаза к люстре. Но, по-видимому, не слишком обиделся и принял смех как должное.
По лестнице в шубе, опираясь на палку, спустился Браун и прошел мимо hall’a. Мальчик в курточке с золочеными пуговицами повернул перед ним вертящуюся дверь. Подуло сырым холодным ветром.
На мачте Зимнего дворца ветер трепал штандарт. У колонн по сторонам от главных ворот замерли великаны часовые. Браун приблизился к дворцу и пошел к Зимней канавке. Снежная пыль, как стая мошек, вилась вокруг фонаря. Капли воды обрывались с краев герба, с фигур и ваз на карнизах, со сводов галереи. На набережной было темно и пустынно. Браун подошел к перилам и наклонился над водой. Затем торопливо вынул из кармана никелированный ключ, осмотрелся и швырнул его в воду.
IX
У известного адвоката Семена Исидоровича Кременецкого на большом приеме должны были сойтись не только присяжные поверенные, составлявшие его обычное общество, но также профессора, артисты, писатели, общественные деятели. Обещали приехать и несколько второстепенных сановников, склонявшихся к оппозиции с 1915 года. К Кременецкому, несмотря на его радикальные взгляды и на еврейское происхождение (он, впрочем, еще в ранней молодости принял лютеранскую веру), относились благосклонно многие сановники. Более умные из них находили, что либеральные убеждения почти так же обязательны при общественном положении Кременецкого, как консервативные взгляды в их собственном положении. Должен был прибыть на прием и видный член британской миссии в Петербурге майор Вивиан Клервилль, с которым недавно познакомился Кременецкий. Присутствие представителя союзных армий, как думал хозяин дома, сообщало особый характер вечеру, как бы намечая то, на чем сходились теперь сановники с радикальной интеллигенцией.
Кременецкий был сторонником войны до полной победы, хотя и не слишком верил в полную победу. Он смолоду учился в Гейдельбергском университете и вывез оттуда кроме обязательного для всех бывших гейдельбержцев запаса одних и тех же анекдотов о Куно Фишере еще и уверенность в несокрушимой мощи Германии. Но он придерживался союзной ориентации, немцев недолюбливал и считал их всех мещанами.
На приеме предполагалось и музыкальное отделение с участием передового композитора и певца, тенора частной оперы. Композитор играл бесплатно – он везде и всегда был рад исполнять свои произведения, а тем более на вечере у Кременецкого, который и в музыке придерживался передовых взглядов: говорил, что для него музыка начинается с Дебюсси. Певец же получал за свое выступление четыреста рублей, уже отложенных хозяйкой в конверт (его предполагалось сунуть после ужина певцу незаметно, хотя сумма эта была заранее точно установлена по телефону не без полушутливого торга – певец хотел пятьсот).
По случаю большого приема обед был подан раньше обычного и продолжался очень недолго. После обеда хозяин, высокий, грузный и рыхлый блондин, походивший на актера – любимца дам, второй раз в этот день выбрился в своей роскошной спальне перед огромным трехстворчатым зеркалом. Затем он надел, морщась, туго накрахмаленную белую рубашку и смокинг. Надевая брюки, он с неудовольствием заметил, что пуговицы сошлись на животе не очень легко, хотя смокинг был сшит недавно. «После войны сейчас же надо будет съездить в Мариенбад, – подумал он. – Хлеба, говорят, нужно есть меньше».
Несмотря на то, что скоро могли появиться первые гости, Кременецкий еще сел за работу, он работал в течение десяти месяцев в году по десять часов в день регулярно, чем крайне огорчал жену и наводил трепет на помощников. Семен Исидорович прошел в свой кабинет, обставленный в строгом деловом стиле. Вдоль стен тянулись шкапы с книгами преимущественно юридического и политического содержания в темных переплетах с инициалами С. К. внизу на корешках. На шкапах и на огромном письменном столе были расставлены фотографии виднейших судебных и политических деятелей с любезными надписями хозяину. Позади письменного стола, над длинной полкой с «Энциклопедическим словарем», зажатым между двумя бронзовыми львами, висел портрет госпожи Кременецкой работы известного художника, а на противоположной стене огромная фотография, изображавшая босого Толстого. Низенькая, заклеенная обоями, незаметная дверь вела в канцелярию (Кременецкий так называл комнату, где работали его помощники и переписчица).
В кабинете ничто не было изменено в связи с предстоящим приемом – он и в обычное время содержался в образцовом порядке. Только на камине стояли подносы с рюмками и несколько бутылок. Это было сделано по настоянию Кременецкого – его жена находила, что незачем подавать гостям спиртные напитки до ужина. «Это, если хочешь, даже и дурной тон», – сказала Тамара Матвеевна. Семен Исидорович не вмешивался в хозяйственную сторону вечера, всецело полагаясь на жену, которая имела довольно большой опыт. Кременецкий был уже несколько лет вполне обеспеченным, даже почти богатым человеком. На спиртных напитках он, однако, настоял.
«Дурной или не дурной тон, – сказал он не без раздражения, – а без алкоголя оживления не бывает и в самом лучшем обществе. Сделай, золото мое, как я говорю».
Его желание было, как всегда, тотчас исполнено. Тамара Матвеевна боготворила своего мужа и считала его первым человеком в мире.
Семен Исидорович сел за стол и придвинул папку, заключавшую в себе документы по громкому делу, по которому он должен был выступать в суде через два дня. Кременецкий часто вел политические процессы, выступал иногда и по гражданским делам, но настоящей его специальностью, по общему мнению адвокатов, были «дела на романтической подкладке». Таково было и это дело. Семен Исидорович внимательно перелистал документы. Он всегда очень добросовестно готовился к процессам, почти не делая разницы в этом отношении между богатыми и бедными клиентами. Своей карьерой он был обязан не только таланту, но и порядочности и корректности во всем. Читая записку своего помощника, Кременецкий тотчас заметил, что в ней не хватало ссылки на важное сенатское решение. «Ох, уж этот Никонов, – подумал он, – миляга парень, но звезд с неба не хватает…». Семен Исидорович для примера помощнику разыскал нужную справку и сам с особенным удовольствием вписал ее в дело полностью. Хотя сенатские решения обычно составлялись людьми враждебных ему взглядов, Кременецкий относился к этим решениям с большим уважением, даже с любовью, он вообще страстно любил все связанное с судом.
Вписав справку, Семен Исидорович стал мысленно воспроизводить свою речь, уже почти готовую. Он обладал замечательным даром слова и не заучивал речей наизусть, но некоторые наиболее эффектные места для громких процессов подготовлял и отделывал заранее. Речью своей он на этот раз был очень доволен. Кременецкий вполголоса, но выразительно прочел ее последние фразы.
– Господа присяжные заседатели! Вам известен великий завет, которым так справедливо гордится наша родина: «Правда и милость да здравствуют в судах…» – Он помолчал, затем заговорил снова проникновенно: – Священные слова, господа присяжные! Увы, слишком часто нам, при исполнении трудного, но и отрадного долга защиты, слишком часто нам приходится просить у вас милости для людей, вверивших нам свою судьбу и жизнь. И в милости, как известно, никогда не отказывает великодушный народ русский, сочувствующий всем несчастным, всем страждущим, всем угнетенным… – Он опять помолчал. – Но в этом деле, господа судьи, господа присяжные, нам нужна не милость, а правда, одна правда и только правда! Ибо женщина, которая вон с той деревянной скамьи со страстной надеждой и горячей мольбою взирает на вас, не повинна в инкриминируемом ей преступлении. Эту женщину за что-то неумолимо преследует фатум, мойра древних греков, рок, таинственную и жестокую поступь которого великой совестью своей так чутко понял и бессмертным пером так вдохновенно описал наш гениальный правдолюбец и правдоискатель Достоевский. Господа присяжные заседатели, вы протянете этой женщине руку помощи!.. Судьи народной совести, властью, данной вам Богом и людьми, вы защитите от злого рока несчастную!
«Плевако, Лабори лучше не сказали бы», – подумал Семен Исидорович. За этим местом явно должны были последовать бурные рукоплескания публики и угроза председателя очистить зал заседания. Кременецкий успокоение отложил папку, взглянул на стенные часы – было девять – и развернул лежавшую на столе вечернюю газету. Он начал читать сообщение генерального штаба, но как раз внизу страницы слева (хоть он вовсе туда и не смотрел) ему бросилась в глаза его собственная фамилия с инициалами имени-отчества. Семен Исидорович мгновенно оставил сообщение ставки. Речь шла об юбилее одного из его товарищей по сословию, старика без, большой практики, которого все любили и неизменно выбирали в совет за старость, честность и представительную наружность. В числе адвокатов, вошедших в комитет по устройству чествования, был назван С. И. Кременецкий, но его фамилия стояла на седьмом месте. «Может, по алфавиту?» – беспокойно спросил себя Семен Исидорович и стал проверять, припоминая порядок букв. Однако выходило не по алфавиту: П. Я. Меннер был назван на третьем месте. «Странная вещь, – подумал с неудовольствием Семен Исидорович, – ну, Якубович мог быть, пожалуй, назван раньше меня, если не по алфавиту, но уж никак не этот карьерист…» В той же газете Семена Исидоровича недавно назвали видным адвокатом – и этот эпитет чувствительно задел Кременецкого; обычно его в печати называли «известным», а в одной провинциальной газете, в городе, куда он выезжал для выступления в суде, было даже сказано «наш знаменитый петербургский гость». Семен Исидорович, хмурясь, вернулся к сообщениям с фронтов и быстро пробежал весь отдел «Война». Бои шли на Стоходе и у Крево… Вновь замечено употребление турками разрывных пуль… Подпоручик Шнемер сбил двадцать третий немецкий аэроплан… В общем, на фронте ничего особенного не случилось. Кременецкий вспомнил, что в скором времени предстоял его собственный двадцатипятилетний юбилей. «Это, конечно, как считать. Подогнать можно к сезону…» Семен Исидорович знал, что юбилеи почти никогда не организуются сами собой, по инициативе почитателей, и что заботиться о них необходимо либо самому юбиляру, либо его семье, меняется же только маскировка, от очень дипломатичной до очень грубой. «Ну, еще много времени», – подумал он и перевернул страницу газеты. На второй странице два столбца было отведено новым сведениям об убийстве Фишера. Сообщалось в довольно туманных выражениях, что задержан некий Загряцкий. Против него были серьезные улики. Кременецкий прочел все очень внимательно. Он был знаком с Фишером, как со всеми в Петербурге. Смерть банкира оставила его совершенно равнодушным: Кременецкий был не молод и не стар – успел привыкнуть к чужим смертям и еще не очень думал о собственной. Но ему страстно хотелось получить это дело. «Если уж не мне, то хоть бы Якубовичу досталось, а не Меннеру и не другим шарлатанам», – подумал он. Мысль эта взволновала Семена Исидоровича. Он встал и вышел из кабинета.
X
Гостиная, купленная за большие деньги в Вене после одного дела, на котором Кременецкий заработал сразу тридцать тысяч рублей, резко отличалась от кабинета по стилю. В этой огромной комнате были и американский белый рояль, и голубой диван с приделанными к нему двумя узенькими книжными шкапами, и этажерки с книгами, и круглый стол, заваленный художественными изданиями, толстыми журналами. На стенах висели рисунки Сезанна, не очень давно вошедшие в моду у петербургских ценителей. Была и коллекция старинных рисунков, на один из которых хозяин обращал внимание гостей, замечая вскользь, что это подлинный Николай Зафури. Еще в другом роде был будуар, расположенный между кабинетом и гостиной. Здесь все было чрезвычайно уютное и несколько миниатюрное: небольшие шелковые кресла, низенькие пуфы, качалка в маленькой нише, крошечная полка с произведениями поэтов, горка русского фарфора и портрет Генриха Гейне в золотой рамке венком, искусно составленным из лавров и терний. Мебели вообще было много, и, по расчету хозяев, они могли принимать до ста человек, перенося в парадные комнаты лучшие стулья из других частей квартиры. Впрочем, такие большие приемы устраивались чрезвычайно редко, а балов по случаю войны не давал никто.
В хрустальной люстре была зажжена половина лампочек. Поджидая хозяев, два помощника Кременецкого, свои люди в доме, вели между собой вечный разговор помощников присяжных поверенных. Один из помощников, Никонов, был во фраке, другой, Фомин, служивший в Земском союзе, в темно-зеленом френче, с тремя звездочками на погонах.
– Что же вы думаете о деле Фишера? Убил, конечно, Загряцкий, – сказал Никонов.
– Позвольте, во-первых, не доказано, что Фишер был убит. Экспертизы еще не было.
– Какое же может быть сомнение? Без причины люди не умирают…
– Умирают на шестом десятке от тех «petits jeux»[4]4
«маленькие шалости» (фр.)
[Закрыть], которыми занимался Фишер. А во-вторых, почему Загряцкий?
– Кто же другой? Другому некому.
– Позвольте, дорогой коллега, вы рассуждаете не как юрист. Onus probandi[5]5
Бремя доказательства (лат.)
[Закрыть] лежит на обвинении, разумеется, если вы ничего против этого не имеете.
– Да что onus probandi, – сказал Никонов. – Загряцкий убил, какой тут onus probandi! А вот что это дело от Семы не уйдет, это факт.
– Бабушка надвое сказала, и даже, passez-moi le mot[6]6
простите за выражение (фр.)
[Закрыть], не надвое, а натрое или больше: если вам все равно, есть еще и Якубович, и Меннер, и Герд, и Матвеев, не говоря о dii minores.[7]7
Здесь: люди, занимающие второстепенное положение (лат.)
[Закрыть]
– Нет, это дело не для них. Меннер хорош в военном. Якубович – да, пожалуй, при разборе улик Якубович на высоте. А все-таки, где яд, кинжал, револьвер, серная кислота, там Сема незаменим. Он вам и народную мудрость зажарит, он и стишок скажет, он и Грушеньку, и Настасью Филипповну запустит.
– Достоевского знает, как сенатские решения, – с уважением подтвердил Фомин.
– Если на антеллигентных присяжных, да со слезой, – никто, как Сема. Разве из Москвы Керженцова выпишут.
– Керженцев меньше, чем за пять, не приедет. Ему на славу наплевать. Il s’en fiche.[8]8
Ему наплевать (фр.)
[Закрыть]
– Ну, и три возьмет. С Ляховского всего две тысячи содрал.
– Позвольте, ведь это когда было? De l’histoire ancienne.[9]9
Древняя история (фр.)
[Закрыть] Теперь, Григорий Иванович, цены не те.
– А вот помяните мое слово, Семе достанется дело, и он выиграет, как захочет.
– Оратор Божьей милостью…
– Да, только ужасно любит «нашего могучего русского языка»…
Фомин сделал ему знак глазами. В гостиную вошла Муся, дочь Кременецкого, очень хорошенькая двадцатилетняя блондинка в модной короткой robe chemise[10]10
платье-рубашка (фр.)
[Закрыть] розового шелка, открывавшей почти до колен ноги в серебряных туфлях и в чулках телесного цвета. Фомин звякнул по-военному шпорами и зажмурил от восхищения глаза.
– Мария Семеновна, pour Dieu, pour Dieu, чья это creation[11]11
Ради Бога, ради Бога, чья модель? (фр.)
[Закрыть], – сказал он, неожиданно картавя. – Какая прелесть!..
Муся, не отвечая, повернула выключатель, зажгла люстру на все лампочки и подошла к зеркалу.
«Какой сладенький голосок, – подумала она. – И надоели его французские фразы…»
У нее был дурной день. Накануне, часов в десять вечера, она возвращалась домой пешком (ее только недавно стали отпускать из дома одну); к ней пристал какой-то господин и долго с шуточками вполголоса преследовал ее по пустынной набережной, так что ей стало страшно. Она «сделала каменное лицо» и зашагала быстрее. Господин наконец отстал. И вдруг, когда его шаги замолкли далеко позади нее, ей мучительно захотелось пойти с ним – в таинственное место, куда он мог ее повести, – захотелось узнать, что будет, испытать то страшное, что он с ней сделает… Она плохо спала, у нее были во сне видения, в которых она не созналась бы никому на свете. Встала она, как всегда, в двенадцатом часу. Днем то разучивала «Баркароллу» Чайковского, то читала знакомый наизусть роман Колетт, то представляла себе, как пройдет для нее вечер. Впрочем, от этого приема Муся ничего почти не ожидала.
– Который час? – спросила она, не оборачиваясь и поправляя прядь только что завитых волос. «Лучше было бы розу в волосы», – подумала она.
Фомин с удовольствием взглянул на простые черные часы, которые он стал носить на браслете, надев военный мундир.
– Neuf heures tapant[12]12
Ровно девять часов (фр.)
[Закрыть], – ответил он, незаметно оглядывая и себя через плечо Марии Семеновны. Он очень себе нравился в мундире. В зеркале отразилась фигура входившего Кременецкого. Он ласково потрепал дочь по щеке и сказал рассеянно: «Молодцом, молодцом… Очень славное платьице…» Никонов и Фомин улыбались. Семен Исидорович дружески с ними поздоровался.
– Ранний гость вдвойне дорог… Благодарствуйте, – сказал он (Кременецкий любил это слово).
– Мы о деле Фишера толковали, Семен Исидорович, – сказал Фомин. – Верно, вам придется защищать?
Беспокойство промелькнуло по лицу адвоката.
– Почему вы думаете? – быстро спросил он. – Я давеча читал… Будет, кажется, интересное дельце.
– По-моему, не может быть сомнений в том, что убил Загряцкий, – сказал Никонов. – Все улики против него.
Кременецкий и Фомин стали возражать. Газеты говорят о Загряцком, но настоящих улик нет.
– Дело ведет наш милейший Николай Петрович Яценко, очень дельный следователь, – сказал Кременецкий. – Он у нас нынче будет, жаль, что нельзя взять его за бока.
– Le secret professionnel, – торжественно произнес Фомин, поднимая указательный палец кверху.
– Когда выпьет крюшонцу, забудет про secret professionnel.
– Ну, он питух не из важнецких. Другой, когда выпьет, забудет, как маму звали, – сказал Семен Исидорович.
XI
Браун, несколько отставший за границей от петербургских обычаев, приехал на вечер в десятом часу. Тем не менее гостей уже было не так мало – в военное время жизнь стала проще. На пороге кабинета Брауна встретил хозяин. Вид у Кременецкого был праздничный. Он встретил гостя чрезвычайно любезно и, не помня его имени-отчества, особенно радушно назвал Брауна дорогим доктором, крепко пожимая ему руку.
– Надеюсь, вы теперь будете знать к нам дорогу, – сказал Кременецкий. Он с давних пор неизменно говорил эту фразу всем более или менее почетным гостям, впервые появлявшимся у него в доме. Но обычно он говорил ее в конце вечера, при их уходе, а теперь сказал в рассеянности, глядя в сторону передней, откуда появился еще гость. На лице у адвоката промелькнуло неудовольствие: гость был серовато-почетный, член редакции журнала «Русский ум», но явился он на вечер в пиджаке и в мягком воротничке. «Нет, все-таки мало у нас европейцев», – подумал Кременецкий.
– Я не знал, что у вас парадный прием, – сказал гость со смущенной улыбкой. – Уж вы меня, ради Бога, извините…
– Ну, вот, Василий Степанович, какой вздор! – ответил хозяин, смеясь и пожимая обеими руками руку гостя. – Вы, конечно, знакомы?.. Ну-с, что скажете хорошенького?
– Хорошенького словно и мало, судя по последним газетам…
– Вздор, вздор!.. Помните у Чехова: через двести – триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасна… – Кременецкий выпустил руку гостя. – Вот что, судари вы мои, я здесь на часах и отойти никак не смею. А вам советую проследовать туда, к моей жене, и потребовать у нее чашку горячего чаю. Там больше молодежь, поэты есть, – сказал он, закрывая глаза, с выражением шутливого ужаса. – Василий Степанович, вы свой человек… Доктор, пожалуйста…
Василий Степанович, горбясь и потирая руки, прошел дальше. У дверей будуара он нерешительно остановился и стал пропускать вперед Брауна.
– Нет, нет, уж, пожалуйста, вы, – говорил он, нервно смеясь слабым смехом, точно за дверью их должен был окатить холодный душ. – Уж вы первый, пожалуйста…
Браун вошел в будуар, чувствуя по обыкновению острую тоску от всего: от тона адвоката, от расшаркивания перед дверью с Василием Степановичем, от яркого света комнат, от того, чем был густо заставлен стол в будуаре, от приветливой улыбки хозяйки и от портрета Гейне в затейливой рамке. Разговор у стола, видимо, довольно оживленный, на мгновение прервался. Собравшиеся с нетерпением и легким недоброжелательством ждали конца представлений. Хозяйка упорно называла всех полным именем.
– …Анна Сергеевна Михальская… Софья Сергеевна Михальская… Глафира Генриховна Бернсен… Моя дочь Муся… Молодые люди, знакомьтесь, пожалуйста, сами с нашим знаменитым ученым, – улыбаясь, добавила она, давая понять молодым людям, что они имеют дело с важным гостем.
– Мы как раз говорили об умном, это у нас бывает, – громко сказала Муся, с любопытством глядя на Брауна. Она всегда говорила с новыми людьми так, точно давно и близко их знала. – Ставится вопрос: какие книги вы взяли бы с собой, отправляясь на долгие годы на необитаемый остров… Предполагается, что на необитаемом острове нет библиотеки.
– Просят только не говорить, что вы взяли бы с собой «Голубой фарфор», ибо автор его здесь, – сказал Никонов.
– И он воплощенная скромность, – добавила Муся, обратившись к некрасивому бледному юноше с необыкновенным пробором по правой стороне головы.
– Я говорю, я взяла бы Гете и Пушкина, – сказала хозяйка. – Как хотите, вы можете считать меня отсталой или глупой, а я остановилась на классиках и в ваших декадентах ничего не понимаю. Пушкина понимаю, а их не понимаю… Вам с лимоном, Василий Степанович?
– Мама, вы ошибаетесь, это, напротив, все говорят: Гете и Пушкина. C’est très bien porté.[13]13
Это хорошо звучит (фр.)
[Закрыть]
– Я, пожалуй, голосовал бы за Данте, – сказал негромко, точно про себя, Василий Степанович, Он взял у хозяйки стакан и окончательно сконфузился, пролив несколько капель на скатерть.
– Я взял бы Ната Пинкертона, – мрачно сказал с расстановкой Беневоленский, автор «Голубого фарфора».
– Ну, уж это, ах, оставьте, уж вы-то, дядя, наверное, взяли бы полное собрание своих творений, – возразил Никонов.
Никонов был душой общества, собиравшегося в будуаре госпожи Кременецкой. Говорил он все с чрезвычайной энергией в выражении и всегда в шутливой или полушутливой форме. Эта вечная шутливость, незаметное порождение застарелой неврастении, несколько утомляла. Однако при его появлении все изображали на лицах приветливую улыбку, что его еще более утверждало в бессознательно принятой им, не изменившейся за пятнадцать лет роли живого юноши и души общества. Женщинам Никонов нравился чрезвычайно, особенно при первом знакомстве. Он зачем-то издавна делал вид, будто влюблен в Мусю. Она прекрасно знала, что он и не влюблен ни в кого, и ни одной молодой женщины не может видеть равнодушно. Но тон его ей нравился. Ее ответной манерой была резкость, которая была бы неприличной, если бы с самого начала Мусей не было установлено, что ей все позволено.
Хозяйка любезно расспрашивала Брауна: давно ли он в Петербурге? Надолго ли приехал? Верно, нигде за границей нет такой отвратительной осени? Муся, не без беспокойства глядя на мать, прислушивалась к их разговору.
– Ах, вы остановились в «Паласе»? У нас будет сегодня еще гость оттуда. Может быть, вы его встречали: майор Клервилль из английской военной миссии…
– Да, я его знаю.
– Вы с ним знакомы? Я его видела в ресторане «Паласа», – сказала Муся. – Он был в штатском. Какой очаровательный!
– Очаровательный.
– Правда ли, что он шпион? Я обожаю шпионов, ну просто с ума схожу!..
– Муся, перестань говорить глупости…
– Мама, что мне делать, если я непременно хочу выйти замуж за шпиона…
– Все англичане шпионы, – подтвердил медленно поэт. – Шекспир тоже был шпионом.
– Заткните фонтан, дядя. Шпион не шпион, а, должно быть, присматривается к тому, что у нас делается, как же иначе? – сказал Никонов. – Англичане поклялись воевать с немцами до последней капли русской крови.
– Ох, Господи, все слышали эту шутку сто раз, – сказала Муся, затыкая уши.
– Напротив, майор Клервилль обожает Россию, – сказал Браун. – Он ведь сам из intelligentsia. Прежде англичане из русских слов знали только zakouski и pogrom, теперь знают еще intelligentsia. Все равно, как у нас все знают: если англичанин, значит, контора и футбол. Майор Клервилль – самая настоящая интеллигенция, с сомнениями, с исканиями, с проклятыми вопросами, со всем, что полагается. Он сомневается почти во всем… Ну, не во всем, конечно: в победе Англии, наверное, не сомневается.
Хозяйка улыбалась, кивая одобрительно головой.
– А ведь слово «интеллигенция» выдумал почтеннейший Боборыкин, – сказал негромко Василий Степанович.
– Ничего подобного, оно встречается в «Анне Карениной», – возразил Никонов.
– Нельзя говорить «ничего подобного», – поправила Муся.
– Оставьте, пожалуйста, отлично можно… И потом, помните, еще Столыпин сказал, что это только инородцев интересует, как можно и как нельзя говорить: мой язык, как хочу, так и говорю.
– Ну вот, вы известный антисемит, – несколько озадаченно сказала Муся.
– Я антисемит на немцев… Знаете, кстати, почему у меня репутация антисемита? Меня одна барышня спрашивает: «Григорий Иванович, вы женились бы на еврейке?» – «Смотря на какой», – говорю. Вот за это меня ославили антисемитом. Что ж, по-вашему, я обязан жениться на всякой еврейке?
– И все неправда! Никакая барышня вас ни о чем таком не спрашивала… этот анекдот я в Москве слышала два года тому назад. И «антисемит на немцев» тоже слышала…
– Лопни мои глаза!.. Отсохни у меня руки и ноги!.. Чтоб я тут на этом самом месте провалился!..
– Господи! Григорий Иванович! – страдальчески улыбаясь, сказала хозяйка.
Поэт, загадочно глядя на шею своей соседки Анны Сергеевны, спросил вслух сам себя, какое слово лучше передает ощущение женской кожи: peau veloutée или peau sati-née.[14]14
Кожа бархатная или кожа атласная (фр.)
[Закрыть] Из передней слышались звонки. Из кабинета доносился радостный голос хозяина. Хозяйка поддерживала разговор, следя за чаем и косясь в сторону столовой. Там, за дверьми, нанятые клубные лакеи делали свое дело, с презрением глядя на напуганных горничных хозяев.
– Он в самом деле так красив, этот англичанин? – спросила Мусю вполголоса Глафира Генриховна.
– Прямо на выставку англичан! – сказала Муся, закатывая глаза. – Он похож на памятник Николая I… А фрак, фрак!.. Григорий Иванович, отчего на вас так не сидит фрак?
– Это вам так кажется, потому, знаете, что лордова порода, – обиженно сказал Никонов. – Верно, фрак как фрак.
– А зовут его Вивиан… Григорий Иванович, отчего вас не зовут Вивиан?
– Оттого, что разумный человек не может так называться, несерьезное имя. Вот послушайте: Гри-го-рий Иванович, как это хорошо звучит – серьезно, солидно, приятно… Я очень доволен… Только кретинический лорд может себе позволить быть Вивианом.
– Разве он лорд? – спросила Анна Сергеевна.
– Кажется, нет… Впрочем, не знаю. Знаю, что я погибла!
– Я знаю из верного источника, что он не лорд и не аристократ, – сказала желтолицая Глафира Генриховна, которая все знала из верного источника.
– Вешать шпионское отродье! – сказал Никонов и сделал страшные глаза.








