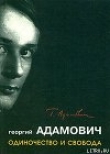Текст книги "«…Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957)"
Автор книги: Марк Алданов
Соавторы: Георгий Адамович
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Зачем я Вам все это пишу? Вот зачем. Кроме старого списка лиц, которым мы оказываем помощь (из него мы, повторяю, с опозданием, от нашей воли не зависевшим, вычеркнули несколько имен), появляются, естественно, и новые кандидаты. Мы ведь и адресов многих не знали, не знали даже, и живы ли некоторые люди, – или, в сомнении об их симпатиях в пору оккупации, иным писателям и ученым посылок не отправляли. Чтобы избежать новых ошибок, мы решили в каждом таком случае требовать чего-то вроде поручительства, вполне ясного и определенного. Зензинов написал об этом Долгополову. Я пишу Вам. В качестве возможных и необходимых «гарантирующих лиц» мы наметили из писателей в тесном смысле слова Вас и Бунина, а из публицистов и политических деятелей несколько человек, как тот же Долгополов, Альперин[28] и др. Предвижу, Вы скажете: «это неприятная задача, я ее не принимаю». Очень просим Вас этого НЕ делать. Конечно, это «корвэ»[29], но почему же возлагать ее только на нас?!
Однако если бы Вы и отказались от нее как от «корвэ» общей, то вот частный случай, от которого Вы уж никак не можете и не имеете права отказаться. Вчера я получил письмо от Георгия Владимировича (Villa Turquoise, av. Edouard VII). Он пишет мне, что и жена его, и он сам больны от недоедания, и просит похлопотать в фонде об отправке ему посылок. Надо ли говорить, что как писатели они были бы в числе первых же кандидатов? Фонд их знает, а Вам известно, как и я, в частности, высоко ценю их талант. Адреса их фонд не знал. Но дело было не только в этом. Г<еоргий> Вл<адимирович> пишет, что какой-то его враг сообщил в Нью-Йорк о «нашей дружбе с немцами». Я не знаю, кого он имеет в виду, и мне ничего о таком сообщении кому бы то ни было не известно. Однако какой-то глухой слух об этом здесь действительно прошел еще в пору оккупации, года два тому назад. Получив письмо Г<еоргия> В<ладимирови>ча, я позвонил одному из парижан-литераторов. Он сказал то же самое: ни о каком сообщении из Парижа об этом я ничего не слышал, а глухой слух был, и поэтому фонд «в сомнении воздержался», да и считали их людьми состоятельными. Между тем Г<еоргий> В<ладимирович> добавляет, что в жеребковской газете его называли «писателем» в кавычках, что немцы ограбили его до нитки, сожгли рукописи, вывезли обстановку. Это я тоже прочел упомянутому парижанину, и он, человек в фонде весьма авторитетный, сказал то же, что думаю я! Фонд не будет отправлять посылок без того, что я выше назвал «поручительством» – бесполезно ему и предлагать. И он же посоветовал мне то же самое: напишите Адамовичу. Я это и делаю.
Как Вы и Г<еоргий> В<ладимирович> сами поймете, фонд не удовлетворится одним заявлением самого заинтересованного лица. Но если Вы и Бунин подтвердите, что оно никогда немцам не сочувствовало и с ними не якшалось, то мы (с упомянутым литератором), несомненно, тотчас проведем отправку серии посылок (считаясь и с тем, что Г<еоргий> Вл<адимирович> до сих пор ничего не получал). Не ручаюсь, но считаю возможным, что достаточно будет и одной Вашей гарантии (Ваша «ориентация» здесь всем давно известна), но решено было требовать двух поручителей, и было бы гораздо лучше, если бы и Бунин к Вам в этом присоединился. Я Бунину не пишу, так как он мне ответит через месяц, а здесь дело идет о голодающих людях. Может быть, Вам ответит открыткой тотчас. Но Вас я очень прошу ответить мне сейчас же, письма по воздушной почте теперь идут 7–8 дней. Г<еоргий> Вл<адимирович> просит меня о том, чтобы фонд об этом телеграфировал Долгополову. Это было бы совершенно невозможно по правилам фонда, даже если бы не было необходимости в поручителях: ни одна посылка отправлена быть не может без формального заседания президиума с занесением в протокол и т. д. Отчасти это объясняется крайним формализмом членов президиума не-парижан, а отчасти тем, что вся деятельность фонда проходит под точным контролем правительственных органов. Между тем ближайшее заседание президиума состоится в августе. Наши заседания обычно происходят каждые две недели (иногда чаще). Но теперь летнее время и почти все разъехались. На последнем заседании все дела закончили, раздали на новые посылки во Францию все деньги, бывшие в кассе, и на месяц прекратили работу, – работа по сбору пожертвований производится независимо от заседаний.
Как только получу от Вас ответ, что Вы (лучше Вы и Бунин) «гарантию» даете, я все сделаю и напишу Г<еоргию> Вл<адимировичу> о результате. Знаю, что Вы, независимо от симпатий и антипатий, фонда не подведете, да и оснований никто не имеет думать, что в «глухом слухе» была правда ввиду указываемых фактов. Но без посторонней гарантии (т. е. Вашей и Бунина или, в крайнем случае, не-писателей Долгополова, Альперина) фонд ничего сделать не может. Я не знаю, каковы у Вас сейчас личные отношения с Г<еоргием> Вл<адимировичем>, но не сомневаюсь, что Вы с ними считаться не будете, а его известите.
Простите, что пишу только об этом, о другом в другой раз, а сейчас я очень устал. Надолго ли Вы уехали в Ниццу? Где будете жить в Париже, когда вернетесь? Очень прошу извещать о Ваших переездах и адресах, – это необходимо и для правильной отправки посылок, как от фонда, так и от «Амикаль де Дерниер Нувелль»[30].
На всякий случай сообщаю Вам адреса и Лит<ературного> фонда: [пропуск в машинописи]
и Толстовского фонда: [пропуск в машинописи]
Татьяна Марковна благодарит Вас за память и, как я, шлет Вам самый сердечный привет. Так давно я Вас не читал! А что книга, которую Вы задумали в 1943 году?[31] Что пишете теперь? Как здоровье Вашей сестры?
5. Г.В. АДАМОВИЧ – М.А. АЛДАНОВУ 28 июля 1945 г. Ницца En russe
Written in russian 28 июля 1945 14 avenue Fragonard Nice
Дорогой Марк Александрович
Получил сегодня Ваше письмо от 12/VII – и отвечаю немедленно. Относительно «негодования» или хотя бы «раздражения», которое будто бы вызывает в Париже деятельность нью-йоркского Лит<ературного> фонда, я узнал впервые из Вашего письма. Я провел в Париже два с половиной месяца, видел довольно много людей – и, кроме признательности, ничего по Вашему адресу не слышал. Поверьте, что пишу это не из вежливости, а с абсолютной правдивостью. Очень боюсь, что сведения о «негодовании» исходят от Я.Б. Полонского[32]. Позиция Полонского такова, что многие даже (в шутку, конечно) считают его больным. Его непримиримости поистине нет предела. А так как сочувствия и согласия она почти ни в ком не встречает (не по существу, а из-за той слишком уж кипучей формы, в которую его «непримиримость» облечена), то негодует он безостановочно, – и мог, конечно, свое личное негодование по поводу одной какой-нибудь ошибки в распределении посылок приписать всем. Повторяю, кроме доброго слова, я ничего никогда о Вас – т. е. о фонде – ни от кого не слышал. Сейчас видел Роговского[33], который вчера вернулся из Парижа и видел там сотни людей. Не называя Вас и не ссылаясь на Ваше письмо, я навел его на разговор о посылках и на то, что будто бы есть недовольные. Ответ тот же: «В первый раз слышу». Я мог не слышать по своей рассеянности к общественным делам. Но Роговского-то в этом пороке упрекнуть никак нельзя. Не думайте, что о Полонском я пишу отрицательно. Нисколько. Я с ним в самых добрых отношениях – его стойкость мне даже импонирует. Он в данном вопросе – одиночка и никого, кроме самого себя, не представляет.
Вопрос второй – о гарантиях, которые я должен был бы давать. Спасибо за доверие, я искренне ценю его. Но принужден отказаться. Все эти годы я прожил безвыездно в Ницце. Доходили до меня только слухи. В Париже слухи проверить трудно (все, конечно, были «резистантами»), да и охоты у меня к этому нет. Лично мне ближе и понятнее позиция старого Кр<асного> Креста, о которой Вы пишете: помогать всем нуждающимся (т. е., в сущности, не подражать нашим врагам). Но может быть, Вы и правы, par letemps qui court[34]. Только я никак не могу взять на себя роль судьи, больше всего потому, что у меня нет для того нужных сведений. Это не «корвэ», как Вы пишете. От «корвэ» я не отказался бы. Это нечто такое, за что я не могу взять нужной Вам ответственности.
Наконец, третье – о Г.В. Иванове. Скажу откровенно, вопрос о нем меня смущает. Вы знаете, что с Ивановым я дружен, и дружен давно, хотя в 39 году почти разошелся с ним[35]. Я считаю его человеком с такой путаницей в голове, что на его суждения не стоит обращать внимания. Сейчас его суждения самые ортодоксальные. Но прошлое не таково. Я был бы искренно рад, если бы Вы послали ему хоть десять посылок, но дать то ручательство, которое Вам нужно, не могу. Писать мне это Вам тяжело. Но Вы просите меня «не подвести фонда», и по всему тону Вашего письма я чувствую, что не имею права отнестись к поставленному Вами вопросу легкомысленно. Пусть официальной причиной моего отказа дать гарантию останется общее мое нежелание их давать. Остальное – строго между нами. Не скрою от Вас, что мне было бы неприятно, если бы о нашей переписке по этому поводу узнал сам Иванов. Он истолковал бы мое поведение как недоброжелательство. А недоброжелательства нет. Но я не могу в отношении Вас – и при моем уважении к Вам – поступить иначе. Кстати, Роговский мне только что рассказал, что на совещании у Долгополова Иванову было в выдаче посылки отказано на том основании, что он состоял членом сургучевского союза писателей[36]. К сожалению, я думаю, что такой факт, всем, к тому же, известный, делает все гарантии ненужными и недействительными. Если Вы принимаете во внимание раскаяние и понимаете – дело, конечно, другое. Но, судя по Вашему письму, в Нью-Йорке настроения не таковы. (Мне сейчас приходит в голову: не возникла ли у Вас мысль о гарантиях только в связи с мнимым «негодованием»? Нужны ли они, если негодования нет, и так ли страшны ошибки?)
К сожалению, письмо мое сегодня только деловое. Спасибо большое за ответ насчет рассказов Ставрова. Спасибо и за желание узнать мое мнение о «Истоках»[37]. Я их еще не читал – и «Нового журнала» не видал. Надеюсь вскоре прочесть и жду этого с нетерпением. А в том, что «рецензии ни к чему», я согласен с Вами совершенно, и чем больше рецензий сочиняю (именно сочиняю), тем сильнее чувствую, какой это вздор.
До свидания, дорогой Марк Александрович. Примите мой самый сердечный привет и передайте мои лучшие пожелания Татьяне Марковне. Еще раз благодарю Вас за память, внимание и доброе отношение.
Преданный Вам
Г. Адамович
P.S. Вы спрашиваете о моих переездах. До конца сентября я в Ницце. А потом в Париже, но где там буду жить, не знаю.
6. ГВ. АДАМОВИЧ – М.А. АЛДАНОВУ 21 сентября 1945 г. Ницца In russe
Written in russian
21/IX-45
Nice
14 av. Fragonard
Дорогой Марк Александрович
Пишу Вам сегодня по делу, схожему с теми, о которых писал в прошлый раз.
У меня сейчас гостит Ставров. Он взволнован дошедшими до него слухами, будто в Нью-Йорке в список «сомнительных» включено и его имя. В связи с этим он озабочен тем, что на письмо, которое он послал Вам весной, и, кажется, на рукопись до сих пор нет от Вас ответа. Ему кажется это не случайным – и он думает, что Вы не хотите с ним общаться.
Будьте так добры, дорогой Марк Александрович, сообщите мне конфиденциально, так ли это? Даю Вам слово, что ответ Ваш знать буду лишь я один. В Нью-Йорке, насколько мне известно, ходят слухи часто и вздорные. По роду деятельности Ставрова обвинить могли и его (как, кажется, обвинили Вейдле – человека чистого[38]). Ставрова я знаю прекрасно, знал и во время оккупации – и в безупречности его поведения уверен. Но, как я писал Вам уже, сейчас есть люди больные, которые выдают за реальность свои галлюцинации.
Простите, если надоедаю Вам. Кстати, меня продолжает смущать то, что я написал Вам о Г. Иванове. Не знаю, был ли я прав. У меня к нему отношение, как было у бедной З.Н. Гиппиус к Блоку, – помните: «общественно» или «необщественно»[39]? А лично у меня чувство такое, что надо бы устроить торжественное чаепитие и в слезах и лобызаниях забыть общие грехи. (Без капли лести, Вы для меня единственный человек – плюс М.Л. Кантор[40] – у которого я не могу даже в воображении заподозрить греха). Крепко жму Вашу руку и жду ответ.
Ваш Г. Адамович
7. М.А. АЛДАНОВ – ГВ. АДАМОВИЧУ 1 октября 1945 г. Нью-Йорк 1 октября 1945
Дорогой Георгий Викторович.
Получил Ваше письмо от 21 сентября. Хочу успокоить Вас насчет Ставрова. Не скрою, слухи о нем ходили здесь еще в ту пору, когда письма из Франции не приходили. Кто-то из уехавших сюда до оккупации что-то говорил. Как Вы, вероятно, правильно предполагаете, это могло быть связано с родом его деятельности. Но когда оккупация кончилась и стали приходить письма, то выяснилось, что ни в чем конкретном его никто не обвинял. А со слухами мы, естественно, не очень считаемся. Наш Литературный фонд давно отправляет ему продовольственные посылки, и это должно было бы его вполне успокоить: людям, сочувствовавшим немцам, мы посылок не отправляем. Что до меня, то я вначале, правда, «воздерживался в сомнении», – как вначале и фонд. Однако и с самого начала я плохо верил, что он мог сочувствовать немцам. Как Вы знаете, я его рассказы давно передал проф. Карповичу с отзывом в пользу принятия их в «Новый журнал». Не очень давно, хотя и задолго до получения Вашего письма, я написал Ставрову: поблагодарил его за «Встречи»[41], сообщил, что знал об его рассказах, и т. д. Разве он не получил этого моего письма?
Относительно его рассказов я, к сожалению, все еще ничего не могу ответить. Главный редактор Карпович живет в Бостоне, приезжает сюда не часто и перегружен работой. Он был здесь на прошлой неделе и сказал мне, что еще не успел прочесть Ставрова.
Благодарю Вас за полученное мною в свое время письмо об Иванове. Разумеется, я на него (на Ваше письмо) не ссылался. Но одновременно с моим запросом, отправленным Вам, Зензинов запросил об Иванове Долгополова. Николай Саввич ответил совершенно определенно, да еще сослался на решение его Координационного комитета, постановившего не оказывать помощи Иванову. При таких условиях мы решительно ничего сделать не могли. Фонд не может подходить к делу «общественно» или «необщественно», хотя бы уже потому, что он себя здесь погубил бы: повторяю, по отношению к людям, сочувствовавшим немцам, русский Нью-Йорк совершенно пока непримирим (есть разница только в оттенках, – меня, например, причисляют к наименее непримиримым – на обе стороны). Что же нам было делать? Мы с Зензиновым написали Г. Иванову общее письмо (он писал и Владимиру Михайловичу): сказали всю правду, – фонд запросил своего официального представителя в Париже, д-ра Долгополова, и ввиду его отрицательного заключения ничего сделать не может. От себя посоветовали ему, Иванову, устроить суд чести (указали и желательных, по нашему мнению, кандидатов в «судьи»: Маклакова, Бунина, Нольде[42], Альперина, Тер-Погосяна[43], Зеелера[44], еще кого-то). Разумеется, если бы суд чести признал, что по отношению к Иванову была допущена ошибка или несправедливость, мы, и я в частности, сделаем для него все возможное. Без этого и до этого не можем сделать ничего. Зная меня, Вы догадываетесь, как мне неприятно и тяжело было писать такое письмо. Но иначе мы поступать не можем. Я давно пишу в Париж, что пора бы Вам устроить суд чести из беспристрастных, спокойных и справедливых людей, который, хотя бы и без «приговоров» или «решений», просто установил бы фактическую сторону дела в каждом отдельном случае (ведь таких случаев и вообще немного). О моем письме к Вам и о Вашем ответе я, конечно, не писал ни слова.
Вы пишете: «…надо бы устроить торжественное чаепитие и в слезах и лобзаньях забыть общие грехи». Вероятно, этим дело и кончится. В Париже, быть может, это произойдет очень скоро. Нью-йоркцы год-другой подождут. Покойный Илья Исидорович, наверное, на это всех благословил бы. Но он – с христианской точки зрения, я хочу сказать, с евангельской. А Вы с какой? Я читал Вашу истинно блестящую статью во «Встречах»[45] «А его сожгли в печке». Да, сожгли. Все же устроим чаепитие и будем «лобызаться» с теми, кто сочувствовал людям, которые его сожгли в печке? Не люблю говорить и писать «пышно», – скажу все же, что для всевозможных духов Банко[46] такое чаепитие было бы весьма подходящим местом. Для Лулу Каннегисер, которую я очень, очень любил, для Юрия Фельзена, который меня терпеть не мог, для матери Марии, для многих, многих других. Нет, я еще подожду, – хотя меня, скажу еще раз, здесь считают слишком снисходительным и слишком равнодушным ко всему человеком. Мне пишут (НЕ Полонский, – кажется, у Вас считают, что во всем виноват Полонский, а пишут сюда из Парижа человек десять, если не больше), итак, мне один старик-публицист пишет о другом старике-писателе[47], будто он печатно выражал сожаление, что такой прекрасный памятник искусства, как Нотр-Дам, выстроен «в честь одной жидовочки». Это так хорошо, что даже и неправдоподобно. У меня со старым писателем были довольно добрые, хотя и отдаленные, отношения. Звать ли и его на торжественное чаепитие? Со всем тем, повторяю, оно наверное будет, и я против неизбежного не возражаю. Я только думаю, что не мешало бы немного повременить. И еще думаю, что для избежания тяжких несправедливостей (люди много перенесли, раздражены и не всегда беспристрастны) необходим суд чести из спокойных беспристрастных людей.
Сердечно благодарю Вас за добрые и незаслуженные слова в конце письма.
Если увидите Ставрова, скажите ему, пожалуйста, что мое письмо с отзывом о «Встречах» никак не предназначается для печати. Принять его просьбу о сотрудничестве я не могу. Занимаюсь только «Истоками» и из русских изданий печатаюсь только в «Новом журнале».
Простите длинное и бестолковое письмо, – как видите, о слоге я не заботился. Шлем Вам самый сердечный привет, самые лучшие пожелания. Вы скоро получите тяжелую продовольственную посылку. Но умоляю Вас, сообщите тотчас парижский адрес.
Разумеется, все это письмо совершенно конфиденциально, кроме его начала (о Ставрове).
8. Г.В. АДАМОВИЧ – М.А. АЛДАНОВУ. 12 февраля 1946 г. Париж
12/II-46 39, rue Pascal Paris 13e
Дорогой Марк Александрович
Б.К. Зайцев передал мне посылку, присланную Вами для меня на его адрес. Не знаю, как Вас благодарить за память, за внимание, за доброе отношение. Но скажу еще раз, и поверьте, совершенно искренне: Ваше внимание меня смущает! Не заставляйте же меня больше, дорогой Марк Александрович, это смущение испытывать. Как все, что Вы прислали, здесь ни ценно, все же я человек одинокий, проживу и без этого. Пишу и чувствую, что звучит лицемерно. Но поверьте, лицемерия нет, а просто мне неловко принимать подарки. Я Вам глубоко признателен, и все же не могу от чувства этой неловкости избавиться. Но merci de tout coeur[48]. Когда Вы приезжаете? Слышал, что к концу весны? Верно ли это и надолго ли? На днях я получил (вернее, достал), «Новый ж<урнал>», 9-я и 10-я книжки. Предыдущих я так и не видал. Но читал «Истоки» не отрываясь, хотя и поневоле сразу с середины. Увлекательны не факты, а то, что Вы говорите о людях – о Чернякове[49], например. Это типичный образец Вашей «жертвы», и скольким таким Черняковым, не плохим и не очень глупым, в сущности, людям, должно быть страшно с Вами встречаться. Когда-то я об этом с Вами говорил – по поводу Кременецкого[50] – и Вы со мной как будто не соглашались. Но едва ли Вы были правы. Необыкновенно интересно у Вас, впрочем, все – в частности, о Ал<ександре> II. Да и весь журнал хороший (кроме стихов, по-моему[51]). Вы меня когда-то в него приглашали. Если наши политические «расхождения» – более внешние и формальные, чем подлинные, вероятно – не являются для Вас препятствием, я все мечтаю написать большие воспоминания о доме Мережковских и о них самих[52]. При жизни З.Н. <Гиппиус> я не мог бы этого сделать, как я ни был ей предан. А дом и атмосфера были все-таки unique au monde[53], хотя и с множеством комического.
До свидания, дорогой Марк Александрович, – и, надеюсь, скорого! Передайте мой привет и низкий поклон Татьяне Марковне.
Вам, вероятно, все более или менее известно о Париже. Бунин был очень болен, но поправляется. А вообще-то здесь не только «конец литературы», но даже и конец бриджей. Монпарнас пытался ожить, но тщетно.
Ваш Г. Адамович
9. М.А. АЛДАНОВ – Г.В. АДАМОВИЧУ 6 марта 1946 г. Нью-Йорк 6 марта 1946
Дорогой Георгий Викторович.
Особенно рад был на этот раз Вашему письму, так как опасался, что, быть может, Вы на меня за что-либо сердитесь (хоть вины никакой за мной как будто нет). Вы ведь на последнее мое письмо не ответили. Это то письмо, в котором я писал, что к Ставрову никто здесь ни малейших враждебных чувств не имеет, а я всего менее, что Лит<ературный> фонд отправляет ему посылки и т. д.
Сердечно благодарю Вас за лестный отзыв об «Истоках». Вы отлично знаете, что Ваше мнение имеет для меня очень большое значение. Точнее, мне во всей эмиграции по-настоящему интересно мнение шести-семи человек. Но Бунин или Сирин, боюсь, мне своего искреннего мнения и не сказали бы (как я не сказал бы, каюсь, им, если бы мне их произведение не понравилось). Вы же критик и по профессии, – самый смысл ее требует искреннего суждения. Вы, верно, раз навсегда себе сказали, что не будете считаться с «обидами» и т. п.? А так как знатоков искусства, подобных Вам, немного, то Вы легко поймете, как Ваше суждение для меня важно. Но вот, ей-Богу, мне трудно поверить, будто Черняков у меня изображен в непривлекательном свете (Кременецкий – другое дело). Нет, я его своей жертвой не считаю.
Теперь дело. Мы много раз просили Вас принять участие в «Новом журнале». Просили еще тогда, когда его редактировали Цетлин и я. Михаил Осипович умер. Я умолил проф. Карповича стать главным редактором. Он согласился. Я еще ему помогаю, но все решает он. Михаил Михайлович чрезвычайно Вас почитает. Позавчера он приехал из Кембриджа в Нью-Йорк. Я сообщил ему, что Вы предлагаете нам статью. Это очень его обрадовало. Тогда я ему сообщил сюжет, который Вы предлагаете: «Дом Мережковских». У Михаила Михайловича вытянулось лицо: Вы выбрали, кажется, единственный неприемлемый сюжет! Не знаю, попадался ли Вам мой некролог Мережковского в одной из первых книг «Нового журнала»[54]. Я написал о нем как о большом человеке и писателе. Бунин и Сирин были этим недовольны по линии чисто литературной, – это ничего. Но на меня ополчился весь Нью-Йорк по линии политической. Когда я писал этот некролог, мне (и никому другому) здесь не была известна политическая позиция Мережковского при Гитлере. И она всем стала известна вскоре после того, как эта книга журнала вышла[55]. Мое мнение о ней (о прогитлеровской их позиции) Вам известно – и, вероятно, не очень отличается от Вашего. Однако я человек терпимый и, хотя с большим напряжением, мог бы отделить политику от литературы – по крайней мере, в известных пределах. Но, во-первых, согласитесь, «известные пределы» тут были перейдены. А во-вторых, не все так терпимы или так равнодушны, как я стал на старости лет. Появление хвалебной статьи о Мереж<ковском> и Гиппиус теперь здесь вызвало бы скандал, – какие оговорки Вы ни сделали бы. Ее большой ум и талант всем известны. Тем не менее эта тема для «Нового журнала» не подходит. Карпович умоляет Вас дать что-либо другое[56]. Я к этому присоединяюсь. Говорю все это Вам конфиденциально.
Не совсем понял Ваши слова о «конце литературы» в Париже. Надо ли понимать: русской эмигрантской литературы? Почему бы кончиться литературе французской? К ней пополнение может поступать правильно, как во времена органические. Следите ли Вы за литературой американской? Хемингуэй, Стейнбек и, по-моему, особенно Марканд[57] – писатели огромного таланта.
Пишете ли Вы что-либо большое? Грех Вам – если не пишете. Говорю это – не в первый раз – совершенно искренне.
Татьяна Марковна очень Вам кланяется, – она тоже большая Ваша почитательница. Недавно говорила мне, читая американский литературный журнал: «А все-таки Адамовича у них нет». Это верно. Хотя есть прекрасные критики (Эдмунд Вилсон, например).
Шлю Вам самый сердечный привет и лучшие пожелания.
Извините бессвязное письмо, я замучен, и теперь второй час ночи.
10. Г.В. АДАМОВИЧ – М.А. АЛДАНОВУ. 5 апреля 1946 г. Париж
Paris 13е 39, rue Pascal 5/IV-46
Дорогой Марк Александрович
Большое спасибо за письмо. Очень был рад ему. Хотелось бы мне продолжить спор насчет Чернякова – но спор был бы слишком долгий. Может быть, он и не Ваша «жертва», и я был не прав, но он до того человек «средний», что каждому читателю хочется быть хоть на волосок выше и больше его. И его «среднесть» Вы ведь все время даете чувствовать! Простите за спор с автором. Но – без малейшей лести – Вы слишком большой художник, чтобы отвечать за созданных Вами людей больше, чем Господь Бог отвечает за своих. А у Господа Бога бывают, вероятно, сюрпризы.
Насчет статьи о Мережковских. Это был un projet vague[58], не больше, и если придумаю, я с удовольствием напишу что-нибудь другое. Но о Мережковском я ничуть не собираюсь писать хвалебно, нет – скорее с удивлением, чем с восхищением. Увы, никак не могу согласиться, что он был «большой человек» (или писатель). Но был человек удивительно-странный и с редким, по-моему, неопределенно-пророческим чутьем, в писаниях его почти не сказавшимся[59]. А американские непримиримые страсти меня, между прочим, тоже удивляют! Тут у нас все на все склонны махнуть рукой, и хотя Ваша позиция достойнее, наша для меня понятнее. Вероятно, до Вас доходят из Парижа и нотки другого тона, но, поверьте, мои с каждым днем gagnent du terrain[60]. Утешение мое и радость – Бунин. Вы его тоже любите, и я рад, что мы согласны, какой это очаровательный человек и умница. Я его недавно, подвыпив, стал спрашивать, считает ли он себя все-таки хуже Толстого – и он, хотя тоже после десятой рюмки, всячески отвиливал от ответа, а потом глухо и сердито пробурчал: «Ну, хуже, хуже, ну так что из того?» Кстати – у меня есть два приятеля, которые очень бы хотели Вашего литературного покровительства: один хочет явно и откровенно, Варшавский, с просьбой за него перед Вами вступиться, а другой – Яновский – по-видимому, по письмам обижен недостаточным общим признанием. Это «строго конфиденциально», конечно. Яновский человек заносчивый и несчастный, Вы, впрочем, видите его сами. По-моему, у него есть дарование. А Варшавский – по-настоящему чист, вдумчив, серьезен и искренен. Cest beaucoup[61]. Да, еще кстати: Яновский мне пишет, что Вы поддержали мои дела в Лит<ературном> фонде или не знаю где[62]. Я ничего не просил, но если они склонны что-либо для меня сделать – я очень, очень благодарен. Благодарю Вас за доброе содействие. Крепко жму Вашу руку, дорогой Марк Александрович, и надеюсь скоро видеть здесь. Низкий мой поклон и привет Татьяне Марковне.
Ваш Г. Адамович
11. М.А. АЛДАНОВ – Г. В. АДАМОВИЧУ 16 апреля 1946 г. Нью-Йорк 16 апреля 1946
Дорогой Георгий Викторович.
Получил вчера Ваше интересное письмо от 5-го, – опять стали медленно идти письма (а то доходили в 3–4 дня).
Действительно, не стоит в письмах спорить о Чернякове. Он и в самом деле по замыслу автора «средний» человек. Но я возражал не против этого: «жертвой» моей он, я думаю, не был, – почему же средний человек жертва? Во всей литературе девять десятых людей – средние люди.
Очень удивило меня Ваше сообщение о Яновском и Варшавском. Помилуйте, зачем же им нужно мое «покровительство» в «Новом журнале»?! Личные отношения у меня с ними прекрасные, а Карпович их лично не знает. Вл<адимир> Серг<еевич> прислал нам один очерк, и он тотчас был принят журналом[63]. Вас<илий> Семенович в журнале напечатал довольно много, и, кажется, больше, чем кто бы то ни было другой, за исключением Бунина и меня («Истоки», правда, заняли много места, но они скоро кончаются). И сейчас журнал печатает пятьдесят страниц из романа Яновского (в 12-й и 13-й книгах)[64]. Я их обоих ценю, с Варшавским мы как раз только что обменялись письмами, и я не думал, что он недоволен журналом. Если Вы не ошиблись, то – тяжелое дело редакторская работа. Как хорошо, что я теперь только помогаю Карповичу, а скоро и помогать перестану. Он отлично справляется с работой и, главное, любит ее, тогда как я терпеть не могу и иногда проклинаю день и час, когда задумал «Новый журнал».
Вы, как и Бунин, и Сирин, находите, что я переоцениваю Мережковского. Думаю, что с Вами это у меня больше спор о словах. Может быть, «большой» слишком сильное слово («великих» писателей, по-моему, после Толстого и Пруста в мире вообще не было и нет, да и насчет Пруста еще «можно спорить»), но «Толстой и Достоевский» – вещь замечательная, и в самом Мережковском, как Вы, впрочем, признаете, были черты необыкновенные. Помню, когда-то в разговоре со мной в Петербурге это признал М. Горький. Как самоучка, и самоучка немногому научившийся, он особенно ценил познания и культуру Мережковского. Повторяю, с Вами мы едва ли очень тут расходимся.
Теперь о «непримиримых страстях» в Америке. У меня их нет. После Зензинова и давно уехавшего отсюда Керенского я здесь наиболее терпимо отношусь к тем пяти-шести писателям, о которых идет речь. Я Вам (и другим) давно писал, что со временем все забудется и что это надо предоставить времени. Кажется, некоторые из них свою ненависть к Полонскому почему-то перенесли на меня? Я о них в печати не сказал (ни о ком) ни единого слова, и, ей-Богу, на старости лет менее всего думаю о «разоблачениях», «карах» вроде исключения из союзов и т. д. Но именно Ваша позиция мне неясна. Сюда писали (не мне), что Вы были чрезвычайно возмущены результатами недавних выборов в Союз журналистов[65]. Верно ли это? Я этому поверил, так как после выборов из союза ушел Кантор, которого Вы (как и я) очень высоко ставите и с которым в общественных делах согласны (Вы мне недавно об этом писали). Поскольку же дело идет о Берберовой, то ведь отрицательное отношение к ней здесь года четыре тому назад установилось в значительной мере именно вследствие Вашего чрезвычайно резкого письма о ней к Александру Абрамовичу[66] и столь же резкого Вашего отзыва о ней в разговоре с Яновским в Ницце[67]. Ваши письмо и привезенный Яновским отзыв были, кажется, первыми, позднее последовали другие, много других[68]. Я этого никому не говорю и не пишу, но ведь это так. Мне казалось, что я в этом вопросе был много снисходительнее (или много равнодушнее) Вас. Если бы я теперь жил в Париже, то поступил бы как Бунин: ни в каком списке моего имени не было бы. Я никого не хочу ни «топить», ни «обелять», – меня это совершенно не волнует. Повторяю, надо это предоставить времени. Если бы «виновные» сами признали свою тяжелую ошибку, меня это с ними примирило бы. Если же был бы какой-то суд чести, то я, вероятно, высказался бы за «порицание» (разумеется, действительно виновным) с указанием на то, что, в конце концов, никто из писателей не обязан разбираться в морально-политических делах и все «подсудимые» имеют право на снисхождение и отпущение грехов. Что же до той «чашки чаю» со слезами, о которой Вы мне не так давно писали (в некотором противоречии с тем, о чем я говорю выше: Ваше письмо и разговор с Ян<овским>), то я продолжаю думать, как и писал Вам тогда в ответе на Ваше письмо, что лучше еще подождать. Все это говорю Вам конфиденциально. И буду очень благодарен, если Вы так же конфиденциально сообщите мне: 1) почему в союзе был забаллотирован Дон-Аминадо (Полонский, очевидно, за «разоблачения» и за требование «чистки»), 2) верно ли, что Вы были возмущены результатами (Ваше мнение имеет для меня большое значение), 3) почему ушел М.Л. Кантор?[69] Очевидно, теперь будут два союза?[70] Тогда можно предсказать, что один будет объявлен большевизанским, а другой «фашистским» или «коллаборационистским», – я уже слышал такие разговоры. Очень это печально. Сирин (не по этому, впрочем, поводу) очень остроумно написал мне, что парижская эмиграция напоминает сливочную пасху, которой в понедельник ножом стараются придать прежний вид. Жаль, если так. Я эту пасху в ее воскресном виде любил.