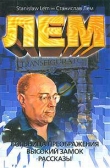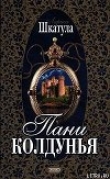Текст книги "Сокровища Королевского замка"
Автор книги: Мария Шиповская
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
– Примемся? А я не умею.
– Научишься. Разве тебе неинтересно, как получились эти снимки?
Стасик поколебался, словно бы хотел уйти. Но через минуту свободной рукой козырнул скрытой под его курткой камере, похожей на большую зеленоватую голову.
– Так точно. Научусь проявлять негативы.
Они ускорили шаги, чтобы поскорее свернуть с Краковского предместья на Беднарскую, потому что им показалось, будто на противоположной стороне улицы, возле магазина Мейнля, оживленно снуют немцы в мундирах и в штатском.
Неожиданно из дверей часовни Благотворительного общества выскочила маленькая фигурка и схватила Станислава за руку, едва не выбив у него из‑под мышки чемодан с объективами.
Он хотел было накричать на сестру, напомнить, что запретил ей вмешиваться в его дела, что это опасно, не для девчонок, но смягчился, увидев, с каким волнением она говорит:
– Я ждала тебя целый день! Так боялась, что ты придешь снизу, со стороны Вислы, что мы разминемся!
– В чем дело? – спросил он строго. Сердечность он предпочел скрыть за внешней сухостью еще и потому, что Стасик с удивлением присматривался к этой сцене.
– Ловушка. В квартире над нами, на втором этаже, знаешь, там, где тренировались… курсанты военного училища…
– Точные сведения или только предположение?
– Я была в квартире у Жертов, пани Ядвига просила меня побыть с Исей… Из окна я видела, как туда входило гестапо. Потом все окна закрыли, задвинули шторы. От ребят знаю, что впустят любого, а не выпустят никого.
У Станислава выступила на лбу испарина. В такой ситуации даже подняться на лестничную площадку было бы рискованно, потому что никогда нельзя угадать, сколь ретивы немецкие часовые.
– Значит, мы не пойдем в третий дом от угла, на первый этаж с парадного хода, без таблички на дверях, куда следует стучать, а не звонить, – с философским спокойствием заметил Стасик.
Кристина, которая в первый момент не обратила на мальчишку никакого внимания, сейчас окинула его критическим взглядом.
– Он с тобой? – спросила она.
– Да.
– Утром я договорилась с Галей, что мы пойдем к ней, – сказала она, колеблясь.
Стасик уловил неуверенность в ее голосе.
– Ну, так я пошел! – буркнул он. Сунув штатив с камерой Кристине, он готов был бежать.
Но Кшися не уступала ему в проворстве. Прислонив штатив с камерой к стене дома, она молниеносно схватила Стасика за воротник рубашки и крикнула:
– Подожди, сумасшедший!
– Он вытащил меня из лап Бруно, – тихо, едва слышно произнес Станислав.
– Ну и что! – сердито буркнул Стасик, но уже не убегал.
– Я ведь сказала, пойдем вместе к Гале! – решительно заявила Кристина.

Галя жила неподалеку, напротив памятника Мицкевичу, там, где Краковское предместье сливалось с улицами Козьей и Трембацкой. Такое расположение дома придавало ему довольно странную форму, срезанный с одной стороны, он напоминал Кристине кусок торта. Это впечатление усиливалось еще и тем, что фасад дома украшали многочисленные карнизы, карнизики, небольшие колонны, эркеры и ниши, словно выдавленные из крема рукой трудолюбивого и искушенного в своем деле кондитера. «Домик‑торт!» – говорила Кристина. У нее прямо‑таки слюнки изо рта текли, быть может, при воспоминании о великолепном торте мокко, которым иногда угощала ее Галя в темноватых кондитерских военных лет, где изготовлялись эти лакомства, а быть может, при мысли о мягких, нежных, чуть матовых из‑за глазури цукатах, которые приносила им в комнату Гали на тарелке панна Дыонизова.
Девочки были знакомы уже много лет. Поначалу они встречались в скверике возле памятника Мицкевичу, где чахлая трава, грязный песок и пыльный кустарник давали детям иллюзию свободы, а на скамеечках в песчаных аллеях располагались стерегущие их няньки.
Галя, приходившая вместе с панной Дыонизовой, всегда вежливая, спокойная и послушная, восхищалась дерзкой независимостью Кристины. Панна Дыонизова – худая и плоская, как стиральная доска, высокомерно осуждавшая каждую соседку по скамейке на скверике, которая по ошибке сказала ей «пани» вместо «панна» или не очень отчетливо произнесла «ы» в ее фамилии, – с неожиданной доброжелательностью отнеслась к дружбе Гали и Кшиси. А когда изредка вместо суровой панны Дыонизовой в скверик приходила ее родная сестра, пани Марцинова, которую обычно звали Марцинкой, состоявшая словно бы из сплошных округлостей и сердечной доброты, – игры становились еще веселее. Время, когда Галя выходила на прогулку – одиннадцать часов, – было для обеих девочек праздником, которого они ожидали с утра и помнили весь день до самого вечера. Летние или зимние поездки Гали, уезжавшей иногда вместе с дедушкой и бабушкой, казались девочкам смертельной разлукой, после которой маленькие подруги встречались, словно возвращенные к жизни.
От этой поры у них осталось множество воспоминаний, примет, общих тайн, о которых знали только они, а также Галины куклы, особенно самая большая из них – Галинка. К тайнам был приобщен и плюшевый медвежонок Кшиси, но это было позднее, когда обе уже стыдились своей привязанности к куклам.
Средняя школа, где во всех классах они сидели на одной скамейке, укрепила их дружбу. Школа располагалась близко, на углу Сенаторской и Подваля, неподалеку от Замковой площади. Они шли туда и возвращались, держась за руки и поверяя друг другу бесчисленные секреты. Панна Дыонизова шла позади, в нескольких шагах, а потом перестала их провожать. Кшися теперь часто приходила в гости к Гале в «домик‑торт»; быть может, это название она придумала уже тогда, а не в темноватых кондитерских военной поры.

Дедушка Гали Миложенцкой, орнитолог, ученый с мировым именем, «профессор по птицам», как говорила о нем панна Дыонизова, смотрел на внучку и ее подружку весьма снисходительно, как на двух щебечущих пичуг самого распространенного вида.
Бабушка, казалось, в основном была занята служением своему знаменитому мужу, который время от времени улетал на какие‑то научные конгрессы, откуда потом приходили письма с восхитительными марками.
– Райская птица!.. А это птица‑лира!.. – шептали девочки, рассматривая извлеченный из почтового ящика конверт с заманчиво пестревшей экзотической маркой. Все кончалось вздохами удивления.
Письмо попадало в руки бабушки, которая несколько раз его внимательно перечитывала, после чего осторожно вырезала из конверта марку и вручала ее Антеку, старшему брату Гали, в его коллекцию.
Внук, после мужа, был самой большой любовью бабушки. Она буквально готова была достать ему луну с неба, тем более что Антек страстно увлекался астрономией. Полученные от бабушки марки он раскладывал в альбоме в только ему понятных сочетаниях, изображавших звездные миры, а потом снова возвращался к любимым учебникам, солидным и трудным для его возраста, и к своим сделанным бисерным почерком расчетам. В свои тринадцать‑четырнадцать лет он переписывался на трех языках с несколькими зарубежными астрономическими обществами. И если какой‑нибудь варшавский симпозиум был посвящен его любимой теме, Антек непременно принимал в нем участие, не выступал, конечно, но внимательно слушал, а дома делился своими впечатлениями с бабушкой.
– Это все из‑за Антония… – шутил дедушка.
В большой гостиной на стене висела выполненная в темно‑голубых тонах картина художника Кендзерского «Антоний‑астроном», на которой был изображен сельский пастушок, заглядевшийся на звездное небо.
– Антек сделает мировую карьеру! Вот увидите! – шутил дедушка и снова отправлялся к своим птицам.
Картина была авторской копией оригинала, приобретенного музеем в Сан Луи и получившего в свое время золотую медаль на международной выставке в Сан‑Франциско. Бабушка то и дело подходила к картине и метелкой из перьев заботливо смахивала с золоченой рамы пыль.
Иногда в гостиную заглядывали девочки. Кшисю всегда поражало и то, что она такая огромная, и то, что пол здесь неровный: у входа из коридорчика, по которому можно пройти и в Галину комнату, он куда ниже, чем в остальной части гостиной. Такого рода возвышения Кшисе довелось видеть только в костелах.
– А в концертных залах – большая эстрада со ступеньками, и там выступают знаменитые артисты. И артистки в длинных белых платьях. Они играют или так чудесно поют… – сказала как‑то Галя мечтательным голосом, но тотчас умолкла, испуганная, не отвечая на вопросы заинтригованной Кшиси.
В гостиной на возвышении стояло большое черное фортепьяно, словно онемевшее, покрытое сверху золотистой материей.
Как‑то Галя призналась бабушке, что она хотела бы учиться музыке, как многие ее подружки. Кшися, которая случайно присутствовала при этом разговоре, думала, что за разрешением дело не станет. И заранее огорчилась, зная, что занятия музыкой отнимут у Гали весь досуг. Но бабушка ответила «Нет!» с таким ужасом в голосе, что Галя никогда больше не возвращалась к этому разговору.
В те давние, довоенные времена в «домик‑торт» заглядывал иногда и Галин отец, офицер, в военной форме, сверкающей серебром орденов и нашивок, в сапогах со шпорами. Он приносил дочери коробки великолепных конфет, удивлялся тому, как быстро она растет. Спрашивал Антека: «Ну, что там на небе нового?» И, узнав, что дед сейчас на очередном конгрессе, шел к бабушке, где у них начинался долгий разговор. По пути к ней в коридоре он обычно спотыкался о невидимую в темноте ступеньку, точно такую же, какая была в гостиной, что‑то бормотал недовольным тоном о неудобствах жилья, сделанного из двух квартир, помещавшихся в разных домах, где балки и полы на разных уровнях. Потом отворял двери в комнату бабушки, и тогда можно было увидеть прямую темную фигуру, застывшую перед иконой Скорбящей Божьей Матери.
Девочки, которые частенько покидали треугольную Галину комнату и носились по всему дому, испытывали страх перед этой иконой; их пугал меч, пронзающий сердце мадонны, и этот контраст между удивительной добротой ее светлого лика и жестокостью меча, изображенного с такой страшной правдивостью, что, казалось, им и впрямь можно наносить удары.
Они невольно переносили взгляд на небольшую богородицу с младенцем. Время приглушило яркость красок, кое‑где обнажился медный фон, но сохранило выражение трогательной заботы, проступавшее во всем ее облике, и теплую белизну груди, к которой прильнул беззаботный младенец.
Запах яблок и сухой лаванды, которой бабушка перекладывала белье, навевал легкую грусть. Под потолком на длинных серебряных цепочках висела лампада, тоже из серебра, тонкой работы, с чашей пурпурного стекла, она всегда чуть вздрагивала, а в ней стлался огонек, это горел погруженный в масло фитиль. Тихо, робко потрескивали половицы, тихонько скреблась мышь. Казалось, через минуту кто‑то скажет что‑то самое важное, приоткроет все тайны, а может, все вокруг сделает таинственным. На цыпочках, с замирающим сердцем выходили они из бабушкиной комнаты, боясь, что вот‑вот столкнутся с панной Дыонизовой или с Марцинкой, и что сердитый голос одной из сестер или беспечно громкий – другой развеет все очарование их вылазки; пожалуй, еще скажут, что она затевалась ради изюма и фиников, – здесь у бабушки всегда стояла серебряная вазочка с фруктами.
Кшисе любопытно было, о чем это они разговаривают, – Галин отец и ее мягкая, тихая бабушка. Наговорившись, отец выходил из комнаты, снова спотыкался о ступеньку и шел к дверям. Как‑то, задержавшись у бабушки дольше обычного, зашел в гостиную, поднял крышку фортепьяно, сыграл несколько пассажей. Но должно быть, стонущее эхо расстроенного инструмента испугало его, потому что он резко захлопнул крышку и почти бегом бросился к дверям, схватив на ходу конфедератку и небрежно козырнув на прощанье.
Матери у Гали не было. Кшися, тогда еще маленькая, как‑то спросила у панны Дыонизовой:
– Галя сирота? Да?
Но панна Дыонизова, казалось, даже не поняла ее вопроса, она лишь удивленно захлопала ресницами.
– Мама у Гали умерла? – продолжала свои расспросы Кшися, уже видевшая сиротство нескольких своих подружек по Беднарской, – траур, торжественные поездки на кладбище с цветами и свечками.
Глаза у панны Дыонизовой вдруг сделались сердитыми и круглыми, как у совы. Кшися больше не задавала таких вопросов. Впрочем, Галя никогда не ездила на кладбище.
А вскоре после этого памятного визита Галиного отца началась война.
Тяжелое время еще больше укрепило дружбу девочек, хотя они теперь гораздо реже проводили вместе время. Иногда они встречались на нелегальных занятиях, на харцерских собраниях. И, главное, знали, что в трудную минуту будут помогать друг другу сколько сил хватит.
Вот почему Кристина вела теперь Станислава и Стасика к срезанному наискосок «домику‑торту» на углу Краковского предместья и Козьей улицы.
В угловом окне второго этажа в Галиной комнате на окне стояла Галинка, прижавшись фарфоровым носиком к стеклу и протянув навстречу улице свои фарфоровые ручки, что на условном языке девочек означало: «Все в порядке! Приходи скорее! Я жду!»
Кшися повернула к подъезду, но в последний момент вдруг остановилась, неуверенная.
Ей показалось, что Галинка выглядит иначе, чем всегда.
Ну конечно!
Обычно кукла была освещена светом, падавшим из других окон Галиной комнаты, выходивших на другую сторону. Сегодня она стояла в темноте, на фоне темной портьеры.
Точно такими же темными шторами были прикрыты все окна в квартире у Миложенцких, что обычно не было здесь принято.
Несмотря на теплый день, даже форточка была закрыта.
Быть может, это была случайность, но какая‑то странная. А вдруг окно закрыто потому, что в квартире гестапо устроило засаду? Но почему же Галинка по‑прежнему стоит на подоконнике? Галя наверняка догадалась бы убрать ее, предупредив тем самым об опасности. Но если бы она даже не могла двинуться с места, то человек, закрывавший окно, наверняка сбросил бы куклу на пол.
Кристина растерялась. Уходить, но куда?
Она внимательно оглядела подъезд «домика‑торта» и оба выхода – один на Краковское предместье, другой – на Козью улицу. Пусто, немецких часовых не видно. Сделала знак войти Станиславу и Стасику.
А сама тихо и осторожно стала подниматься на второй этаж.
Глава XI
Они стояли в полумраке коридора, неуверенные, настороженные.
Хотя Кристина старательно скрывала свою тревогу, Станислав и Стасик почувствовали, что она чем‑то захвачена врасплох, что в ее простом первоначальном плане заминка.
Ребята внимательно прислушивались.
Старый дом, похоже, был переполнен неизвестно откуда льющейся музыкой, казалось, даже стены его поют. То рыдающие, то бурные, эти звуки к кому‑то взывали, чего‑то требовали.
– Шопен?.. – пробормотал Станислав. – Вопреки немецким запретам?..
Неожиданно за их спиной послышался недовольный голос:
– Кавалеры, вы куда? К кому?
– Да мы… Только так… – промямлили они.
– Если ни к кому, тогда выметайтесь!
Едва различимая в полумраке, хозяйка грозного голоса и метлы весьма энергично напирала на них. Не желая вызвать скандала, они медленно отступали к выходу, ведущему на тихую Козью улочку, казавшуюся им намного безопаснее оживленного Краковского предместья.
Вверху послышался звон колокольчика, наверно, это Кшися позвонила в дверь. Музыка тут же утихла. Резкий, повелительный голос снова потребовал:
– Марш отсюда! Живо!
Неожиданно возле них очутилась Галя. Она спустилась по лестнице так тихо, что они даже не слышали ее шагов.
– Это к нам, все в порядке, – сказала она.
Ее голос и сияющие во мраке светлые косы показались Станиславу как бы одним из аккордов только что звучавшей музыки.
Они поднялись с Галей на этаж, миновали большие, украшенные орнаментом и оковками двери, которые Галя сразу же старательно заперла на засов, и оказались в прихожей, где их ожидала Кристина.
– Зря боялись, – шепнула она с облегчением брату.
Кшися направилась в Галину комнату, не заметив предостерегающего жеста подружки. Отворила дверь и остановилась в изумлении. На кушетке, на стульях, даже на столике была разбросана мужская и дамская одежда. Одна – вытертая, изношенная, другая – новая, элегантная. Летние пестрые женские пальто, френчи военного покроя, бесформенные покрывала, грубые демисезонные пальто, даже шуба со следами былого великолепия. Пестрая клетка, ткани с узорами в елочку, в крапинку, твиды, вельвет, плотные шерстяные пальто с начесом создавали невообразимый хаос в этой опрятной девичьей комнатке.
Галя быстро вывела приятельницу в коридор, закрыла дверь и пригласила гостей в соседнюю комнату.
– Тсс, – шепнула она, приложив палец к губам, и вышла, затворив за собой дверь.
Однако тут же вернулась. Подошла к полке, взяла оттуда книжку. Она снова хотела что‑то сказать, но только еще раз приложила палец к губам и сейчас, выходя, оставила дверь приоткрытой.
Кристина оглядывалась с изумлением. Она ничего не могла понять.
– Это комната Антека, – шепнула она брату.
Станислав, сидя наконец‑то в удобном кресле и испытывая блаженное чувство покоя, удивился словам сестры.
Из рассказов Кристины он многое знал об этом доме, в который попал сегодня впервые.
Сентябрь тридцать девятого года был милостив к «домику‑торту». Во многих окнах даже стекла уцелели.
Старый профессор и Антек, к счастью, не обрекли себя на бессмысленные скитания под пулями, к чему призывал по радио всех мужчин полковник Умястовский. Антек несколько раз то тут, то там пытался записаться добровольцем, но всякий раз после многочасового ожидания в длинной очереди выяснялось, что оружия для него не хватит. Они с дедом вместе с другими жителями окрестных домов ходили рыть окопы, дежурили на чердаках и постах противовоздушной обороны.
Семнадцатого сентября Антек побежал тушить пожар в Замке. Дедушка в этот день, из‑за приступа почечной колики, остался дома. Старый человек немного стыдился этой мирной болезни, теперь, когда вокруг тысячи людей гибли от бомб и снарядов, она казалась ему сущей нелепицей, он порывался встать с кровати и снова ложился, обессилев от боли. Через несколько дней, несмотря на протесты бабушки, он все же встал и даже поднялся на чердак, впрочем, дежурство на чердаке, как он утверждал с шутливой серьезностью, было для него прекрасной оказией, чтобы понаблюдать за поведением напуганных обстрелом птиц.
Между тем Антек, в тот памятный день семнадцатого сентября оказавшись в Замке, энергично помогал тушить огонь, следил, чтобы не образовались новые очаги пожара, и даже сам обезвредил несколько зажигательных бомб, которые подпрыгивали и шипели, как злые коты.
Несколько последующих дней Антек трудился в командах, переносивших ценности из Замка в подземелья Национального музея; в те дни они как‑то разговорились со Станиславом, речь зашла о дружбе, связывающей их сестер, но потом Антек, который был моложе Станислава, уступив уговорам и слезам бабушки, вернулся домой, и с тех пор они потеряли друг друга из виду.
Все жители «домика‑торта» благополучно пережили осаду.
Через несколько дней после капитуляции Варшавы к профессору явился какой‑то мужчина и, ссылаясь на «общих знакомых с дорогим паном ротмистром, который всегда так заботился о своем почтенном, столько сделавшем для польской науки отце», посоветовал пану Миложенцкому как можно скорее переехать в провинцию, а оттуда тайными дорогами пробраться за границу; все уже приготовлено, в условленном месте ждут проводники. Профессор категорически отказался. Смеясь, он рассказывал об этом однажды за ужином, на котором была и Кшися. Сервировка оставалась прежней – тяжелые старинные серебряные приборы, старинный мейсенский фарфор, но в фарфоровой тарелке был водянистый суп с небольшими кусочками конины.
Профессор немного подшучивал над своим недавним гостем, который все еще не расстался с мундиром. И вдруг, перестав шутить, этот человек, изъездивший весь мир, заявил:
– Я не могу уехать. Мое место здесь, на моей земле. – И добавил почти с отчаянием в голосе. – Может быть, отправить Антека? Объяснить, что это надежда польской науки, что именно его надо спасать?..
Антек, не обратив внимания на похвалу, никогда до сих пор не слышанную им из уст дедушки, буркнул в ответ:
– Я не могу смотреть на звезды, когда в небе над Варшавой пожар! И астрономия никому не нужна, эта наука беспомощна перед насилием. А ты, дедушка, что ты знаешь со своими птичками в этом мире железа и огня? Ты просто…
Бабушка в ужасе закрыла себе ладонью рот, словно бы желая этим жестом задержать резкие слова, которые вот‑вот могли быть произнесены этими двумя самыми любимыми ею людьми.
Старый олимпиец снова снисходительно улыбнулся:
– Когда‑нибудь ты поймешь, что нашей силой является познание тайн звездного неба и птиц тоже. Познание. Даже если это познание будет неполным. Это они, переиначивая понятие Slavenvolk в Sklavenvolk, то есть – народ славян в народ рабов, хотят уничтожить нашу мысль и искусство, превратить нас в безвольных, безмозглых рабочих волов, которые силой своих мускулов будут создавать величие третьей империи, пока не погибнут сами.
Антек резким, внезапным рывком отодвинул стул, молча встал и ушел в свою комнату.
Профессор с грустью проводил его глазами. Он понимал этот взрыв юношеского отчаяния, вызванного бессилием. Меняя тему разговора, он сказал:
– Из Кракова приходят странные вести… как мне передал Станислав Петр Качоровский, давний хранитель сгоревших вместе с Центральной военной библиотекой рапперсвильских собраний…[17]
И вдруг отозвалась Кристина с серьезностью своих недавно исполнившихся пятнадцати лет:
– Пан профессор, сейчас нельзя называть ничьих имен, брат мне постоянно твердит об этом!
Тяжелая ложка выпала у бабушки из рук, выщербив тарелку и забрызгав супом скатерть. Глаза панны Дыонизовой от возмущения и испуга сделались круглыми. В иерархии этого дома позиция профессора была столь ненарушимо высока, что слова девочки показались невиданным кощунством.
Профессор снисходительно покачал головой:
– Устами младенца глаголет истина! Мы все должны теперь научиться основам конспирации!
А из Кракова приходили все более достоверные сведения, и не столько странные, сколько страшные. Немецкие власти велели ректору Ягеллонского университета прочитать 6‑го ноября лекцию на тему: «Немецкий национал‑социализм и польская наука», и пригласить на нее всех краковских научных работников. Они пришли, чтобы узнать, на каких условиях будет работать университет, памятуя о том, что университет, считавшийся в годы разделов австрийским императорско‑королевским учреждением, дал образование тысячам молодых людей для будущего служения Польше.
Вскоре выяснилось, чего немецкий национал‑социализм хочет от польской науки.
Вместо объявленного лектора‑ученого появился молодой человек в мундире СС. Женщинам было велено удалиться. А мужчин арестовали. Известных во всем мире ученых руганью и побоями заставили построиться в колонну по четыре. Потом погрузили на грузовики и отвезли в сырые казематы тюрьмы Монтелюпих, где держали без теплой одежды и без еды. Оттуда вывезли в казармы, затем во Вроцлав в тюрьму предварительного следствия для уголовников, наконец в концентрационный лагерь под Берлином – Заксенхаузен‑Ораниенбург.
Однажды профессор, увидев Кшисю, которая делала у них вместе с Галей уроки – обе девочки учились на тайных гимназических курсах, – сказал ей с грустью:
– Видишь ли, девочка, несмотря на конспирацию, некоторые имена нужно постоянно повторять, чтобы не забыть их! Запомни хотя бы несколько – это польские ученые, замученные в Заксенхаузене, в бывшей олимпийской деревне, до войны там размещали участников Олимпийских игр в Берлине. Так вот, это Казимеж Костанецкий, создатель польской школы физиологии и анатомии человека, президент Польской академии наук, погиб на семьдесят пятом году жизни; Леон Штернбах, ученый‑античник, знаток классической филологии, погиб в возрасте семидесяти пяти лет; Игнацы Хшановский, известный филолог, погиб в возрасте семидесяти четырех лет; Антони Мейер, профессор, преподаватель Горной академии, погиб в возрасте семидесяти двух лет; Станислав Эстрейхер, ректор Ягеллонского университета, руководитель историко‑филологического отделения Польской академии наук, продолжатель знаменитой «Польской библиографии», – семидесяти лет; Михал Седлецкий, член многих зарубежных академий, зоолог, – шестидесяти шести лет; Казимеж Ружанский, декан сельскохозяйственного факультета, – шестидесяти четырех лет; Ежи Смоленский, знаменитый географ и антрополог, – пятидесяти восьми лет…
Потом добавил с обычным своим спокойствием:
– Я моложе многих из них, мне легче будет перенести…
Он словно бы предчувствовал, что ближайшей ночью раздастся резкий звонок в дверь.
Арестовали не только профессора. В списке, по которому гестапо арестовало в эту ночь многих представителей польской науки и искусства в Варшаве, числился и Антек. Правда, агенты гестапо, производившие арест, не скрывали своего удивления, увидев Антека, и несколько раз проверяли данные в своих списках. Однако все совпадало. Возможно, Антек попал в картотеку гестапо на основе переписки, которую он вел, между прочим, и с берлинским Астрономическим обществом…
Оставшиеся в «домике‑торте» женщины утешали себя словами профессора:
– Они моложе многих! Вынесут!..
Но вскоре имена Антека и профессора можно было прочитать на расклеенных повсюду красных списках заложников. «В ответ на… – гласили черные литеры на красной бумаге. И в заключение – Заложники будут расстреляны!»
Должно быть, одна дурная весть влечет за собой другую. Однажды вечером, незадолго до полицейского часа, к ним позвонил незнакомый небритый мужчина.
– Я от пана ротмистра Миложенцкого, – сказал он.
– От папы! – воскликнула обрадованная Галя, открывшая ему дверь.
– С паном ротмистром мы знакомы с давних пор, поэтому я сразу вспомнил дорогу. Пан ротмистр был у майора Хубала…[18] простым солдатом…
– Был? – спросила Галя. – А где же он теперь?
– Если вы, барышня, будете когда‑нибудь в Келецком воеводстве, в лесу за Гутисками…
Он подал ей бумажник из крокодиловой кожи и ушел.
Галя вошла в комнату, осторожно неся бумажник в протянутой руке, как будто гранату, которая при любом неосторожном движении может взорваться.
Кристина вопросительно поглядела на нее.
– Это папин, – сказала Галя.
Она положила бумажник на столик. Бумажник был открыт, и Галя почувствовала тонкий аромат одеколона, такой привычный в недавние, а теперь уже невообразимо далекие времена, когда в доме у них, блестя золотом наград и звеня шпорами, появлялся отец.
С сухими глазами, крепко стиснув губы, Галя просматривала кармашки бумажника. Она вынула свою маленькую любительскую фотографию, фотографию Антека, общую фотографию бабушки и дедушки.
Открыла застегнутый на кнопку кармашек. Поколебавшись, извлекла оттуда блестящую фотографию большого формата, на которой была красивая женщина в длинном белом платье. Кристина подумала, что это, наверно, какая‑то артистка.
В этом же кармашке Галя обнаружила сложенную, пожелтевшую от времени и вытертую на сгибах бумагу. Это была афиша. Девочка осторожно разложила ее, разгладила. Подпись крупными буквами гласила: «Сольный концерт – Ирэна Ларис».
– Моя мама, – сказала Галя. И разрыдалась, словно бы только имя матери, никогда не произносимое, позволило ей оплакать смерть дедушки, отца и брата. Потом обняла самую большую из своих кукол, любимую Галинку, и, прижимая к груди, как уснувшего ребенка, запела глубоким, низким голосом.
Услышав, что Галя поет, в дверях комнаты остановилась бабушка. Быть может, она хотела сказать внучке: «Перестань сейчас же!», как всегда это делала. Но в эту минуту увидела на столе бумажник из крокодиловой кожи.
Станислав знал от сестры, что Галя никогда уже больше не пела у себя дома.
Он знал также, что старая пани Миложенцкая свято оберегала комнату расстрелянного внука. Никому, кроме нее, не разрешалось туда входить. Сама убирала ее, следя за тем, чтобы все выглядело так, как в ту ночь, когда гестапо арестовало профессора и Антека. Она тогда дала им, разбуженным среди ночи, теплое белье, теплую одежду и лыжные ботинки. Легкие брюки, рубашка, голубой свитер висели на спинке стула, как их оставил вечером Антек. Возле застланной тахты стояли полуботинки. Бабушка сама все здесь стирала, вытрясала, чистила, убирала. Почти три года прошло, а все вещи казались новыми, на книгах и тетрадях ни пылинки. На столе, возле исписанной лишь до середины страницы, лежала вечная ручка со снятым колпачком, словно бы ее хозяин, устав, прервал работу на полуслове, чтобы потом, утром, набравшись сил, продолжить ее. Только вот в крохотном резервуарчике и стоявшей рядом чернильнице высохли чернила.
Над тахтой теперь висела принесенная бабушкой из гостиной картина «Антоний‑астроном», заглядевшийся на звезды, – вот и все, что здесь изменилось.
Сегодня в комнате Антека окна были закрыты тяжелыми портьерами, щели законопачены войлоком, приглушавшим звук.
Стасик осторожно сел на краешек стула. Внимательно и недоверчиво огляделся по сторонам. Быть может, благородные очертания золотистой ясеневой мебели, которая, несмотря на опущенные шторы, так и светилась в лучах солнца, быть может, эти шкафы и полки из ясеня с красиво подобранными годовыми кольцами, доверху набитые книгами и словно бы специально созданные для этих стен, напомнили Стасику о том, что одежда у него старая и потертая, а ноги грязные. Видно было, что он готов сорваться с места и удрать.
Вдруг квартира ожила. Широкой волной поплыла фортепьянная музыка.
– Шопен! – повторил Станислав. – «Революционный этюд»…
Он уже сообразил, что они попали на тайный концерт. Один из тех, что устраивали на частных квартирах в помощь голодающим музыкантам, а главное, для того, чтобы дать возможность людям, лишенным радио, кино и театра, послушать запрещенную оккупантами польскую музыку, в особенности Шопена. Гитлеровскими властями был издан особый именной указ, запрещавший исполнять Шопена.
Кристина слишком хорошо помнила закрытое наглухо фортепьяно и отвращение бабушки ко всему, что связано с игрой или пением, чтобы не удивляться тому, что она видала здесь сегодня. Она знала, что в большой квартире Миложенцких, соединенной внутренним ходом с лестничной клеткой соседнего домика, иногда бывают конспиративные собрания, но никак не думала попасть на концерт.
У Стасика от усталости слипались глаза. Голова клонилась к деревянным подлокотникам кресла. Прикоснувшись к их жесткому дереву, он вздрагивал, просыпался и снова впадал в забытье.
По другую сторону коридора, в гостиной, в замысловатых канделябрах ручной работы мигали свечи, освещая лица гостей. Станислав узнал среди них нескольких людей, которых знал по фотографиям в довоенной прессе: писателей, артистов, ученых. Увидел и преподавателей, читавших лекции на занятиях подпольного универститета, и еще нескольких человек, вместе с которыми в сентябре тридцать девятого года переносил произведения искусства из Замка в Национальный музей. Ему показалось даже, что и директор Музея тоже здесь, впрочем, он предпочитал ни к кому не приглядываться. Это было безопасней для всех.