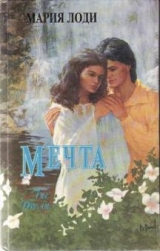
Текст книги "Мечта"
Автор книги: Мария Лоди
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Глава шестая
Покинув «Клерон», Тома серьезно поставил под угрозу свое будущее. У него было немного денег в банке, которые он держал на случай неожиданных трудностей, но их могло хватить не более чем на несколько месяцев. Плата за квартиру на площади Фюрстенберг была довольно высока, и в настоящее время не могло быть даже речи о том, чтобы отпустить экономку.
Он решил, что лучше отложить свадьбу с Мари, чем вовлечь ее в его неопределенное будущее. Сначала она настаивала, что они должны пожениться сразу, однако Тома отказался. Он искренне хотел уберечь ее, но это дало Мари новую причину для беспокойства, и она жила в постоянном страхе, что он может снова увидеть Флокс, а может быть, уже увидел.
Она оставила свою работу в пошивочной мастерской и переехала жить к Тома. Между тем ее брат Ипполит сошелся с женщиной с двумя детьми и подумывал о том, чтобы жениться на ней. Он больше не нуждался в сестре, которая присматривала за ним. Привыкшей жить в бедности Мари оказалось трудно приспособиться к вынужденному безделью в ее новой жизни. Она была бы рада занять себя домашней работой, но Леона ревниво охраняла свое положение экономки. Женщины не поладили: Мари чувствовала неприязнь к доброй, спокойной Леоне, а Леона считала Мари слишком уж простой.
Тома с тревогой смотрел на Мари, понимая, что она чувствует себя несчастной и неустроенной. Он неопределенно обещал ей, что, когда они поженятся, они переедут и будут жить в маленьком домике на окраине Парижа, с большим садом, и будут держать цыплят. Это привело Мари в бурный восторг. А что, если Тома оставит журналистику и будет писать книги? Один издатель уже просил его описать тюремные впечатления, и профессия писателя хорошо бы подошла к жизни в деревне. Они были бы вместе целыми днями.
Тома подавляла мысль о том, что ему придется проводить все свое время с Мари. С тех пор как Мари переехала к нему, он был уверен, что не любит ее. Прежде, когда они виделись от случая к случаю, чувство, которое он испытывал к ней, все же давало ему какие-то надежды. В будущем это чувство могло перейти в любовь. Живя вместе с ней, Тома не мог не понять, насколько они были несовместимы, хуже того, они совершенно не гармонировали друг с другом. Жить вместе означало лишь быть вместе, мириться с существованием друг друга. Необходимо было все время сознавать пределы взаимной уступчивости.
Для Тома Мари была человеком неуживчивым, эгоистичным. Ей не хватало широты и терпимости, она была ревнивой и неспособной сдерживать свои чувства. Очень скоро она начала контролировать его приходы и уходы, а он ненавидел это. Он верил, что для ее счастья вполне достаточно жить вместе с ним, но не хотел отдавать ей ничего, кроме своего физического присутствия. Наконец она, не удержавшись, упомянула имя Шарлотты. Тома успокоил ее, сказав, что больше не видел Шарлотту и не ищет встречи с ней.
Однажды днем в конце апреля Тома навестила Жюстина Эбрар. Он был очень тронут и рад видеть ее. Жюстина выглядела невероятно элегантной, своей внешностью она просто сражала наповал. Они беседовали о театре и ее успехе, о котором говорил весь Париж.
Неожиданно Жюстина серьезно сказала:
– Тома, я пришла не только затем, чтобы поговорить о театре. Я слышала, что у вас неприятности, а у меня есть идея. У меня куча денег. Вы знаете, что в результате процесса по опротестованию завещания все состояние Поля было оставлено мне. Если не считать необходимых расходов на содержание моего дома на улице Бак, эти деньги мне не нужны. Поэтому я передаю их в ваше распоряжение, и вы можете основать такую газету, какую хотите. Вот моя идея. Что вы на это скажете?
– Нет, Жюстина, дорогая, об этом не может быть и речи.
– Очень даже может быть. Эта мысль пришла ко мне, как откровение. Я удивлена, что не подумала об этом раньше.
Все еще сомневаясь, Тома почувствовал искушение и, помимо своей воли, взвешивал преимущества, риск и вообще все последствия такой сделки.
– Но, допустим, газета провалится, Жюстина? Ведь вы потеряете очень много денег! Предположим, нас оштрафуют? Это может разорить вас.
– Нет, – сказала она. – Я доверяю вам.
– Это чересчур большой риск, дорогая.
– Я хочу помочь вам, Тома. Скажем, в память о… о наших воспоминаниях.
Они сидели напротив друг друга. Жюстина выжидающе смотрела на Тома. Он знал, что ее чувство к нему было глубоким и бескорыстным. Последние восемь месяцев Жюстина вела в театре бурную жизнь, у нее были романы. Ее связь с Дельбрезом еще продолжалась. Однако все ее увлечения этого периода бледнели перед тем, что она испытывала в присутствии Тома. Несомненно, за всю свою жизнь она не встречала человека, который оказывал бы на нее такое сильное и глубокое влияние.
Она взглянула на красивое лицо Тома с несколько неестественным румянцем, на его ясные синие глаза и нежно провела рукой по складкам между его бровями.
– Скажите да, – мягко сказала она. – По крайней мере скажите, что подумаете об этом.
– Очень хорошо, – ответил он. – Мы обсудим это позднее. Я расскажу вам обо всех обстоятельствах дела. Вы должны знать, какие могут быть последствия.
– Да, да, – подтвердила она.
Но ей было все равно. Она приняла такое решение под влиянием вдохновения, и уже ничто на свете не могло заставить ее отказаться.
– Вы не однажды спасали мне жизнь, Жюстина, – сказал он серьезно. – В первый раз вы накормили меня, когда я не ел два дня. И вот сегодня, когда у меня ничего не осталось и я лишился всякой поддержки. Как я смогу хоть когда-нибудь отплатить вам за все это?
– Я и сама в долгу у вас, – отвечала она, – так что мы квиты. – Она думала о той любви, которую он дал ей.
– Моя дорогая, – сказал он, – я люблю вас, люблю всей силой моих дружеских чувств. Вы так великодушны, я никогда не смогу расплатиться с вами.
Он поцеловал кончики ее пальцев. Они договорились, что на следующий вечер он придет к ней домой, чтобы они могли обсудить свои планы. Уйдя от Тома, Жюстина направилась к перекрестку, прошла узкую улицу и вошла в маленькую, сомнительного вида гостиницу, где они иногда встречались с Жюлем Дельбрезом.
Жюлю нравилось встречаться в таких подозрительных местах, и она мирилась с этой его причудой. Как любовник, Дельбрез был капризным, почти порочным, и были моменты, когда он пугал ее. Но он привязал ее к себе чуждой ее натуре извращенной чувственностью, какими-то особыми привычками в любовных утехах, которые сперва отталкивали ее, но затем она стала принимать их со все возрастающим желанием. И все же она знала, что не любит его.
Когда Тома сказал Мари, что Жюстина предложила ему деньги для того, чтобы основать собственную газету, та неожиданно устроила сцену. Поняв, что он собирается пойти на улицу Бак и ни за что не возьмет ее с собой на деловой обед, она с горечью заявила, что он не должен волочиться за женщинами, не принадлежащими к их классу.
Он хотел мило отшутиться, как это бывало раньше, когда мягкая ласка заставляла Мари растаять, но та потеряла терпение и с отчаянием заявила, что она ждала этого и знала, что он никуда не будет брать ее с собой, так как стыдится ее.
Тома изо всех сил старался успокоить ее:
– Не говори так, Мари, не говори.
Он почувствовал, как сильно измотались его нервы. Он делал все возможное, чтобы укрепить их привязанность друг к другу. Почему ей хочется понапрасну принижать себя таким образом? Ей трудно было простить ему то, что она беднее его. Но будет ли она когда-нибудь достаточно великодушна, чтобы позволить ему дать ей хоть что-то? Его усталость перерастала в раздражение.
– Что же, – проронил он, – у тебя нет причины упрекать меня. Я даю тебе все, что могу. Я живу с тобой. Никуда не хожу с другими женщинами. Я не видел ни одной другой женщины с тех пор, как ты здесь. Единственная, кто навестил меня, это Жюстина Эбрар.
Мари отвернулась.
– Можешь ты поклясться, что не виделся снова с Шарлоттой Флоке?
– Перестань упоминать о ней, – взревел Тома. – Почему ты всегда швыряешь это обвинение мне в лицо?
Она знала, что ей не следовало вновь называть это имя, ее женский инстинкт удерживал ее, но она не смогла остановиться и выдала свои тайные опасения.
– Мари! – воскликнул он, не в силах больше владеть собой. – Почему я должен был броситься к ней, как только вышел из тюрьмы? Разве она сделала для меня хотя бы что-нибудь, пока я там был? Разве она написала мне, послала мне передачу? Ничего этого не было, и ты это прекрасно знаешь. Неужели ты думаешь, будто я настолько себя не уважаю, что могу пойти к женщине, которой безразличен? Я мог бы преспокойно умереть в тюрьме, и это, конечно, взволновало бы ее меньше всего.
С этими словами у него вырвалась затаенная горечь, обида на Шарлотту – он ужасно страдал от мысли, что та совсем отказалась от него.
– Вот как? – сказала Мари. – Для чего же тебе были нужны ее передачи? Разве не было меня, чтобы позаботиться о тебе?
– Ей не было до меня никакого дела, – не отвечая, продолжал он.
– Неужели тебе так сильно хотелось встретиться с ней? – спросила Мари, быстро взглянув на него снизу вверх.
– Меня это нисколько не заботит, ты слышишь? Нисколько не заботит!
– Возможно, тебя это заботит больше, чем ты хочешь себе признаться.
– Успокойся.
– А что, если я скажу тебе, что она дважды приходила в тюрьму Мазас с передачами для тебя…
Его лицо побелело.
– Мари, – быстро сказал он, – перестань играть со мной. Это неправда.
Но теперь она не могла остановиться. Из-за злого желания узнать все наверняка она теперь хотела заставить его выдать себя.
– Она приходила в Мазас дважды. Она оставляла посылки при входе. Но на той неделе случились беспорядки, и передачи были конфискованы. Эти свиньи из охраны съели половину и потом не осмелились показать тебе посылки, так что оставшиеся там вещи были перемешаны с моими подарками и подарками твоих друзей, ты и не догадался, но я все знала, потому что подружилась с сынишкой привратника. Я видела посылки и, если хочешь знать, видела и саму Флокс в тот день, когда она приходила в Мазас. Но она не собиралась пачкать свои наряды в тюремной приемной. Она быстро ушла, не дожидаясь. Поэтому я решила, что тебе незачем знать, от кого посылка, и ничего не сказала.
Тома смотрел на нее, открыв рот. Эта новая сторона характера Мари лишила его дара речи. Затем его охватил гнев.
– Почему ты ничего не сказала мне? Как ты посмела так поступить?
Именно такой реакции она и ожидала. Мари почти хотела, чтобы он ударил ее, так отчаянно она желала доказать, что ее ревность обоснованна.
– И после всего этого ты еще можешь говорить, что не любишь ее! – воскликнула она почти торжествующе.
Ему нечего было сказать в ответ. Тома видел, что выхода нет. Он подошел к окну, широко распахнул его, сделал глубокий вдох и понемногу начал успокаиваться.
Мари не плакала, она только чувствовала горечь победы. Тома стало жаль ее. Он подошел, сел на подлокотник кресла и погладил ее по волосам.
– Успокойся, – сказал он, – успокойся. Это все моя вина. Возможно, мне не следовало привозить тебя к себе.
Он долго говорил какие-то слова, и наконец буря улеглась.
На следующий день, ничего не сказав Мари, Тома направился на улицу Месье-ле-Принс. На углу улицы Расина он замедлил шаг, почувствовав, как внутри сжалось сердце. Он не знал точно, что ему делать дальше. Не знал, хочет ли он пойти прямо на квартиру Шарлотты, чтобы попытаться увидеть ее. Он шел, будто его вела чья-то невидимая рука. Откровения Мари накануне вечером взволновали его. Как он мог подумать, будто безразличен Шарлотте, бранил он себя. И все же ему не хотелось признаться, что он испытал большое облегчение, узнав про посылки.
Он настолько запутался в своих мыслях, что сначала даже не заметил группу людей, стоящих на мостовой около одного из домов. Когда он подошел поближе, то удивился их напряженным, неестественным позам, их черной одежде, будто люди собрались на похороны. Раздавались тихие голоса, и Тома увидел черное полотнище с вышитой буквой «Ф», подвешенное, словно занавес, над парадным.
Он не смог ни заметить номер дома, ни прочитать надписи на венках, загораживавших вход, пока не показались гробовщики, которые вынесли покрытый черным гроб. За ними шли женщины в трауре; их лица под черной вуалью показались ему знакомыми.
В этот момент самая изящная из женщин подняла свою вуаль. Тома был потрясен – то была Шарлотта…
Ошеломленный, Тома мгновение стоял посреди дороги. Теперь его утомленный мозг сумел ухватить смысл надписей на венках, качавшихся наверху катафалка: «Моему любимому мужу», «Моему дорогому сыну». Был слышен шепот:
– Бедный Флоке… Такой молодой. И она так преданно ухаживала за ним. Какая ужасная смерть. Бедняжка, это подорвало ее здоровье.
Умер Флоке. Тома застыл на месте. Процессия двинулась вперед, он двинулся вслед, едва ли понимая, что делает. В глазах стояло лицо бледной Шарлотты под вдовьей вуалью.
Он смотрел на склоненные головы родственников покойного, на заднюю часть удаляющегося катафалка, театрально украшенного дрожащими гирляндами бессмертников. Процессия замедлила ход на небольшом уклоне улицы при выезде на бульвар. Прохожие на улице замолкли и, чтобы уступить дорогу, отодвинулись назад, тесня друг друга.
Тома продолжал следовать за печальной процессией, еще не вполне осознавая значение этой смерти. Он даже не знал, что Этьен был болен, и вот теперь его хоронят. Шарлотта стала вдовой.
Мысль о том, что она стала свободной, пронзила его. Тома боялся поверить в возможность счастья, которое еще пять минут назад казалось неправдоподобным, чудом. Счастье? Еще нет. Сам по себе факт, что она свободна, вовсе не означал счастье или надежду на него. Тома должен был хотеть его, а он уже не хотел. Смерть Этьена опечалила его, как могла бы опечалить любая оборвавшаяся жизнь.
Скромные похороны делали мертвого Флоке таким же заурядным, каким он был при жизни. На этом последнем его пути люди проявляли к нему лишь внешнее сочувствие, ведь они знали его отдаленно, только как соседа. Казалось, не было ни одного истинного друга, который бы поплакал у его гроба. Но так только казалось. Поддерживаемая близкими женщина под вуалью отчаянно рыдала, вытирая платочком слезы. Это была не Шарлотта, а мать Флоке, приехавшая из Ниора проводить покойного сына.
Люди шептались между собой.
– Вы хорошо его знали, месье? – услышал он вдруг.
Вопрос задал невысокий пожилой человек.
– Да, я знал его, – ответил Тома и мысленно добавил: «Я почти отобрал у него жену. Я хотел взять все, что у него было. Я никогда не любил его. Он не любил никого, но он умер. Теперь я не могу ненавидеть его. Бедный Флоке! Во всей твоей жизни не было ничего, кроме поражений, теперь я прошу у тебя прощения».
На углу бульвара они были задержаны демонстрацией студентов, выступавших против увольнения одного из профессоров. На мгновение мрачный кортеж был изолирован и потерялся среди кричавших молодых людей.
Затем сопровождающие собрались снова, и Тома увидел Леона Фера с его кузиной Амелией, идущего сразу за семьей Флоке. Тома не стал присоединяться к ним, а пошел позади, замыкая шествие. Процессия достигла церкви Сент-Этьен-дю-Монт, и гроб с телом Этьена оказался в окружении горящих свечей под сводами храма, наполненного громовыми звуками органа. Тома не мог заставить себя войти внутрь.
В начале июня 1869 года общественная жизнь Франции была сконцентрирована на проблеме грядущих выборов в законодательное собрание. Впервые после долгих лет диктатуры избиратели могли почти свободно выразить свою волю.
Наполеон Третий согласился с принципом всеобщего избирательного права, но до сих пор никому не было позволено выставить свою кандидатуру без молчаливого одобрения правительства и администрации. Это обстоятельство, а также то, что пресса до 1868 года была не более чем рупором правительства, означало, что режим мог спать спокойно. Никакая оппозиция не могла стать препятствием для проведения его политики.
До настоящего момента императорская корона, омытая кровью мучеников, погибших на баррикадах 2 декабря 1851 года, казалось, крепко сидела на голове человека, которого Виктор Гюго заклеймил как узурпатора. Тем не менее Наполеон Третий был вынужден ослабить намордник на прессе, и, хотя весной 1869 года газеты более чем когда-либо подвергались штрафам и запрещениям, а журналисты – тюремному заключению и высылке, правительство было вынуждено сдать оппозиции еще один рубеж. Было позволено выдвигать кандидатов на выборы без одобрения дворца Тюильри. В результате оппозиционные и республиканские кандидаты, как в Париже, так и в провинциях противостояли кандидатам, непосредственно представляющим режим.
В первом избирательном округе знаменитый адвокат Леон Гамбетта соперничал с Карно, в третьем – Рошфор выступал против Жюля Фавра, в седьмом – высылавшийся в прошлом по политическим мотивам Дансель противостоял Эмилю Оливье.
Рошфор, живший со времени своего осуждения в изгнании в Бельгии, продолжал редактировать там свою газету «Лантерн», нелегально переправлявшуюся через границу для ее распространения по всей стране. Выдвигая свою кандидатуру на выборах при поддержке бесчисленных влиятельных друзей, он надеялся в случае успеха добиться амнистии, которая позволила бы ему вернуться в Париж.
Случай Эмиля Оливье в третьем избирательном округе был более сложным. Оливье, один из императорских министров, променял республиканские симпатии своей юности на оппортунизм, заставлявший теперь пуристов смотреть на него с сомнением. Его обвиняли в том, что он смиренно следовал имперской политике, предал свои принципы и своих друзей. Эмиль Оливье понятия не имел о том, насколько он непопулярен, и надеялся одержать легкую победу над Данселем, фанатичным оппозиционером, на годы высланным за пределы страны за свои республиканские взгляды.
Отказываясь прислушаться к советам своих хорошо информированных друзей, Эмиль Оливье был настроен на то, чтобы победить любой ценой. На свои деньги он арендовал обширный зал театра Шатле, отведенный для предвыборных митингов, и разослал приглашения своим сторонникам.
Но это не принесло ему успех. Толпа, прослышав о митинге, ворвалась в зал и вытолкала приглашенных. Оливье был окружен возбужденными людьми, и пришлось вызвать полицию. Журналисты Тома Бек, Шапталь и Дагерран достали разрешение присутствовать на этом митинге, чтобы услышать, что скажет Оливье. Тома собирался полностью описать митинг в следующем номере своей газеты.
Небольшая газета, выходящая дважды в неделю под предложенным Марийером названием «Демейн», впервые появилась больше недели назад. Чтобы сохранять расходы на ее выпуск на невысоком уровне, материал компоновался очень кратко и газета выходила всего на четырех страницах, занятых живым и едким текстом. Такой и хотел ее видеть Тома. Персонал редакции работал весь день в кафе «Саламандра» на площади Сент-Мишель. Официальный офис представлял собой не более чем мансарду в одном из старых зданий на улице Сент-Андре-дез-Арт, где составлялись планы и хранились архивы.
В тот вечер все трое, Шапталь, Дагерран и Тома, пошли на митинг. Вторжение толпы не слишком удивило их.
– Этого следовало ожидать, – сказал Шапталь. – Беднягу Оливье съедят живьем.
Публика поднималась со своих мест, все более возбуждаясь, и министр торопливо ретировался. Было много крика, люди пели «Марсельезу».
– Это может скверно обернуться, – сказал Тома, наблюдая, как люди потоком вливаются в зал и собираются толпой вокруг авансцены, служившей трибуной для ораторов.
Трое журналистов проложили себе путь к запасному выходу и оказались на узкой боковой улице. Со всех сторон прибывали полицейские, и комиссар прошел внутрь, чтобы потребовать немедленного закрытия театра. Толпа проталкивалась обратно, атмосфера, и без того напряженная, становилась угрожающей.
Обычная полиция была бессильна совладать с враждебной толпой, и в помощь ей прислали одну из центральных бригад. Их посылали только в случае серьезных беспорядков. Удары жесткими жгутами, скрученными из полицейских накидок, тяжело падали на подставленные спины и бока. В панике значительное число бесчувственных тел было растоптано под ногами толпы.
Дагерран взглянул на Тома, который с побледневшим лицом и стиснутыми губами издали смотрел на побоище. Он коснулся его руки:
– Пойдемте. Сейчас мы не должны допустить, чтобы нас могли арестовать. У нас есть более важные дела.
На обратном пути они прошли боковыми улицами позади театра по направлению к Сене. Тома, кратко пожелав доброго вечера своим друзьям, сказал, что должен идти домой.
– Что с ним такое? – спросил Шапталь, когда Тома покинул их.
– Вы имеете в виду Бека? – сказал Дагерран.
– Да, – ответил Шапталь. – Что случилось с ним? Разве вы не заметили, какой он нервный и раздражительный? То он проявляет бурную деятельность, то вдруг сразу его ничего не интересует. Никогда не видел его таким.
– Возможно, повлияло пребывание в тюрьме.
– Ба! – воскликнул Шапталь, пожав плечами. – Бек никогда не был человеком, которого могли бы изменить несколько месяцев тюрьмы. Я говорю вам, он человек твердый. Это настоящая крепость.
– Может быть, смерть Марийера… – предположил Дагерран.
– Это, конечно, повлияло на него, но не в такой степени. Есть что-то еще, мой друг, о чем он не сказал нам. И если вы захотите знать мое мнение, то я думаю, что здесь, вероятно, замешана женщина…
– Мари?
– Нет, – сказал Шапталь, – едва ли.
– Смотрите, – сказал Дагерран, – он остановился на другой стороне набережной и смотрит на Сену. А говорил, что торопится: видно, только затем, чтобы избавиться от нас.
– Идите к нему, Дагерран. Попытайтесь отвлечь его от себя самого. Возможно, ему станет лучше.
Оставив Шапталя, Дагерран быстро перешел набережную. Погруженный в свои мрачные мысли Тома курил и не слышал, как тот подошел.
– Нет ли у вас огонька? – произнес Дагерран.
Тома быстро повернулся и, узнав его, молча протянул коробок спичек. Они постояли рядом.
– Кажется, здесь спокойно, – заметил Тома, оглядываясь на опустевшую площадь Шатле. – Этих легавых отозвали.
– Да, они вернулись в свою конуру, – подтвердил Дагерран. Он подождал и добавил: – Вам бы хотелось остаться одному? Может быть, мне лучше уйти?
– Нет, – ответил Тома, продолжая спокойно курить. Его суровый профиль четко вырисовывался на фоне темноты. Долгое время оба молчали.
– Вы так быстро оставили Шапталя, – вдруг сказал Тома, – и пошли прямо сюда. Вам хочется поговорить со мной?
Они не смотрели друг на друга.
– Нет, не в этом дело, – сказал Дагерран. И после короткого молчания добавил: – Послушайте, я вполне могу довериться вам. Шапталь беспокоится о вас. Он считает, что вы находитесь в слишком напряженном нервном состоянии. Он наблюдает за вами, как настоящая наседка. Послал меня, чтобы я попытался выяснить, что с вами. – Дагерран рассмеялся и хлопнул Тома по спине. – Ничего серьезного, не правда ли, Бек? Вас беспокоит новая газета? Я понимаю. Чувствую то же самое. Надежда может иногда причинять боль. Шапталь старше. И он слишком толстый, чтобы испытывать энтузиазм, поэтому он и не понимает.
Не говоря ни слова, Тома раздавил каблуком свою сигару.
– Иногда я думаю, – сказал он наконец, – не слишком ли и я стар для такого энтузиазма. – Он устало посмотрел на Дагеррана. – Да, иногда я думаю, не является ли надежда, о которой мы говорим, надежда на лучшую, свободную жизнь, основанную на равенстве и совести всех людей, иллюзией, порожденной нашими собственными умами. Чего мы добились? Упразднили некоторые виды рабства только для того, чтобы завести новые. Наш образ действий не более, если не менее, передовой, чем раньше. Мы утратили культ красоты и заменили его бессмысленными табу. Что же изменилось в реальности? Те же силы делят между собой мир. Бедные зарабатывают на жизнь тяжелым трудом. И если мы больше те бросаем преступников львам, то вместо этого посылаем своих молодых людей погибать под пулями ради притязаний на величие в интересах немногих спекулянтов.
Они смотрели друг другу в лицо. Дагерран чувствовал, что Бек страдает не только от идейного разочарования, ко и еще от какой-то боли, причину которой он не может раскрыть.
– Бек, – сказал Дагерран, – я никогда раньше не видел вас таким. Вы никогда не отступали. Всегда у вас была ясная голова. Вам все было известно вчера, и вы надеялись, несмотря ни на что. Так почему же сегодня все изменилось? Что случилось? Вы несчастливы, не так ли? Человек, который несчастен в личной жизни, не может со спокойным сердцем работать ради своих идеалов. Вы несчастны?
– Нет! – резко ответил Тома.
Он отвернулся, еще плотнее стиснув зубы. Дагерран наблюдал в темноте за своим другом: мощная фигура, широкие плечи и пустой рукав. Он видел Тома в полупрофиль, и ему казалось, что этот человек может свернуть горы. Впервые он смотрел на Тома не только как на друга, который вел его за собой, но и как на обычного человека. Он думал о том, какой могла быть у него личная жизнь, думал о его отсутствующей руке. Потом он мягко спросил:
– Все из-за женщины, Бек?
– Какая польза говорить об этом? – устало сказал Тома.
– Я ваш друг.
Бек тоже словно впервые посмотрел на Дагеррана. До сих пор они были объединены только общими идеалами. Теперь Тома обратил внимание на умное лицо и яркие глаза друга. У Дагеррана был чудесный тонкий профиль, и в его глазах светилась жизнь.
Тома вспомнил о смерти Марийера. Сердце защемила глубокая тоска, и он подумал, не мог ли стать ему настоящим другом Жозеф Дагерран.
– Женщина, не так ли? – снова спросил Жозеф.
– Да, – сказал Тома.
– И это Мари!
– Да, – снова сказал Тома, – Мари.
– Оставьте ее, идите к другой, – сказал Дагерран.
– Не могу, не имею права.
– Это не причина, – сказал Дагерран. – Вы сделаете несчастной Мари, так же как и себя.
– Нет, вы понимаете, я не хочу все снова разрушить. Это вызвало бы столько неприятностей, чего я не могу и не хочу допустить.
Он быстро повернулся и пошел по направлению к улице, словно ему хотелось как можно скорее оказаться на освещенных улицах города.
Тома начал оживленно говорить о газете, но этот поток слов не мог скрыть его отчаяния. Дагерран ни разу не осмелился упомянуть о своей жене и детях: ведь он был счастливым человеком или по крайней мере верил, что это так.
Выборы в законодательное собрание нарушили обычное течение жизни Парижа. Все были в волнении. Люди с энтузиазмом шли голосовать. Правительство, настроенное оптимистично (без всяких на то оснований), истратило три миллиона франков на кампанию по обработке общественного мнения. На практике это означало, что покупалась каждая газета, настроенная более или менее благоприятно к режиму и срывались предвыборные митинги оппозиции. Убежденный, что кампания такого рода привлечет на его сторону большинство избирателей, Наполеон Третий спокойно ожидал первых результатов голосования.
Вечером в день выборов, двадцать третьего мая, Париж был охвачен всеобщим возбуждением. Каждый стремился на улицу, где можно было обсудить последние новости и купить свежие газеты.
Царила атмосфера веселости и возбуждения. Тома Бек и Жозеф Дагерран задержались, работая над корректурой, в маленькой типографии на боковой улочке позади рынка Мадлен. Это было довольно далеко от их офиса на улице Сент-Андре-дез-Арт, но старый печатник был другом Шапталя и установил для них льготную цену.
Около десяти часов они закончили работу над последним вечерним выпуском. Окончательных результатов еще не было, и они должны были ждать до рассвета, чтобы узнать последние сообщения. Примерно в десять часов вечера Жернак и Шапталь зашли за своими друзьями, которые еще не обедали.
– Все идет очень хорошо, – сказал Шапталь, потирая руки. – Мы одержим победу практически во всех этих избирательных округах.
Победа Гамбетты была почти очевидна, но все же Тома не мог быть спокойным. Его газета поддерживала кандидатуру Рошфора в третьем избирательном округе. Соперником Рошфора был Жюль Фавр, явный кандидат правительства.
– Рошфор выиграет, – с оптимизмом продолжал Шапталь.
– Это будет нелегким делом, – предсказал Тома, – остальные сделают все возможное, чтобы не пропустить его, увидите. Они согласятся на любой избирательный блок.
– Оппозиция будет иметь некоторый успех в Париже, – сказал Дагерран, – но в провинции нас ждет разочарование. Администрация снова будет манипулировать голосами избирателей.
– А как насчет того, – громким голосом произнес Шапталь, – чтобы хорошо пообедать вам обоим, а? Голодание не принесет ничего хорошего, только сделает несчастными.
Как обычно, он превосходно пообедал и был в отличном расположении духа. Дагерран улыбнулся и потянул Тома за рукав.
– Мы так и поступим. Я страшно устал, это факт.
Оба направились к бульвару, по которому в обе стороны прогуливался народ, как во время карнавала. Присутствие на улицах такого большого количества людей, гуляющих целыми семьями, стайки молодых девушек с лентами в волосах и в нарядных шляпках говорило о том, что все ожидают важных событий. Страна пробуждалась, и, хотя окончательных результатов выборов еще никто не знал, люди верили в неизбежность перемен. После восемнадцати лет политического бездействия внезапно, в один вечер, парижане проявили свой темперамент и свое свободолюбие, казалось, утраченное.
Группы возбужденных молодых людей шли с пением «Марсельезы», и буржуа смотрели на них со снисходительными улыбками. Около рынка Мадлен человек, обращаясь к толпе, выкрикивал: «Да здравствует республика!», – нимало не заботясь о полиции, которая могла подойти и арестовать его в любую минуту.
– Его же посадят, – сказал Тома Дагеррану, увидев оратора, выступающего с речью. – Они пугают меня, – добавил он мгновение спустя. – Эта толпа… Годами люди спокойно подчинялись, терпели тиранию, их нельзя было заставить сказать хотя бы одно слово против власти. И вот сразу, в один день, все отвернулись от порядков, которые раньше признавали, и готовы даже повесить своих прежних идолов. Я нахожу это ужасным.
– Чего же вы хотите, – философски заметил Дагерран. – Люди встают на сторону сильнейшего. Толпа – как женщина: она нуждается в повелителе. Она может вытерпеть очень многое, прежде чем поднимется против притеснителей, но после этого ее не удержать.
Они начали искать какой-нибудь ресторан, но все подобные заведения на бульваре в это время вечера уже были заполнены. Единственное место со свободными столиками, которое они нашли, было дешевой столовой на старой улице, куда обычно заходили пообедать уличные торговцы с рынка Мадлен. Не имея иного выбора, они решили зайти, и там, вопреки ожиданиям, им подали вкусное тушеное мясо, которое они запили неплохим вином.








