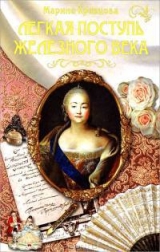
Текст книги "Легкая поступь железного века..."
Автор книги: Марина Кравцова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
«Как же пустынно, даже холодно, – думала девушка. – Мрачно, красок теплых нет. Понятно, как тяжело Надин быть почти что узницей этого дома… Да, но где же может быть граф?»
Из галереи выход вел в малый зал. За ним – еще один… Наталья хотела было идти дальше, уже взялась за ручку плотно закрытой двери, но услышала голоса. Говорили по-немецки. Невольно прислушалась. Один голос принадлежал хозяину дома, другой также показался девушке знакомым. Вспомнив Наденькино возмущение, узнала – Фалькенберг.
– Говорю вам, Иоганн, нынче Иностранная коллегия ничего не значит! – Прокудин, кажется, сердился. – Сейчас одно лицо – и есть вся коллегия…
– Так о том и речь. Но вы же имеете доступ к секретным документам, в конце концов. Что же, ничего нельзя сделать? Я сегодня встречаюсь с Лестоком… Ненавижу этого выскочку, вы это знаете, но таково желание отца Франциска.
– Отец Франциск – выдающийся ум. Но даже он не в состоянии справиться с Бестужевым.
– Глупости. При желании можно справиться с кем угодно.
– Но я вовсе не желаю начинать войну с вице-канцлером, я не самоубийца!
– Можете считать, что вам дано на это благословение отца Франциска.
– Так пусть он сам скажет мне об этом сам! И давайте, Иоганн, друг мой, помолчим… в моем доме.
– Кого вы боитесь? Ваши слуги понимают по-немецки?
– Здесь еще эта девушка… Вельяминова. Мне очень не нравятся ее посещения, но моя дочь иногда становится так упряма… К счастью, это с ней случается нечасто.
– Вельяминова здесь сейчас?
– Фалькенберг, она вам приглянулась?
Молчание, потом вымученный смешок.
– Нет, конечно! Что за вздор?
– А почему бы и нет? Она достаточно красива и достаточно умна. Настолько красива и умна, чтобы стать хорошим агентом.
– Да это просто бред!
– А что вы так разволновались? Разве она не сестра Александра Вельяминова – Бестужевского агента, который, кажется, имеет наглость присматривать за мной? Вы слышите меня, Фалькенберг?! Этот мальчишка мной интересуется.
– Этот мальчишка очень скоро не сможет никем интересоваться.
– Что такое?
– О, это маленькая тайна! Тайна господина Лестока.
– Вы отделаетесь от Вельяминова? А что будет с его сестрой?
– Что? Она, надеюсь, не пострадает. Зачем впутывать лишних людей?
– Какое благоразумие… Надеетесь или уверены? Вы взяли с Лестока обещание, что девушку никто не тронет? Я, кажется, догадываюсь о вашей тайне…
– Вы столь проницательны?
– Немножечко русской смекалки… Затем волочиться за Лопухиной, которая намного старше вас, будучи безумно влюбленным в Вельминову?
– Не влюблен я в нее, сударь!
– Что с вами? Мне-то что за дело до того, в кого вы влюблены?
– Тогда и не спрашивайте. И, действительно, переменим тему…
Наталья бесшумно скользнула назад, и оказавшись вновь в галерее, замерла перед картинами, делая вид, что внимательно их рассматривает. Ей хотелось унять сердцебиение и попытаться придать себе безразличный вид. Постояв недолго перед какой-то мифологической героиней, она немного успокоилась… Теперь нужно было проделать недавний путь в обратном направлении.
Вернувшись в комнату Наденьки, которая по-прежнему спала, девушка упала в глубокое кресло и притворилась также спящей. Так и застала ее Наденька, вскоре открывшая глаза…
В тот же день разговор стал известен Александру Вельяминову. Брат разволновался.
– Никому… ни единой душе…
– Мог бы и не предупреждать, братец… Что они против тебя задумали?
– Не знаю. Знаю только то, что давно подозревал Прокудина… О, я как можно скорее поговорю с вице-канцлером! Да, Наташа, прости. Не успел тебе сказать: Петр вернулся на днях, я от него записку нынче получил. Он приглашен на сегодняшний вечер к графине Анне Бестужевой. Мы ведь, кажется, тоже приглашены?
– О да!
– Меня там не будет, а ты поезжай, отвлекись от дум…
– Саша, я так боюсь за тебя!
– Не бойся. Они не понимают, с кем связались.
– Бедная Наденька. Кем она окружена!
– Да… Но Прокудин понял, кажется, главное, – Александр усмехнулся. – Пока русские интересы защищает Бестужев, сам Господь будет покровительствовать ему… Какие бы грехи за вице-канцлером ни водились.
Вот что вспоминала Наталья после ухода брата, терзаемая болью от измены жениха, вот что еще не давало ей покоя.
Александр тем временем, теряясь в догадках, ехал к своему лучшему другу поручику Петру Белозерову. К Бестужеву не торопился: был уже у него вчера и узнал приватно от слуг, что вице-канцлер вернется лишь под утро. Стало быть – сегодня, но ведь графу и отдохнуть надобно будет от ночи, проведенной за карточным столом… А такое дело, как честь сестры, отлагательств не терпит.
Петр, едва увидев Вельяминова, крепко, порывисто обнял его, хоть тот и пытался отстраниться.
– Я ожидал тебя, Саша. Выслушай меня, умоляю. Хоть как потом казни – но выслушай!
– Для того я и здесь, чтобы услышать твои объяснения, – отвечал Александр сухо. – Но вот приму ли…
– Должен. Потому что… Да разве вольны мы в движениях сердца своего?
– Говори!
– Ты знаешь, что я отправился к дяде, – начал рассказывать Белозеров, – после неприятнейшего сего, прямо скажу, визита, собирался я посетить свою вотчину. Но так туда и не доехал – лиходеи помешали.
– На тебя напали разбойники?!
– Да, напали, ранили и умирать бросили. Вернее, полагаю, мертвым уж сочли. Долго ли я был без памяти – не знаю. А когда очнулся…
Глава вторая
Сельский роман
…Петр лежал в ворохе сена в сарайчике возле покосившейся избушки и бредил. Что-то лихорадочно срывалось с его сухих горячих губ. Иногда он приоткрывал глаза. Перед замутненным взором являлись какие-то лица – сморщенная старушка в черном платке, девушка – бледная и печальная. Кустистые брови старухи хмурились, синеватые губы шевелились, словно она что-то сердито бормотала. Темные глаза девушки оказались вдруг близко-близко и неожиданно расширились, растворились и исчезли, потому что все исчезло. Петр снова впал в забытье.
Очнулся Белозеров на пуховой перине. Пахло цветами и в то же время чем-то резким, горьким – лекарством, что ли, каким? Полог кровати был приподнят, и Петр увидел, что солнечные лучи стелятся по полу полосами золотисто-белого света. Петруша вздохнул, провел по лбу рукой и сел на постели – в боку вспыхнула сильная боль. Что это, чужая рубашка? Да, его должна быть в крови. Он вспомнил все…
Тихий скрип двери, мягкая, осторожная походка… Перед Петрушей пожилой человек, одетый роскошно, хотя и по-домашнему. Лицо веселое, голубоглазое, широкое. Увидев очнувшегося Петра, человек радостно развел руками.
– Наконец-то, сударь мой! Опамятовались… Как я рад!
– С кем имею удовольствие?.. – прошептал Петруша, силясь подняться.
– Ох, что вы, лежите! Слабы вы еще. Я Любимов Степан Степанович, а вы, сударь, у меня дома, в родовой вотчине моей – Любимовке.
– Почему? – почти простонал молодой человек, на резкое движение в боку рана отозвалась острой болью.
– Девки, голубчик, собирали ягоды в лесу да вот нашли добра молодца… Много дней были вы без памяти. Должно быть, разбойнички, а? Они у нас пошаливают, злодеи! Вы-то, батюшка, кто будете?
– Поручик лейб-гвардии Преображенского полка Петр Григорьевич Белозеров.
– Ба! Уж не племянником ли Артамону Васильевичу Бахрушину доводитесь?
– Да, я племянник его.
– Очень рад, сударь, очень рад! Артамон Васильевич мой сосед и первейший друг. Милостивый государь, будьте моим дорогим гостем! Лекарь уверяет, что скоро вы на поправку пойдете.
– Спасибо вам, Степан Степанович. Господь отблагодарит вас за вашу доброту!
– Да полно вам… Дядюшку, верно, стоит известить?
– Нет! Зачем… старика волновать понапрасну?
– Как угодно. Больше утомлять не смею.
Петруша еще раз бессвязно пробормотал слова благодарности и вскоре погрузился в дремоту. Сон его был легким и свежим, вовсе не похожим на прежнее забытье…
Выздоравливал поручик быстро. Стало быть – скоро в дальнейший путь. Но уезжать не хотелось. Почему? Приглянулся ли ему богатый дом, который сам Любимов не без тщеславия звал «дворцом»?
Вроде бы ничего особенного с ним в этом «дворце» и не случилось. Просто столкнулся однажды Белозеров с милой девушкой из челяди, которая, опустив взгляд, шла навстречу, прижимая к себе связку одеял. Видимо, была она слаба, так как едва тащила немалый тюк.
Не подними она на миг на Петра больших бархатисто-карих глаз, он бы ни за что не узнал ее. Но этот особый тихий их свет и мягкий блеск… эти пушистые ресницы…
– Постой! – воскликнул Петруша. Она не остановилась, скорее замерла, быстро отведя взгляд. И вновь показалась вроде бы мало чем примечательной крестьянской девчонкой. Но если приглядеться… Худа, но стройна, на бледных щеках – горячечный румянец, детская складка губ. И взгляд – что за взгляд! И пушистая темно-каштановая коса, воздушные завитки, все время непослушно выбивающиеся на лоб…
– Дай-ка, помогу тебе!
Она покачала головой, сильнее прижала к себе свою ношу, словно боясь за нее.
– Я тебя уже видел, – продолжал Петр.
– Видели, барин, немудрено…
– Да нет же! Я когда раненый лежал, в бреду… сквозь мглу глаза твои видел! Не во сне же…
– Не во сне.
– А я и думаю… Мне Степан Степанович рассказывал, что девки ягоды в лесу собирали, а одна из них на меня и вышла. То ты была?
– Я.
– Так это тебе я жизнью обязан!
Она вздохнула, как-то устало.
– Я или другая… Господь вам жизнь спас. Его воля была. Его и благодарите.
Он попытался без слов забрать ее ношу, но она мягко вывернулась, неловко поклонилась и пошла своей дорогой.
Петруша, слегка ошеломленный, вернулся в комнату, отведенную ему Любимовым, присел в мягкое кресло, задумался. Он не мог избавиться от странного впечатления – было в девушке нечто, что в уме его не укладывалось. Чарующая какая-то непонятность. Не разобрал он этого в первый миг, а потом… Как она говорила… Петр усиленно вызывал в памяти звуки ее голоса. Не то удивительно – что говорила, а – как… Разве – как дворовая? А движения, поворот головы, то, как тащила она эти несчастные одеяла, как поклонилась ему… А взгляд?..
– Милая… – невольно прошептал Петр…
Вечером ждал Петруша мальчишку, казачка Антипка, коего Любимов приставил для услуг к «дорогому гостю». Антипка был паренек болтливый, речь его порой скороговоркой звучала, и, стало быть, в несколько вечеров поручик многое узнал про Степана Степановича и про дочь его, княгиню, и про покойницу-жену, про челядь и крестьян любимовских, про соседей-помещиков… Чувствуя доброе отношение к себе, Антипка охотно болтал с молодым барином. Только про странную девушку, вспоминал Петр, вроде бы разговора не было…
В этот раз, едва появился казачок, начал сразу:
– Скажи-ка, есть у вас девица некая…
– Маша-то? – сразу признал Антипка по описанию.
– Наверное. Чудно мне в ней что-то показалось. Мало слов она произнесла, однако ж речь ее звучала – будто и не холопка…
– Дак Марья Ивановна и по-господски говорить может, и вообще не по-нашему, по чужестранному.
– Как же так? Кто ж учил этому дворовую девку?
– А барышнин учитель-хранцуз. Его барин по дочернему желанию аж из Питехсбурха выписал. Катерина-то Степановна была в стольном граде, сказывала, что при дворе Государынином по-хранцызки все ныне говорят. Так вот хранцуз, бывало, начнет поучать Катерину Семеновну всяческим своим премудростям, Маша тут же, в уголочке, и слушает. Катерина Семеновна учителю велела, он и Машу по-своему, по-заморски спрашивал. Марья Ивановна и на музыке всякой играет. Сама барыня покойная, Царствие ей Небесное, любила ее слушать. Да, барыня Варвара Петровна добра была к Машеньке. За барышню в доме держала.
– Почто же так?
– Дак… кто ж знал? На то была ее барская воля. Да и то сказать, мать Машина, Лукерья, любимой горничной была Варвары Петровны. Может, из-за матери и дочь привечала.
«Так, – подумал Петр, – а померла барыня, и не в чести ее любимица стала. Бледна, умаялась, не до музыки, видать, не до языков заморских. Узнать бы надо, что такое».
– А счас Марьей Ивановной у нас кто хошь помыкает, – ответил на его мысли Антипка.
– Отчего же?
– У барина не в чести. Бабы-дуры завистливы, радуются, что нынче Маше житье стало хуже некуда. Бабка у ней одна в живых. Старая-престарая бабка, живет на краю деревни в ветхом домишке. Марья Ивановна как минутку улучит, все к ней бежит. Без нее померла бы давно старуха.
«Уж не та ли старуха, – подумал Петруша, – что представлялась мне в бреду?»
Антип давно уже помог ему с приготовлениями на ночь и теперь стоял, ожидая, не пожелает ли барин чего еще приказать или о чем поговорить. Но так и не дождавшись, сам спросил:
– Еще чего прикажите, Петр Григорьевич?
– Ничего, иди, – отвечал в задумчивости Петр.
Оставшись один, молодой человек упал в перины, даже не задув свечу. Он знал, что не сможет быстро уснуть. Хотя в свече-то и особой надобности не было – ночь была светлая. Неотрывно глядел поручик, как все ниже и ниже становится восковой столбик, как казавшийся полуреальным огонек тревожно трепещет пойманной бабочкой, словно ужасаясь приближающейся с каждой истекающей каплей воска смерти. А за окном все ярче розовел восток…
Тем не менее, утром Петр поднялся рано – Любимов в это время еще мерно похрапывал. Девушку, о которой думал полночи, Белозеров нашел в другой половине дома – она мыла пол, стоя на коленях, усердно терла светлые доски.
– Маша! – окликнул Петр.
Вздрогнув, девушка быстро поднялась. Забыв даже поклониться, она смотрела сейчас на молодого человека и медленно краснела, но не отвела взгляда как вчера – напротив. Глаза-очи глядели строго, нечто странное таилось в их темной глубине. Казалось, она даже сердится… Наконец, опомнившись, Маша бросила тряпку, медленно провела рукой по мокрому лбу. Глаза потухли.
– Простите, барин.
– За что? – изумился Петруша.
Не ответила – сама, видимо, не понимала, за что.
Петруша начал было возражать, но замолчал, разглядев синяки на тонких бледных руках девушки, по локоть открытых. Маша поймала красноречивый взгляд, сделала движение, собираясь одернуть засученные рукава, но передумала. Так они и стояли и смотрели друг на друга, пока обоюдное молчание не стало совсем уж неловким.
– Устала? – мягко спросил Петруша.
Она вдруг улыбнулась.
– Ничего, справлюсь.
Нежданно-негаданно явилась баба Таисья, начальная над всеми дворовыми девками. Низехонько поклонившись Петруше, сладко проворковала:
– Хорошо ли почивали, сударь Петр Григорьевич? А уж и барин проснулся, скоро к чаю сойдет.
Петр понял. Хотел было дать волю негодованию, но вовремя сообразил, что заступничество его непрошенное только во вред Маше пойдет. Нехотя бросил:
– Хорошо, иду к нему.
Уходя, оглянулся. Таисья сурово распекала Машу, та стояла, отвернувшись. Петруша поморщился, словно вновь дала о себе знать боль от раны.
Прогулка с Любимовым не развлекла. Петр был рассеян, но подметил несколько изб-развалюх, принадлежащих любимовским крестьянам. Сие значило, что Степан Степанович – нерадивый хозяин, и не помышляет о том, что за вверенных ему Господом людей будет он ответ держать на Страшном Судище Христовом.
После обеда хозяин прилег заснуть по дедовскому обычаю, и Петр вновь задался вопросом: где же Маша?
– Маша-то? А ее стряпуха Федора послала за малиной, – ответил Антипка. – Говорю ж: ею все нонче помыкают.
Сад у Любимова был на редкость обширный, густой. Пребывал он в некотором небрежении, но оттого диковатая красота его еще сильнее радовала глаз Петра, чопорности не любившего. На окраине у частокола разрослись кусты малины, в которых без труда можно было спрятаться, поэтому девушку, собиравшую ягоды, Петр увидел не сразу. Она же, услышав шум, бросила тревожный взгляд в его сторону и, облегченно вздохнув, вновь принялась за свою работу. Петруша почувствовал себя вдруг весьма неуверенно.
– Я тебя искал тебя, – пробормотал неловко.
– Зачем же, Петр Григорьевич?
Поручик промолчал. Некоторое время он неотрывно наблюдал, как тонкие пальцы вовсе не крестьянских рук срывают крупные, опушенные тончайшими ворсинками ягоды. Он сам взял небольшую ягодку, раздавил ее в пальцах и поднес к лицу, вдыхая неповторимый малиновый аромат.
– Маша, – решился наконец, – не прогоняй меня! Я хочу сказать… Я помогу тебе! Вот те крест…
– Не божитесь, грех это! – Маша упорно не смотрела на него, сосредоточенно разглядывая осыпанный малиной куст.
– Ну, не буду божиться… Поверь мне запросто. Только скажи – что сделать для тебя?
– Ничего не нужно, благодарствую. Не стояли бы вы здесь со мной, барин, не вели бы разговоров. Ни к чему.
– Чего ты боишься?
Она отпустила наконец ветвь и выпрямилась, пристально взглянув поручику прямо в глаза.
– Всего я боюсь, барин. И себя – тоже.
– И меня, стало быть, боишься?
Маша, не ответив, резко наклонилась к спрятавшимся в глубине куста ягодам, и Петруше показалось, что он услышал нечто вроде всхлипывания. Похоже, она плакала и явно не хотела, чтобы он увидел ее слезы. Ничего не оставалось делать, как уйти…
Набрав лукошко малины, Маша направилась к барскому дому. Вдруг вылетел на нее коршуном из-за конюшни молодец, схватил за локоть.
– Здравствуй, Марья Ивановна! Куда бежишь от меня? Не подойдешь, не приветишь – давно ли так стало? Дозволь уж, сударушка милостивая, словечком с тобой перемолвиться.
Красивый черноглазый парень с курчавой бородой говорил с насмешкой, а глаза его поблескивали едва ли не яростно.
– Пусти меня, Гриша! Иди своей дорогой. Недосуг мне…
– Недосуг! Меня отсылаешь?! И впрямь, видать, позабыла, что я жених тебе?
– Нет! – покачала головой Маша. – Ты мне не жених, а я тебе не невеста. Другую поищи.
У Гриши дернулось лицо, но он пересилил себя, заговорил с притворной веселостью:
– Да за что ж так сурова ко мне стала, Марья Ивановна? С ума сводишь! Видать, и впрямь память девичья коротка – забыла, что ли, как сама меня милым и суженым называла?
– Пусти же, Гриша! И впрямь недосуг! – Маша изо всех сил рванулась прочь, но сильный парень вцепился в нее намертво.
– Сдурела совсем? Сама ж по мне сохла! Или то не ты была?
– Думала, любишь.
– Люблю! Знаешь ведь, что в целом свете одна ты мне и мила!
– Говори, Григорий, что хочешь – я не верю! И замуж за тебя не пойду.
– Не пойдешь?! – Григорий отпустил ее локоть, но лишь для того, чтобы больно схватить за плечи. – Пойдешь, коли барин велит! Волей, неволей – моей будешь!
– Что здесь такое?
Гриша невольно вздрогнул, и, ослабив хватку, обернулся. На них смотрел Петр Григорьевич. Ничего делать не оставалось, как отпустить девушку. Стиснув зубы, парень нехотя поклонился и поспешил уйти.
Маша переводила дыхание и утирала взмокший лоб, отводя от него легкие темно-каштановые прядки. Она настолько растерялась, что не знала, что ей делать.
– Может, проводить тебя? – предложил Петр ласково, словно с ребенком разговаривая. Девушка покачала головой. Подняла упавшее лукошко, стала подбирать рассыпанные ягоды. Петр принялся ей помогать. Неизведанное доныне чувство наполнило сердце болью – но боль эта была сладка. Так сладка, что он уже променял на нее все свое прежнее счастье…
Бабка расхворалась настолько, что даже не могла встать навстречу неожиданному гостю. Неловко чувствовал себя Петруша среди нищеты и убогости, да и Авдотья вовсе не была обрадована визитом молодого пригожего барина в свои «хоромы». Сердито посматривала она на него из-под поседевших бровей.
– Что вам до меня, барин, в толк не возьму.
– Да уж сказывал, бабушка.
– О Машке разузнать хошь? На что тебе?
– Не на зло ей, на благо.
Старуха пожевала губами.
– «Не на зло»! – передразнила. – Будто не знаю я задумок ваших… Что от девки барчонку надоть…
– Господь видит, не лгу я! Спасти ее хочу. Тяжко ей…
– Да уж без тебя ведаю! Не на беду ли свою нашла тебя Машенька почти без жисти? Ох! Горе какое девке! За что? За грехи чужие!
– Бабушка, не таись!
– О Машеньке разведать пришел, – ворчала бабка. – О внучке моей.
Она вновь с укором взглянула на Петрушу и вдруг недобро ухмыльнулась. – А ну как она мне и не внучка совсем!
– Как же так? – растерялся Петруша.
– Так! – Бабка опустила голову. – Дочь моя, Лушка, давно уж померла. Она покойной барыне верно служила. Любимейшей прислужницей была… А таковских и бьют сильнее! За Лушкино почтение барыня-то и дочку ее, Машеньку, в чести держала. А ты вот скажи мне, барин, – вновь повысила голос старуха, – как же Лукерья-то моя дочку родить могла, когда она о ту пору уж давно вдовой была? Лушка моя не какая-нибудь там была, не гулящая! Ан вон и не она Машку выносила, а покойная барыня! – с каким-то злорадным торжеством заключила бабка Авдотья.
Петр ахнул.
– Да оно не хитро! – усмехнулась старушка. – Барин-то в отъезде был, а про барынины грехи никто и не прознал! Ловка, смекалиста… Лушку застращала что ли чем? Про то я не прознала, только Лукерья-то моя к животу подушку привязывала, а Варвара Петровна много месяцев болеть изволила, и никто к ней не входил, акромя Лушки, да лекаря ейного, заморского. Так-то! Лушке моей срам от людей, ну да Варвара Петровна обижать ее не позволяла. А люди все примечают! Мне Лукерья бросилась в ноги и во всем созналась. Молила все сохранить в тайности. Машку за дочь признала, любила ее. А Варвара Петровна Машеньку вместе с барышней Катериной Степановной растила. Так-то оно, барин!
– Маша знает? – изумленно выдохнул Петр.
– Да люди болтали, верно, слух и до Машки и, вестимо, до барина дошел. А потом же, Машенька как в возраст вошла – стала вылитая барыня. Не мудрено разгадать…
– Да как же мать могла дочь свою в крепостной неволе держать?
– Дело ясно – мужа боялась. Что там про меж них было, нам не ведомо. Може, и хотела Машкину судьбу устроить, не успела – померла. Чо тут гадать?
– А кто же отец Маши?
– И-и, пойми теперь. Варвара Петровна барынька бойкая была, а барина не любила.
Петр молчал, нахмурившись.
– Значит, поэтому Машу так Степан Степаныч не любит, – в раздумье проговорил он, наконец.
– Вестимо! Сперва гнать хотел на скотный двор, как барыня померла. Барышня-то вышла замуж, княгиней стала. Упорхнула из гнезда родимого, выдала Машку отцу на расправу. А потом что-то подобрел Степан-то Степаныч, сам уж Машку в каменья, в парчу обряжать было вздумал… Не поймешь, что ль, почему? – вдруг почти прикрикнула бабка, глядя на Петрушу злыми глазами.
– Быть не может! – вновь ахнул тот. В полутемной своей «храмине» все же сумела разглядеть Авдотья, как переменился он в лице.
– Ну вот – не может! Да что с тобой, барин? Машка-то не гляди, что не красавица, любую кралю за пояс заткнет. Да только по тому самому, как помыкает ныне ею, горемычной, любая поломойка аль стряпуха, поймешь ты, любезный, как моя Машенька барину повиновалась!
Петр молчал, мрачно глядел в угол, ничего не видя. Бабка Авдотья приглядывалась к нему с любопытством.
– Вы уж, барин, на меня не гневайтесь! – вдруг присмирела она. – Обидно мне стало, чего-й то вы пришли о Машке выведывать. Люблю я Машеньку-то. Лукерья ее за дочку родную считала, своих-то детушек не дал Господь. А вам Машу грех бы обидеть, ох какой грех! Она вас из леса тащила, со всех сил, пока Антип не пришел на подмогу. Да сюда, ко мне. Вона сараюшка у избы стоит… Я, грешница, думала, Богу душу отдадите. Жалела вас Машенька. Всё молитвы над вами читала. Потом Антип уж барину все обсказал – взял вас барин в хоромы. Так вы, небось, теперь за него-то, барина, свечку Богу поставите! – усмехнулась. – Ох, грехи мои тяжкие! И чего разболталась-то я? Думала, все одно люди набрешут, дай уж я… Ведали чтоб, коль Машку обидеть решились… Пришел, расспросил, я все и обсказала! И верно! – вновь рассердилась бабка. – Чо ходить? Чего всем от Машки надобно? Несчастливая она, сиротинушка горькая. Доволен ли теперь, барин? Хошь, поди к Степан Степанычу, пущай узнает, о чем я тебе тут врала! Засерчает – так и так помирать. Я свое отжила, а Машке что уж хуже того, что есть… Так-то! Ох, грехи наши, – вновь заохала больная старуха.
Петруша уже не слушал ее причитаний…
Степан Степанович в своей опочивальне занимался важным и тайным делом. Запершись изнутри, он достал из тайника шкатулку, почти доверху набитую драгоценностями, и опустил в нее золотой перстень. Любуясь блеском дорогих камней, призадумался. Вероятно, думы его были приятны, так как он не сдержал улыбки. Наконец не без жалости закрыв шкатулку и заперев ее, Любимов вновь убрал свое богатство в тайник, сокрытый старинной иконой, и умильно на тот образ перекрестился. Ключик от шкатулки повесил себе на шею.
Выходя из спальни, столкнулся с Гришкой.
– Чего тебе! – гаркнул на парня. Гриша, словно красна девка, потупил взор.
– Милости пришел просить у вас, барин.
– Какой такой еще тебе от меня надо милости? – проворчал уже спокойнее Любимов.
– Да все… все о том же деле…
– Да говори, не тяни!
– Марью Ивановну в законные жены обещать изволили…
– Обещал так обещал, чего еще хочешь?
– Я-то ничего… Я обожду, коли что, Степан Степанович. Да Марья Ивановна…
– Что? Или уже не согласна?
– Не угоден я ей стал, барин, нос от меня воротит.
Любимов сжал кулак и, потрясая им, прокричал:
– Много думает о себе твоя Машка! При мне, небось, не как при покойной Варваре Петровне! Да и то, лишь Катеньку любя, потакал глупому дочкину капризу – склонности ее к этой девке. Не бойсь, Григорий, я покажу этой несносной, как надобно господина почитать. Готовься к свадьбе – не за горами. Любимов свое слово держит.
Петр теперь часами, особенно под вечер, гулял возле избенки Авдотьи, поджидая Машу. Бабка больна – не может Машенька к ней не вырваться, хотя бы тайком.
Да, зажился он в Любимовке, пора и честь знать. Но уехать сейчас – смерти подобно. Не жизнь будет – медленная пытка. Нет, не случайно привел его Господь сюда, не случайно…
Вот она! Не спутаешь ее походку. Петруша скрылся за знакомым сараем. Слышал, как болезненно заскрипела дверь в избу. Еще немного подождать… Тишина, темнота, легкий ветер шевелит волосы… Петруша бросил труголку наземь, уселся на траве, прижавшись спиной к дырявой стене сарая. Вновь это чувство – боли мучительной, но сладкой как счастье. Что же делать тебе, Петр Григорьевич? И чего ты хочешь от этой девушки?
Ждал он недолго. Вновь застонала дверь, Маша бесшумно выскользнула из избушки в полосу лунного света. Петр тихо ее окликнул.
– Вы? Что вы? – ее возглас был как вздох. – Хотите моей погибели?
Петруша покачал головой.
– Поговорить… – прошептал он. – Хотя бы пять минуток…
Маша, прищурившись, пыталась разглядеть лицо молодого человека в бледном свете луны. Потом едва ли не в отчаянии схватила его за рукав. Он опомниться не успел, как девушка протащила его за собой и почти что втолкнула в сарайчик. Захлопнув дверцу, встала перед ней, заложив руки за спину. Петр не видел, но ощущал, как пылает ее лицо, как горят обычно такие озерно-тихие глаза.
– Все одно, – заговорила Маша, словно в лихорадке, – вы уедете, а мне смерть! За что же вы со мной так? Не понимаете? Нельзя, чтоб нас вдвоем видели!
– Но я сказать вам хотел…
– Уж и на «вы» величать меня стали? Или и вам кто-то…
– Все я знаю! – перебил Петруша с досадой. – И про матушку твою родную, и про Лукерью, матушку названную.
– Ах, вот как! – Маша нервно засмеялась. – Знаете, стало быть, кто я? Машка – Лукерьина дочь, барская кровь… Барышня нагулянная! Что ж – за барскую кровь не расплатишься! А про батюшку моего вам не сказывали? Вестимо! Сам Степан Степанович, думаю, о том не доведался. Кто ж теперь отца разберет? Не подумала о том барыня, родимая матушка, что в нее я выйду и лицом, и статью. Что так просто всем тайна откроется. Что сильней во мне ее – ее! – кровь скажется! Барская кровь…
– Маша! – закричал чуть не в голос поручик, вклиниваясь в неудержимый поток ее речи. – Голубушка, перестань! Ты больна, лихорадит тебя…
– Легче было бы мне крестьянкой быть, – Маша почти без сил опустилась на полусгнившую солому. – Байстрючка… В чем моя вина? Ох, зачем же я, безумная, Бога гневлю своим ропотом? Мать судить не смею. Да и не хочу.
Петр присел рядом с ней.
– Я сказать тебе хотел… Затем и пришел… Дела мне нет до того, кто родил тебя – ты, ты сама мне дороже всего света! Скоро мне уезжать. Как я тебя здесь оставлю?
– Барин…
– Какой я тебе барин? Я тебя полюбил. Будь моей женой.
Маша долго не отвечала, вновь стараясь разглядеть сквозь сумрак выражение его лица.
– Понять не могу, – заговорила она глухо. – Не похоже, чтобы смеялись. А ежели не смеетесь – тогда без ума говорите. Простите за дерзость! Страсть эту гоните от себя, Петр Григорьевич! Ни к чему вам сие. Забудете меня… А мне, если гибнуть, то не через вас же!
Она вскочила и выбежала вон.
– Подожди! – закричал вслед Петруша. – От сердца говорю – подумай!
Только тихий ветер да тишина. И тонкая фигурка, скрывшаяся в темноте… Неужели так и придется теперь все время смотреть ей вслед?
Горько стало Петруше после этого разговора, тяжело, все безразлично. Сидел у себя один, погруженный в думы – как же быть-то теперь? Мысль то и дело ускользала, яркие образы всплывали в памяти. Как же он женится – она крепостная чужая!? И другое женское лицо явилось как живое – только закрой глаза, и представлять не надо – само представляется. Неужели он забыл? Нет, неправда!
Провел ладонью по лбу, отгоняя видение.
– Купить ее у Любимова? Купить разве… Согласится ли?
Резкий хлопок двери за спиной. Белозеров обернулся.
Маша стояла посреди комнаты. Дрожащие руки комкали малиновую косынку. Поручик приподнялся, и девушка, к его изумлению, рухнула на колени.
– Спасите меня, Петр Григорьевич! – она захлебывалась в слезах. – Помогите! Спасите, укройте – нет у меня никого, кроме вас…
Петр едва не силой поднял с колен. Пристально посмотрел в заплаканное лицо.
– Опять Гришка?
– Нет… барин.
– Вот как! Как же ты решилось-то? Ко мне?
– Вы не обидите.
– Увидит кто?
– Мне теперь уж все равно.
– Присядь-ка, Маша, и расскажи все с самого сначала.
– Начало вам известно, Петр Григорьевич. Умерли обе мои матушки, и родная, и названная. Барышня Катерина Степановна…
– Сестра твоя?
– Я о сем и думать не смела! Весело ей было со мной, занятно. Ради нее и барин меня не обижал. А потом нашел дочери жениха, князя, видного собой, небедного. Конечно, не до меня стало барышне. Муж молодой увез ее сначала в Петербург, потом за границу… Я знала, что ненавидит меня барин, потому что о жениной измене всегда напоминаю. И вот – я полностью в его власти. Начал он с того, что запер меня в дальней комнате и держал как в темнице. Через несколько дней сам явился…
Тут она запнулась. Как рассказать о том страхе и унижении? Язык не поворачивается…
– То-то! – позлорадствовал тогда Любимов. – Поняла теперь? Привыкла жить на дармовщинку, бездельница! Барышней возомнила себя, дерзостная! А ты только холопка моя, крепостная раба, и я что хочу с тобой, то и сделаю! Поняла?








