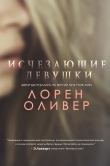Текст книги "Царский венец"
Автор книги: Марина Кравцова
Соавторы: Евгения Янковская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Глава тридцатая
ЕКАТЕРИНБУРГ.
1916 год, май
Был уже май месяц, канун Николы Вешнего. Жильяр сидел
в вагоне четвёртого класса вместе с другими близкими
царской семье людьми и думал о том, что приближается
наконец минута, когда он вновь сможет увидеть Их Величества
и царевну Марию. Как же он соскучился по ним! Хотя нехорошее
предчувствие охватило его там, в Тобольске, так что он даже
пытался с генералом Татищевым задержать отъезд, но теперь
радость близкой встречи вытеснила все дурные мысли. Жаль
только, что не позволили ехать в одном вагоне с Алексеем
Николаевичем. Ну да ничего, скоро прибудут в Екатеринбург,
и там вновь будут все вместе.
Екатеринбург! Кто бы мог подумать о нём в то суровое утро холодной сибирской весны, когда простые экипажи увозили в неведомое государя, его супругу и дочь. Долго сидели над телеграммой потрясённые великие княжны, не в силах ничего понять: значит, не в Москву? Отца вовсе не в Москву везут? Но почему? К худому это или к доброму?
Да, Москва оставалась такой же далёкой, как была. Ультрареволюционный Урал просто-напросто проигнорировал задание центра. Дети Николая, скучавшие по нему в Тобольске, не могли знать о том, как местный совдеп, едва проведав, что пленённого императора увозят в столицу, устроил настоящую свару. По размытой весенней дороге гнал Яковлев извозчиков, опасаясь, что будет остановлен теми, кто не желает выпустить бывшего царя из рук красного Урала. Затем мчался на поезде со своими узниками, уже предвидя, что в Екатеринбурге состав будет задержан, и велел ехать в сторону Омска. Но всё было напрасно.
Тем более не могли знать дети царя, какая коварная игра стояла за всем этим. В Москву бывшего императора вытребовал немецкий посланник, чтобы предложить Его Величеству защиту германской короны. Германия опасалась и презирала красную Россию, одержимую идеей мировой революции, и потому вынашивала планы реставрации русской монархии. Большевики не должны были знать о планах немцев, но вряд ли их не насторожило требование Германии вернуть свергнутого царя в Москву, от чего они не могли так просто отмахнуться. И Свердлов сделал вид, что отправляет Яковлева за государем, прекрасно зная о жестокости и революционном неистовстве Уральского совдепа и о том, что их легко будет уговорить изобразить самоуправство.
Так и произошло. Яковлев был объявлен президиумом Уральского совета изменником делу революции и поставлен вне закона. Комиссар пытался противодействовать, но получил от Свердлова указание «подчиниться обстоятельствам». Ничего не оставалось делать, как ехать в Екатеринбург. Государь и его семья стали отныне пленниками уральских большевиков.
Николай Александрович, узнав об этом, долго молчал. Яковлев выглядел расстроенным и избегал смотреть на царя.
– Куда угодно отправился бы я с лёгким сердцем, только не в Екатеринбург, – тихо произнёс наконец Николай. – Я знаю из местных газет, как резко настроены против меня уральские рабочие.
Яковлев развёл руками.
– Ваше Величество, я сделал всё, что мог.
– Я понимаю, Василий Васильевич, конечно. Благодарю вас.
Государь уже заранее принял всё, что могло ожидать его в Москве, будь то суд или передача какому-либо иностранному правительству. Думал он и о подписании Брестского мира и даже о том, что большевики могут решиться на возрождение монархии, которая, естественно, должна будет подчиниться им. В этих случаях государь готов был бороться до последнего, не желая содействовать предателям России. Но Екатеринбург – это полная неожиданность. Мрачная новость. «Если конец приближается, то именно Екатеринбург может стать концом всего...»
Ничего этого не знали царевич Алексей и его три сестры.
«Но скоро уже всё закончится», – думал Жильяр в охраняемом часовыми вагоне, пытаясь сквозь ночную темень разглядеть что-нибудь в окне.
Что закончится? Горечь и беспокойство от разлуки. Пьер был убеждён: эту семью нельзя разлучать. Каждый из них сам по себе – сила, включая и младших, юную Настю и Алексея, но вместе они – сила непреодолимая. Их ничто не сломит, ничто не ослабит их веры и любви, ничто не заставит совершить нечто недостойное. Воспрянут духом царевны, и грусть в прекрасных больших глазах Алексея исчезнет.
На миг растворилась эта грусть на пристани в Тюмени. Мальчик разглядывал огромную толпу, которая собралась здесь, чтобы приветствовать детей своего царя, и под внимательным добрым взглядом, совсем недетским, рыдали мужчины и женщины. Они бросали на дорогу перед царевичем и великими княжнами цветы и причитали:
– Дорогой ты наш, на кого же ты нас оставляешь, царевич? Куда ж уезжаете, царевны, милые?
И красноармейцы ничего не могли поделать с народом.
Жильяр и сейчас прослезился, вспоминая эту сцену. Всё-таки осталось немало людей, в которых живёт ещё доброе прошлое. Но почему не могут они противостать таким, как комиссар Родионов? Едва подумав об этом, Пьер почувствовал, что сердце наполняется возмущением и негодованием от одного воспоминания о начальнике новой охраны из латышей красноармейцев, которых приставили к оставшимся в Тобольске царским детям. Отстранён был верный царской семье Кобылинский и уже ничем не мог помочь – даже выдержанную Татьяну доводил до слёз хам Родионов. Перерыл весь дом, всюду совал свой нос. А уж как спорил с ним старик камердинер Волков, когда Родионов приказал девушкам не запирать на ночь двери своих комнат. «Пристрелю на месте любого, кто меня ослушается! У меня полномочия!» – грозил начальник охраны. Расстрелом на месте грозил и Анастасии за то, что помахала рукой смотревшему на неё с улицы Глебу Боткину. «В окна смотреть запрещается!» – орал тогда комиссар.
Из-за него-то и путешествие на пароходе «Русь» – да-да, том самом, что привёз семью бывшего императора в Сибирь из Царского Села! – стало сущей мукой. Тут уж и Пьер ругался с нахалом, когда тот запер в каюте Алексея с дядькой-матросом. Но сильнее всех бушевал сам матрос Нагорный:
– Безобразие! Наглость какая! Больного ребёнка – под замок! – слышались его крики из-за запертой двери. Меж тем царевнам по-прежнему велено было держать открытыми двери кают. Родионов прекрасно понимал, что любой пьяный «революционно сознательный» матрос может зайти к девушкам когда угодно, и это его очень забавляло.
«Зверь, просто зверь! – возмущался Жильяр. – Но хватит думать о нём».
Поезд остановился.
Было уже утро, когда охранники подошли к вагону, в котором находились царские дети. Жильяр наблюдал, как Нагорный несёт на руках Алексея, – мальчик не мог ходить после болезни. Потом вышли царевны, с трудом таща чемоданы. Моросил мелкий дождь, под ногами девушек была грязь, в которой они то и дело поскальзывались.
Пьер поспешил было к ним.
– Куда? Разве звали тебя? – часовой не просто преградил швейцарцу путь, но грубо толкнул его прочь от выхода. Ничего не оставалось делать, как вернуться к окну.
Жильяр долго смотрел вслед Татьяне, она шла последней, и заметно было, что каждый шаг даётся ей всё труднее. Увязали в грязи её маленькие ноги. Чемодан был огромен, к тому же Татьяна несла на руках и собачку. Матрос Нагорный, отнёсший мальчика в пролётку, подошёл к царевне, хотел забрать чемодан – один из охранников оттолкнул его с силой. Жильяр, глядя на это, закусил губу...
Несколько часов прошли в тревожном ожидании. Увели генерала Татищева, Екатерину Шнейдер и Анастасию Гендрикову, несколько человек из прислуги, включая Волкова...
Пьер Жильяр и его коллега Сидней Гиббс, баронесса Буксгевден и доктор Деревенко, комнатная девушка Лиза Эрсберг и няня Шура Теглева недоумённо переглядывались – когда же и их заберут? Когда они увидят государя и государыню? Уставшая Лиза ёрзала в нетерпении и волнении, а Шура, сидевшая рядом с Пьером, неожиданно положила свою ладонь на его руку. Жильяр вздрогнул и повернул голову к Шуре – взгляды их встретились. Такая тревога наполняла глаза женщины, что Пьер невольно забыл о своих невесёлых мыслях. Он ответил тёплым пожатием. Шура опустила взгляд...
Наконец-то кончилось это тяжкое состояние – неизвестность. Вошёл в вагон ухмыляющийся Родионов. Друзья царя напряглись – от этого человека нельзя было ожидать хорошего.
– Ну, чего расселись? – он ухмыльнулся и сплюнул. – Свободны! Не нуждаются больше в ваших услугах.
Повернулся и ушёл.
Жильяр вскочил с места, поднялся и Гиббс.
– Свободны? – воскликнул Пьер. – Как... свободны? А государь? Так нас разлучают?!
Раздались всхлипывания. Это плакали Лиза и Шура. Старая баронесса Буксгевден, которую не пустили к царской семье по её прибытии в Тобольск и теперь отлучили от тех, кого она так любила, сидела неподвижно, устремив невидящий взгляд в пол.
Свобода! Это сладкое слово, способное свести с ума человека, которому грозит неволя, которое бросило когда-то флигель-адъютанта Саблина прочь от веривших ему людей, – это слово несло сейчас в себе для преданных слуг императора невыразимое несчастье.
На следующий же день Жильяр и Гиббс пошли к консулам, английскому и швейцарскому, доказывали, что надо что-то делать, чтобы помочь арестованным. Безрезультатно.
Жильяр завидовал доктору Деревенко, которому разрешили навещать больного царевича.
– Попросите государя, – умолял швейцарец врача, – пусть он обратится к начальнику стражи, чтобы нам с мистером Гиббсом было дозволено вернуться к ним! Или... хотя бы иногда приходить.
– Не всё ещё потеряно, – обнадёжил Деревенко при следующей встрече. – За вас хлопочут, быть может, всё ещё сложится.
Так учитель великих княжон и наставник цесаревича рвался в число арестованных, вполне понимая, что стремится, возможно, к верной смерти. Каждый день, просыпаясь в вагоне четвёртого класса, где жил-ночевал он с товарищами, не имея другой крыши над головой, Жильяр надеялся, что вот, наконец-то сегодня... Он знал, что доктором Боткиным составлено прошение:
«В Областной Исполнительный комитет
Господину Председателю
Как врач, уже в течение десяти лет наблюдающий за здоровьем семьи Романовых, находящейся в настоящее время в ведении областного Исполнительного комитета, вообще и в частности Алексея Николаевича, обращаюсь к Вам, г-н Председатель, со следующей усерднейшей просьбой. Алексей Николаевич подвержен страданиям суставов под влиянием ушибов, совершенно неизбежных у мальчика его возраста, сопровождающимися выпотеванием в них жидкости и жесточайшими вследствие этого болями. День и ночь в таких случаях мальчик так невыразимо страдает, что никто из ближайших родных его, не говоря уже о хронически больной сердцем матери его, не жалеющей себя для него, не в силах долго выдержать ухода за ним. Моих угасающих сил тоже не хватает. Состоящий при больном Клим Григорьев Нагорный, после нескольких бессонных и полных мучений ночей сбивается с ног и не в состоянии был бы выдерживать вовсе, если на смену и в помощь ему не являлись бы преподаватели Алексея Николаевича г-н Гиббс и в особенности воспитатель его г-н Жильяр. Спокойные и уравновешенные, они, сменяя один другого, чтением и переменою впечатлений отвлекают в течение дня больного от его страданий, облегчая ему их и давая тем временем родным его и Нагорному возможность поспать и собраться с силами для смены их в свою очередь. Г-н Жильяр, к которому Алексей Николаевич за семь лет, что он находится при нём неотлучно, особенно привык и привязался, проводит около него во время болезни целые ночи, отпустил измученного Нагорного выспаться. Оба преподавателя, особенно, повторяю, г-н Жильяр, являются для Алексея Николаевича совершенно незаменимыми, и я, как врач, должен признать, что они зачастую приносят более облегчения больному, чем медицинские средства, запас которых дли таких случаев, к сожалению, крайне ограничен. Ввиду всего изложенного я и решаюсь, в дополнение к просьбе родителей больного, беспокоить Областной Исполнительный Комитет усерднейшим ходатайством допустить г.г. Жильяра и Гиббса к продолжению их самоотверженной службы при Алексее Николаевиче Романове, а ввиду того, что мальчик как раз сейчас находится в одном из острейших приступов своих страданий, особенно тяжело им переносимых вследствие переутомления путешествием, не отказать допустить их – в крайности же хотя бы одного г. Жильяра – к нему завтра же.
Ев. Боткин».
Ожидая решения, Жильяр часто ходил к дому, обнесённому таким высоким забором, что скрывал его от постороннего взгляда почти полностью. Заглянуть за такой забор невозможно. Это было жилище горного инженера Ипатьева, которое сочли неплохо подходящим для устройства из него тюрьмы, так что в один несчастный день владельцу было приказано освободить дом в 24 часа. Сюда-то и привезли Николая, Александру и Марию, здесь томились теперь и остальные царские дети.
Однажды Жильяр, Гиббс и Деревенко, стоя неподалёку от дома Ипатьева, с изумлением наблюдали, как Иван Седнев, лакей великих княжон, и дядька царевича матрос Нагорный садятся в окружённые красноармейцами пролётки. Нагорный повернул голову, увидел их. Жильяр ждал какого-то движения, дружеского кивка – ничего этого не последовало. Нагорный отвернулся и сел в пролётку.
– Он сделал вид, что нас не знает, он не хотел выдать, что мы знакомы, – пробормотал Гиббс.
– Конечно, не хотел, добрый он человек, – горько отозвался доктор Деревенко, наблюдая за движением пролёток, – ведь их же везут в тюрьму.
Жильяр содрогнулся. Только потом он узнает: всё преступление верных слуг состояло в том, что они возмутились тем, что большевики отобрали у царевича Алексея золотую цепочку от образков. Только потом он узнает, что они были расстреляны за это «преступление». А ещё – о том, что в подвалах екатеринбургской тюрьмы расстрелян царский флигель-адъютант Татищев... Узнает, что разбили голову прикладами голову немощной обер-лектриссе Екатерине Шнейдер и подруге царевен молодой Насте Гендриковой... А старый Волков только чудом не разделит их участь – ему удастся бежать... Ничего этого пока не знает Пьер. Но, думая сейчас о судьбе Седнева и Нагорного, догадывается обо всём. И ещё сильнее стремится к царской семье. Как и все его оставленные на свободе товарищи...
...Вскоре Жильяр и Гиббс узнали, что прошение доктора Боткина отклонено.
Глава тридцать первая
ИПАТЬЕВСКИЙ ДОМ.
1918 год, июнь – июнь
Когда царские дети, в единое мгновение потерявшись от
мира за огромным забором, вошли во двор толстостенного,
белого с резьбой дома Ипатьева со скудным маленьким садиком,
то очень ясно почувствовали, что перед ними не просто дом,
где им предстоит отныне жить, но «дом особого назначения».
Заборов было два – один скрывал строение от прохожих,
другой проходил под самыми окнами.
– Что это? – изумилась Ольга, указывая на окна второго этажа (первый был полуподвальным) – все стёкла оказались закрашенными известью.
– Что? – тихо переспросила Татьяна и ещё тише ответила: – Тюрьма!
Но хоть и в тюрьме, а всё-таки снова вместе! Радости не было предела. Объятия и поцелуи, а потом – разговоры, разговоры... На неудобства никто не обращал внимания. Походные кровати великих княжон ещё не подвезли, и в первую ночь на новом месте девушки спали на полу; счастливая Мария уступила своё спальное место брату. Впрочем, они и не спали. Им слишком о многом надо было поговорить! Теперь у них была одна комната на четверых – тесноватый дом.
– Это было что-то ужасное, – рассказывала Мария. – Нас обыскивали, как только мы приехали... так грубо. Мама́ даже растерялась. Отец сделал им замечание, а они ответили, что если будет возмущаться – его от нас отделят. Ох, только бы не это! Так тяжело, когда не вместе. Пасхальную службу на дому служить позволили – славно было, а всё-таки так грустно, что без вас!
– Да, – вздохнула Ольга. – Самая невесёлая Пасха в жизни. Потому что не вместе.
– Революционеры, – произнесла Татьяна, не обращаясь ни к кому – она явно думала о чём-то своём. – Большевики...
– Большевики, да. Наша охрана – всё больше рабочие. Ничего, они не злые. Пьют только много. И ещё Авдеев этот... комиссар, главный... – Мария махнула рукой и замолчала.
– А Яковлев? – спросила Анастасия.
– Яковлев? – никто не видел в темноте, что Мария покраснела. – Он очень вежлив был. Пока ехали, за мной даже ухаживал... немного.
– Везёт тебе, Машка, на комиссаров, – пробормотала сонная Анастасия, укладываясь поудобней.
– Мари, а почему на окнах краска? – неожиданно спросила Ольга. Очень уж поразило это её – свет в комнатах тусклый, тяжёлый, словно сквозь туман...
– Говорят, тюремный режим, – быстро откликнулась Мария. – На прогулку только на час пускают, двери не запираются. И окон открывать не разрешают.
Послышался лёгкий вздох – это Анастасия, уже сладко дремавшая, перевернулась на другой бок на своём матрасе. Ей захотелось спать, и она уснула: жизнерадостную Швибз не смутили ни охрана в доме, ни забелённые стёкла, ни отпертые двери.
Ольга вдавила тоненькие указательные пальчики в нежные виски с голубыми жилками. Было что-то важное... что-то, о чём она непременно хотела, но позабыла спросить нынче. Ах да!
– А где Валя? Где он?
Валей царская семья называла князя Василия Долгорукова. Ответила Татьяна – она уже знала:
– Увезли князя куда-то сразу же, когда только папа́ и мама́ с Мари привезли сюда. Прямо с поезда забрали.
– О Боже!
– Что с тобой, Оленька? – в голосе Марии послышался испуг.
– Нет, Машенька... ничего.
В эту ночь Ольга ворочалась на полу. Сон не шёл. Она думала о Долгорукове, о судьбе которого никто из семьи ничего не знал, но которого все вроде бы полагали ещё живым. Так вот, она знала: его нет в живых! Почему? Девушка никому не могла бы это объяснить. Она вспоминала дневной разговор с отцом. Он только ей, любимой дочери, рассказал это: «Я стоял у окна, видел толпу и слышал её крики. В Екатеринбурге меня уже ждали. Да, Оленька, ждали, думаю, для того, чтобы умертвить. Я слышал, как ругался Яковлев на них. Они начали двигаться на наш поезд и велели вывести меня из вагона. Только когда охрана пригрозила пулемётами, люди отпрянули...»
Ольга тихо всхлипнула и тут же замолчала. Только бы сестёр не разбудить... Сколько ненависти! За что? За что? Бедный князь Василий! А ведь на месте Вали мог быть Николай Павлович Саблин! Старшая царевна плакала беззвучно, кусая губы, чтобы не разрыдаться в голос. Какая же она была глупая! Как смела она сердиться на него за то, что не отправился с ними! Их всех убьют – теперь она знала это точно. И Николая Павловича убили бы, быть может, ещё раньше. А он... возможно, он будет жить... долго... и будет помнить о ней. Умирать... наверное, это страшнее, чем описывается в книгах. В романах все герои умирают с улыбкой на губах или с горделивым выражением лица. Но ведь потом... потом же будет ещё нечто! А разве это не самое страшное? Переходить в неведомое... Зачем же раньше она плакала из-за своей любви? Как же раньше было хорошо! И почему, спрашивала Ольга себя сейчас, почему она не понимала тогда, насколько светлой и счастливой была их жизнь в те годы, когда ещё не знали царские дети, что «кругом измена, трусость и обман», и неведение многого и многого позволяло не омрачать души болью...
Ещё в Тобольске отец доверил ей сокровенные мысли, говорил и о тревожных пророчествах:
– Папа, – Ольга поцеловала его руку, потом чмокнула седеющий висок, – ты сожалеешь о прошлом?
Она уже знала ответ.
– Дорогая моя девочка, о себе не сожалею, не сожалею даже о вас. Я знаю, что мы под Божьим покровом, и что бы ни стряслось с нами – на всё Его святая воля. А вот о «них» – да, скорблю. О тех, кто про волю Его забыл. Обида, боль за себя... Да, была, но теперь нет её. Остались лишь скорбь и страх за народ. И надежда. И вера. Всё ещё переменится. А ты, мой друг, когда будешь писать на волю, передай мои слова всем тем, кто остался мне предан, и тем, на кого они могут иметь влияние: пусть не мстят за меня, я всех простил и за всех молюсь, чтобы не мстили за себя. И чтобы помнили: то зло, которое царит сейчас в мире, станет ещё сильнее, но не зло победит зло, а только любовь...
– Любовь, – повторила сейчас Ольга, вглядываясь в темноту, бывшую ещё темнее из-за закрашенных окон. Глаза застилали слёзы. Да, когда есть такая любовь, как у папа́, любовь ко всем, – ничего не страшно, даже смерть. Вспомнились и совсем по-новому зазвучали в памяти стихи, полученные от Насти Тендряковой ещё в октябре. Их Императорским Высочествам Великим Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне – такое посвящение было написано на стихотворении, которое называлось «Молитва»:
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней.
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый.
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжёлый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья.
Когда ограбят нас враги.
Терпеть позор и униженья
Христос Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, смертный час...
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!
«Молиться кротко за врагов...» Это действительно была молитва, которую Ольга повторяла снова и снова, пока не уснула, успокоенная и примирённая с гем, что неотвратимо должно произойти во исполнение Божией воли о них. «Да будет воля Твоя, Господи...»
На следующий день все заметили, что старшая царевна стала какая-то ясная, не сказать безмятежная, но точно уж не такая печальная, какой её все привыкли видеть в последнее время. А когда отец вслух читал Евангелие, Ольга вдруг улыбнулась не то чтобы весело, но так светло – давно не замечали у неё такой улыбки.
Однако те же мысли, которые мучили старшую дочь царя этой ночью, стали приходить и к её сёстрам, даже к смешливой Анастасии.
Они гуляли после обеда свой положенный час под издевательски-наглым взглядом комиссара Авдеева, не замечая этого взгляда, не слыша скабрёзных песен охранников, с утра напившихся и поживившихся кое-чем из вещей своих арестантов.
– Как жаль, – грустила Мария. – Лето наступило... Уже не поплаваем на «Штандарте».
– И никогда ни на чём не поплаваем? – спрашивает Анастасия, хотя и знает ответ; ей на днях исполнилось семнадцать, уже невольно видишь то, чего видеть не хотелось бы.
– И в теннис не поиграем, – продолжает старшая в «малой» паре. «Машкины блюдца» сейчас печальны. Лицо её за последнее время сильно похудело, но от этого стало необыкновенно красивым, теперь все видят: первая красавица всё-таки Мария. Анастасия – полненькая и крепкая, не слишком-то красивая, но бесконечно обаятельная. Она крепко обнимает старшую сестру, исполнившись жалости к ней: Мария явно что-то недоговаривает. А недоговаривает она многое. Не будет не только велосипедов, купания в шхерах, весёлых пасхальных яиц – простых радостей их детской жизни. Не сбудется мечта: никто не поведёт её, русскую царевну, под венец, и никогда не прижмёт она к груди десятерых детей, о которых тайно грезила. Никто и никогда не назовёт её «мамой»... И Мария, такая мужественная и спокойная, едва сдерживает слёзы. Меньше всего сейчас она хочет расплакаться под насмешливыми взглядами караульных.
Татьяна и Ольга шли молча. Пространство крошечное – много не пройдёшь. Вперед-назад, вперед-назад... Они понимали положение ещё лучше, чем младшие... какое уж там плавание. Один обед сегодняшний чего стоил...
Обед сегодня опоздал часа на три. Ели, как всегда в последнее время, молча. Государь торопливо зачерпнул несколько ложек супа, желая поскорее съесть свою долю, чтобы освободить деревянную ложку: их не хватало на всех, обедали в общей столовой вместе со слугами, а иногда присоединялись и красноармейцы. Подошёл Авдеев, вынул папироску изо рта, толкнул Николая локтем и сунул руку в общую миску.
– Вам жирного много вредно, пора бы попоститься, после того как вы российской кровью попитались, – усмехнулся он, выуживая из варева лучший кусок мяса, а уходя, стряхнул пепел прямо в суп.
Николай остался спокойным, а Алексей опустил голову. На его худеньком лице проступил румянец волнения и негодования. Сочувствие проявилось на лице пришедшего с Авдеевым охранника, он даже покачал укоризненно головой. К общей досаде, комиссар, обернувшийся уже на пороге, заметил это.
– Ну, ты у меня ещё будешь..! Распустились, разнюнились перед Кровавым... тьфу... Тряпки, а не красноармейцы!
«А ведь и впрямь», – подумала Ольга. Всё чаще замечают они у иных красноармейцев сочувственные взгляды. Присмирели даже те, что вчера ещё не давали девушкам проходу, смущали бесстыжими шутками. Пожалели, наверное, своих узников. Правду говорила Мари – не злые они. Да только разве будущее от этого стало светлее?
– Оленька, – Татьяна, которую Ольга держала под руку, мягко потянула сестру к дому. – Пойдём лучше помолимся. Споем Херувимскую. Настя, Мари, пойдёмте.
Что-то увидела, верно, Татьяна, что явно было не для девичьих глаз. «Художники» здесь ещё наглее тех, тобольских, что забор разрисовывали. Уже мимо «художеств» не пройдёшь, обязательно остановят и смотреть заставят. Да, кто жалеет, а кто и издевается по-прежнему... а всё ж таки нет зла на них. А иначе как можно молиться? Как петь Херувимскую?
* * *
Было жарко. Окна запрещали открывать, и духота стояла невозможная. Часа в день никому не хватало, чтобы надышаться свежим воздухом. Алексей, которого после ареста Нагорного выносили в сад на руках то отец, то сильная Мария, сидя в кресле, жадно смотрел на небо поверх забора, туда, где была свобода... Он до сих пор был очень слаб и бледен, и условия содержания не способствовали выздоровлению.
Когда узники просили открыть хотя бы одно окно, вечно пьяный комиссар ругался и отказывался в весьма непристойных выражениях. Но вот Авдеева сменили. Никто не обольщался тем, что эта перемена к лучшему. Новый комиссар по фамилии Юровский произвёл впечатление весьма неприятное. Похоже – обычный красный деспот, после Родионова и Авдеева – не привыкать. По крайней мере этот еврей не называет Николая «кровавым» и вообще на язык воздержан. Однако слишком уж холоден, слишком бесстрастен – машина, а не человек. Неприятный. Как-то тяжело находиться с ним в одном помещении, словно давит на сердце одно его присутствие.
Впрочем, всё при нём оставалось так, как было. Правда, внутреннюю охрану из русских красноармейцев, которые с каждым днём безобразничали всё меньше, а обращались с узниками всё мягче, Юровский убрал и заменил десятью своими людьми, с которыми говорил по-немецки. А так – ничего не изменилось...
Татьяна стояла с книгой у окна – тоненькая как тростинка, изящная и аристократичная. Тёмные волосы, тёмные глаза, тёмное платье. И тени под глазами. Ольге не надо было вглядываться в название книги – она знала, что Татьяна читает только духовное. Для Марии, Анастасии, даже для Алексея, чтобы дети хоть немного расслабились и успокоились, отец читал вслух приключенческие романы, и старшие царевны тоже слушали с интересом. Но когда семье начинала читать Татьяна, это были исключительно православные религиозные сочинения.
– Ольга!
– Что с тобой, родная?
Ольге странно было слышать, как дрогнул высокий голос сестры, невозмутимой и спокойной в самых трудных ситуациях. Девушки посмотрели друг другу в глаза и – как множество раз ещё в той, иной жизни – поняли друг друга без слов.
– Послушай...– голос мужественной Татьяны всё ещё дрожал...– «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть как на праздник... становясь перед неизбежною смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту... Они шли спокойно навстречу смерти, потому что надеялись вступить в иную, духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом...»
Она закрыла глаза и отложила книгу. Ольга вспомнила свои ночные раздумья по приезде в Екатеринбург, почувствовала, как подступают рыдания, и ей вовсе не хотелось их удерживать... Татьяна не плакала. Она только прижималась к плачущей Ольге и повторяла:
– Как Бог рассудит, Оленька, друг мой! На всё лишь святая Его воля!
Вскоре и Ольга перестала плакать, и неразлучные сёстры стояли, обнявшись, и глядели в окно, в мыслях своих проникая сквозь ограду забора. Позади оставалась короткая, юная жизнь – впереди была вечность...
В воскресенье царская семья молилась за домашним богослужением. Священник не должен отвлекаться на посторонние мысли, но не мог он не отметить: «Или случилось у них что? Грустны, бледны, словно горе какое». И вдруг вздрогнул батюшка – положенную по чину молитву «Со святыми упокой» дьякон не читать начал – запел, и тут же услышал священник, как стоящие позади него члены царского семейства опустились на колени. И тоже запели...
* * *
Государыня продолжала прилежно вести дневник – милая привычка, унаследованная от матери ещё в детстве.
21/4 июня. Екатеринбург.
Очень жарко: 22,5 градуса в 9 часов вечера.
В течение ланча областной комиссар пришёл с несколькими мужчинами: Авдеев сменён и мы получили нового коменданта, который приходил уже однажды смотреть ногу бэби. С молодым помощником, который выглядит очень приятным по сравнению с другими, вульгарными и неприятными. Затем они заставили нас показать все драгоценности, которые у нас были. Молодой помощник всё тщательно переписал, затем они их унесли (куда? на сколько? зачем? неизвестно!). Оставили только два браслета, которые я не смогла снять.
22/4 июня.
Комендант предстал перед нами с нашими драгоценностями, он оставил их на нашем столе (опечатанными) и будет приходить каждый день смотреть, чтобы мы не раскрывали ящичек.
25/8 июня.
Ланч был только в половине второго, так как чинили электричество в наших комнатах.
28/11 июня.
Рабочий, которого пригласили, установил снаружи железную решётку перед единственным открытым окном. Без сомнения, это их постоянный страх, что мы выберемся или войдём в контакт с часовыми...
Сильные головные боли продолжались, провела в кровати весь день.
3/16 июля. Вторник.
Серое утро, позднее вышло милое солнышко. Бэби слегка простужен. Все ушли на полчаса на прогулку, остались Ольга и я. Готовили лекарства. Татьяна читала духовное чтение, затем они ушли. Татьяна осталась со мной, и мы читали книгу пророка Амоса и книгу пророка Авдия. Потом болтали.
Как обычно, комиссар пришёл в наши комнаты, и наконец, после целой недели, принесли яйца для бэби.
В 8 ужин.
Внезапно вызвали Седнева повидаться с его дядей, и он исчез. Очень удивлюсь, если это правда и мы увидим его вновь... Играли в бэзик с Николаем. В 10 с половиной пошли спать.
Больше записей нет.
* * *
...Тяжело просыпаться, когда поспать удалось лишь полтора часа. Сейчас, кажется, полночь.