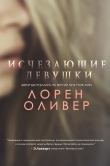Текст книги "Царский венец"
Автор книги: Марина Кравцова
Соавторы: Евгения Янковская
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Глава двадцать восьмая
КРУШЕНИЕ НАДЕЖД. «ДОМ СВОБОДЫ».
1917 год, ноябрь – декабрь
Снежная осень в Тобольске была подобна зиме, темнело
непривычно рано, похолодало весьма существенно.
И вместе с зимним холодом в душу свергнутого императора
пришло почти что отчаяние. Шаткие надежды на то, что
Временное правительство сумеет-таки выправить положение
в стране, рухнули окончательно. Совершился переворот,
и Россия оказалась во власти большевиков.
Что происходит в стране, Николай толком знать не мог: газеты и журналы продолжали поступать с перебоями. Знал он только одно: власть захватили предатели. И это было страшнее всего – то, что уже произошло, и он уже перестал ожидать худшего! Жить с этим было невозможно – но жить было нужно. Столько, сколько осталось... много ли?
Да, жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Сибирская зима принесла с собой не только лютые морозы, но и новые развлечения, и главное, свежее предчувствие одного из любимейших праздников православного человека – Рождества Христова. «Скоро Рождество!» – эти два слова блестели искорками на свежих пуховых сугробах, звенели звонкими льдинками, ощущались в бодрящем морозном воздухе. Конечно же, узников ждало не то Рождество, что раньше. Но разве так важны роскошь подарков и сверкание ёлки, когда Праздника ждёт само сердце – жаждет приобщения к сокровенной и прекрасной его сути: Христос родился в мир!
В доме Корнилова, где жили преданные семье люди, последовавшие за ней в Сибирь, стояла у окна большой и светлой комнаты девушка и, не отрываясь, смотрела на дом, где жила царская семья. Звали девушку Таня, и Таня мечтала нынче о том, что встретит Рождество вместе с Их Величествами. Её отец, доктор Боткин, жил на втором этаже дома Корнилова. Таню это не радовало, потому что на втором этаже также размещались и Панкратов с Никольским. Оба они ей чрезвычайно не нравились.
Глядя, как блестит снег, обильно покрывший двор перед «Домом свободы», Таня вспоминала свой приезд к отцу, доктору Боткину. Тогда она увидела впервые после своего прибытия царскую семью – из этого же окна. Навсегда врезалась в память крепкая фигура государя в солдатской шинели, который быстро ходил взад и вперёд – ему явно не хватало места для прогулки, но он всё равно использовал небольшое пространство, чтобы хоть какое-то время находиться в движении. Стараясь шагать так же быстро, за отцом едва поспевали старшие дочери, о чём-то беседующие с ним. Мария и Анастасия, сидя на внутреннем заборе, весело болтали с солдатами.
– Почему такая несправедливость? – вслух произнесла Татьяна Боткина, глядя сейчас на пустую площадку. – Почему лучшие на свете люди в заточении, а такие отвратительные, как Никольский и этот Панкратов, старый ворон, теперь распоряжаются всем?
Девушка вздохнула и отошла от окна. В комнате стояли диванчик и стул, присланный великой княжной Ольгой. До этого старшая царевна несколько раз интересовалась, есть ли у Тани мягкая мебель. Две подушки, вышитые Александрой Фёдоровной и Марией, украшали диванчик. Глядя на них, Таня растрогалась ещё сильнее и даже всплакнула. Как хотелось ей лично поблагодарить государыню и её дочерей! Но, увы, все её надежды повидаться с семьёй были разбиты. Солдатский комитет, который создали солдаты второго полка, несмотря на отчаянное противодействие полковника Кобылинского, запретил детям доктора Боткина, Тане и Глебу, появляться в доме, где жили царственные узники. Таня безумно завидовала Жильяру, жившему с Их Высочествами. Было очень-очень обидно, ведь никаких оснований у солдат не допускать их в «Дом свободы» не было – хотели просто показать свою новоприобретённую власть.
– Ну, ничего, – подумала Таня, вытирая слёзы. – На Рождество должны отпустить.
А к Рождеству меж тем готовились, как всегда, задолго до праздника. И вот стоит нынче в гостиной молодая мохнатая ель. Хороши сибирские ели! Слава Богу за всё! Вечером в сочельник священник совершил богослужение на дому. После службы собрались все вместе: и царская семья, и свита, и слуги. Каждый получил от царицы и дочерей вязаные жилеты и красиво, талантливо раскрашенные закладки для книг – все четыре великие княжны имели талант к рисованию. Несколько недель готовились эти нехитрые подарки.
В доме же Корнилова Таня и Глеб Боткины с утра переживали горькую обиду. Даже на праздник не пустили их к царской семье! Таня, узнав об этом сегодня утром, уже не стесняясь, плакала. Плакала до тех пор, пока не пришёл слуга от Александры Фёдоровны. А вместе с ним в жилище Боткиных вдруг появилась пушистая ель. Можно было ничего и не объяснять – Таня и Глеб хорошо знали государыню, чтобы сразу понять: праздничное дерево её подарок. К ёлке прилагалось несколько свёртков.
– Смотри-ка, Тань, – удивился Глеб, распаковывая их, – подсвечники, свечи... Ой, ещё и «дождик», красота какая!
Таня тоже ахала и восхищалась, но она не подозревала, что свечи и «дождик» должны были украшать ёлку в бывшем губернаторском доме, однако сёстры-царевны конечно же решили отдать их детям Боткина, чтобы хоть немного поднять им настроение.
Вечером вновь явился посыльный, принёс Боткиным, отцу и детям, по вышивке от великих княжон и по закладке от императрицы, а также вазу для доктора, книгу для Глеба и золотой брелок для Тани. Таня вновь захлюпала, но уже от умиления. Царская семья всё-таки подарила им праздник!
В этот чудесный сочельник, так не похожий на все предыдущие, Пьер Жильяр много думал о том, что есть на свете доброта, способная растопить даже сибирские снега. Он думал о царице, собственноручно подарившей подарки своим охранникам, и представлял их удивление. Ведь для многих Александра Фёдоровна до сего дня оставалась недоступной, якобы гордой и высокомерной женщиной, теперь же они перестанут так думать о ней. Это Рождество казалось Жильяру праздником всеобщего примирения. Рождается Христос, и обновляется жизнь. И в их жизни что-то должно обновиться. И как странно получается: в благополучные дни никогда не смогли бы они – царская семья, свита и слуги – ощутить подобное единение. Строгий наставник улыбался, глядя в восторженные глаза детей. Он и на товарищей своих по ссылке взглянул сегодня другими глазами. Вот скажем, Шурочка Теглева, няня Анастасии, никогда он её не замечал, а тут увидел светлые глаза, озарённые внутренним восторгом, тихую улыбку на губах; поправила Анастасии непокорную прядь – и сколько было любви в движении её рук!
Когда рассаживались пить чай, Жильяр словно ненароком подсел к Шуре. Она первая заговорила с ним:
– Посмотрите, как Алексей Николаевич сияет! Как хорошо, когда он здоров!
Пьер помолчал, хотел что-то сказать о здоровье воспитанника, но вдруг у него вырвалось невпопад:
– Почему вы поехали за ними, Александра?
Она смерила его взглядом строгим и недоумённым. На вопрос ответила вопросом:
– А вы?
– Это моя семья, моя жизнь... Они полюбили меня, и это великая честь, самая большая награда. У меня нет никого больше.
– Их жизнь – это и моя жизнь, – просто ответила Шура.
– Я думал, молодая девушка... мечты о замужестве, детях... Ведь все мы прекрасно понимаем, что счастье сегодняшнего праздника может оказаться последним счастьем. Один Бог знает, что ждёт нас всех.
Шура тихонько вздохнула:
– Вы умный человек, мсье Жильяр, однако сейчас говорите глупости. Нет, я, конечно же, не осуждаю тех, кто оставил их в трудную минуту, но... но мы-то с вами должны понимать, что, принимая от них благо в добрые времена, должны быть рядом и в злые.
Жильяр понимающе кивнул и поцеловал её руку, отчего Шура слегка смутилась...
Утреннего рождественского богослужения в храме ожидали как кульминации праздника, как самую важную его часть. И вот вновь знакомый путь через сад между двух рядов охранников...
«Рождество Твоё, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...» – выводили вместе с певчими Ольга и Татьяна хорошо поставленными голосами. Анастасия, Мария и Алексей пели менее умело, но с не меньшим воодушевлением и сердечностью. Слёзы стояли в глазах Александры Фёдоровны: она вдруг совершенно искренне поверила, что грядёт истинный Новый год, новая веха, несущая истинное обновление. И всё будет хорошо! Но бывший государь Николай, растроганный не меньше жены и детей, не мог выбросить из головы пророчества, которые теперь исполнялись. Чаша страдания за падший народ была испита, но неужели не до конца? Нет, он не обольщался. Он, как и супруга, предавал себя Божией воле, но знал: ему не суждено увидеть обновление Родины.
Подходила к концу прекрасная служба в храме Покрова Пресвятой Богородицы. И тут словно гром – многолетие, да не простое. Многая лета семье государя! Отрёкшегося императора? Но дьякон провозгласил это многолетие так, словно Николай Александрович всё ещё занимал престол российский. Все стоявшие в храме, среди которых были и солдаты из охраны, ахнули: какое такое многолетие Их Императорским Величествам и Их Императорским Высочествам?!
Николай сразу понял, что хорошего от этой странности ждать нечего. Непонятно, для чего отец Алексий сделал это. Если ради преданности, так это очень трогательно и даже вызывает восхищение, однако же теперь семье свергнутого императора придётся хуже, чем было.
А вдруг не ради преданности? Неужели провокация? И к праздничному настроению примешалась горечь.
Как и ожидал Николай Александрович, скандал вышел колоссальный. Солдаты едва не убили священника, а царской семье теперь не так-то просто стало попасть на богослужение в храм. Кроме того, и внутри дома охрана появлялась теперь, как в собственных стенах. Кто там знает, что у Романовых происходит, раз такие дела? Вдруг контрреволюционный переворот готовят?
Мрачные тучи начали сгущаться над царской семьёй. Если раньше главным врагом была скука, то теперь можно было вполне ожидать и людской вражды, и всё чаще вспоминались последние месяцы в Царском Селе с бесконечными унижениями. Влияние большевизма стало ощущаться и в Тобольске. Солдаты революционно настроенного второго полка, почувствовав себя хозяевами жизни, наглели с каждым днём всё сильнее. И вот однажды изумлённый Николай Александрович узнал, что солдатский комитет запретил всем офицерам носить погоны, и, стало быть, снять погоны обязаны были и бывший царь, и бывший наследник престола. Полковничьи погоны, те, что были пожалованы императором Александром III цесаревичу Николаю... Государь Николай так навсегда и остался полковником, потому что сам себе звания он присваивать не хотел. И вот теперь солдаты, его бывшие солдаты готовы сорвать дарованные отцом погоны с его плеч...
Нечто подобное переживал и бывший цесаревич, кажется, даже сильнее, чем отец.
– Папа, я не сниму погоны, – тихо произнёс ребёнок. И вновь в его больших глазах явился тот особый блеск, который всё чаще теперь можно было наблюдать в его взгляде – взгляде наследника, взгляде власть имущего. Мальчик рос, думал, вникал во всё окружающее и делал выводы, которые оставались скрытыми от всех.
– Мы не снимем погоны, Алексей, – ответил бывший император, с некоторым изумлением глядя на повзрослевшего сына.
Полковник Кобылинский передал солдатам решение царя. Это вызвало бурное возмущение.
– Николашка нынче нам должен подчиняться!
– Однако же... – растерялся Кобылинский, – нельзя таким образом унижать бывшего императора, всё-таки он родственник короля Англии, императора Германии...
Солдаты разразились грубым хохотом и закричали, что им теперь плевать на всех королей и императоров.
– Но государь не хочет подчиняться вашему решению, – упрямо возражал Кобылинский.
– Не снимет – сами сорвём.
– Сорвёте – по физиономии получите, – вышел из себя полковник.
Солдаты вскипели.
– Тогда и он получит.
Кобылинский плюнул. Пошёл к Николаю Александровичу.
– Простите меня, Ваше Величество, больше я не в силах это выносить, я полностью потерял власть над этими людьми. Больше не могу быть вам полезен, у меня не выдерживают нервы, поэтому я подаю в отставку.
И тут «последний друг» государя почувствовал успокаивающую руку на плече, поднял взгляд. Глаза его встретились с прекрасными глазами бывшего императора, полными слёз.
– Евгений Степанович, прошу вас! Ради моей семьи – останьтесь. Вы столько сделали для нас, не уходите вот так.
Евгений Степанович почувствовал, как император заключил его в объятия, – почувствовал, потому что сам ничего не видел от слёз.
– Я останусь, Ваше Величество...
Решили с солдатским комитетом не ссориться. Но Алексей стал накидывать теперь на плечи черкесскую бурку, а погоны всё равно не снял...
Александра Фёдоровна умела быть спокойной, даже когда вокруг было неспокойно. Благодарное сердце находило отраду в самых неприятных ситуациях. Государыня радовалась тому, что эта ледяная сибирская зима, принёсшая ей из-за сковывающего дом холода столько неудобств, оказалась счастливой для её сына, который пока, слава Богу, ничем не заболел.
Вот сейчас, придвигаясь ближе к камину, который ничуть не помогал обогреть заледеневший дом, – температура в нём почти никогда не поднималась выше +7 градусов – императрица пыталась вязать еле двигающимися пальцами. Зябко кутаясь в плед, Александра Фёдоровна изредка взглядывала в окно и задерживала взор на своём мальчике. Довольный, румяный, в валенках, набитых снегом, – ему, видимо, жарко в тёплой шубке, – он хохочет, лихо съезжая с горки вместе с младшими сёстрами. Дети падают, барахтаются в снегу. Сколько радости доставила эта горка, с которой даже старшие царевны, взрослые барышни, вовсе не считали зазорным кататься. А с каким весельем сооружали эту горку! Алексей, не умолкая, тараторил матери по вечерам о том, как папа, Жильяр, сёстры и, конечно же, он сам таскали воду во двор – морозы были лютые, и вода даже застывала в вёдрах. Снега было много, и гора получалась высокая, мгновенно затвердевала. Одно плохо было: вода выливалась на руки, пальцы тут же стыли, приходилось их оттирать. Но и это никого не смущало, всё равно все были счастливы. Для нынешней жизни снежная горка во дворе – целое событие. И поэтому государыня, благодаря Бога за всё, молилась, чтоб только не было хуже.
Но всё вокруг говорило о том, что хуже всё-таки будет. Старые солдаты были демобилизованы. «Добрых солдат» отстранили от царской семьи. Они уходили. У Александры Фёдоровны в глазах появились слёзы, когда она смотрела за забор, подняв руку в материнском благословляющем жесте. Казалось бы, что из того – одни тюремщики сменяли других. Но вместе с хорошими солдатами уходило то, что всё ещё связывало царскую семью с прошлой, ныне отнятой жизнью. Уходили почтительность и откровенность, добродушие простых русских людей, их затаённая тоска по прошлому и благоговение перед мальчиком, который всё ещё оставался для них наследником престола. Им на смену приходили люди нового века, чуждого режима – жестокого и бессовестного. Не народ, а чернь. Пришла сила хаоса и разрушения. Уходящие солдаты видели государя и государыню в последний раз. Николай и Александра возвышались над забором, стоя на детской горке, и смотрели им вслед. Когда солдаты скрылись с глаз, царица беззвучно заплакала.
А потом она тихо плакала, наблюдая горе своих детей, горе вроде бы и не особо большое, но при условиях, в которых они жили, очень чувствительное. И горем тем стало разрушение ледяной горки.
– А как они хотели? – настаивали члены солдатского комитета, игнорируя возмущение Кобылинского. – Лазить на неё, когда хотят, и за забор глазеть? А если пристрелит кто? Невелика беда, но нам отвечать.
Так и пришли утром с кирками, чтобы разрушить детскую радость. Долбили ледяную гору, с такой любовью, с таким весельем сооружавшуюся, намеренно не глядя в окна, к которым прильнули, глотая слёзы, все дети, и даже совсем взрослая серьёзная Татьяна...
Новая охрана, сменившая ушедших солдат, состояла из революционной, сорвавшейся с цепи молодёжи. Мысль о том, что не кого-нибудь, а «самого Николашку» караулить довелось, дурманила большевистские головы почище сивухи. Упоение разрушением уже жило в этих молодых душах. Если есть что-то красивое – надо изуродовать, чистое – испохабить, святое – надругаться.
Царевич Алексей вышел покачаться на качелях. Заметил какие-то слова, нацарапанные на сиденье, стал всматриваться, стараясь понять, что написано, но сзади подошёл отец, положил руку на плечо сыну и мягко отстранил его от качелей. Потом снял сиденье и унёс под изумлённым взглядом Алексея. При этом лицо у Николая не изменилось, только глаза погрустнели ещё сильнее. Солдат же очень развеселила эта сцена.
Хохотали они и на следующий день, когда великие княжны вышли погулять в маленький сад. Едва прошли мимо забора, раздался издевательский смех, девушки смущённо обернулись. Двое молодых охранников гоготали, нахально разглядывая их. А недоумевающие царевны ушли, так ничего и не поняв. Лишь только внимательная Ольга заметила краем глаза намалёванные на заборе картинки, но ничего не поняла, кроме того, что картинки, наверное, бесстыжие, – и потому-то солдаты смеются. Едва скрывшись от дерзких глаз, все четверо забыли о происшедшем. Они смеялись, вспоминая, как забавно вчера играл отец в чеховской пьесе «Медведь» и как славно подыгрывала ему Ольга. Все знавшие близко семью царя Николая были правы: мерзости не приставали к этим чистым девушкам.
В конце декабря приехала в Тобольск, как и намеревалась, баронесса Буксгевден, много сил потратившая на дальнюю поездку. И над преданностью пожилой дамы тоже решил покуражиться революционный молодняк – солдатский комитет наотрез отказался допустить баронессу в дом, и она осталась жить в городе, разлучённая с теми, к кому так спешила, кого так стремилась увидеть. Это явилось очень большим огорчением для всех.
И всё-таки никто не падал духом. «Благодарю Бога за то, что мы спасены и вместе и за то, что Он весь этот год защищал нас и всех, кто нам дорог», – записала в дневнике Александра Фёдоровна в новогоднюю ночь.
Глава двадцать девятая
РАЗЛУКА.
1918 год, апрель
Появление этого человека не было неожиданным в жизни
царственных узников: комиссара из Москвы уже ждали.
Но вместе с посланцем Кремля пришло ощущение того,
что вот оно, свершается: незримая опасность, так долго
таившаяся и порой, казалось, отступавшая, подошла
теперь близко-близко.
Он появился в «Доме свободы» в сопровождении полковника Кобылинского и «своей свиты», как запишет потом в дневнике государь, – высокий темноволосый человек лет тридцати трёх. Простая матросская одежда казалась на нём маскарадом – он любезно поздоровался с Жильяром по-французски, к бывшему царю обратился с мягкой улыбкой, осведомился:
– Ваше Величество, не испытываете ли вы неудобств в чём-нибудь, не причиняет ли вам беспокойств охрана?
Все обратили внимание и на интеллигентное, чисто выбритое лицо, и на белые руки с тонкими длинными пальцами. На государя Яковлев произвёл весьма благоприятное впечатление.
Но Кобылинский во время этой встречи был хмур и расстроен. Ему-то уже были предъявлены бумаги, удостоверяющие, что чекист Яковлев, член ВЦИКа, направлен в Тобольск по поручению Свердлова и имеет полномочия расстреливать на месте каждого, кто не подчинится любому его приказанию. Ничего радостного от прибытия московского гостя арестованной семье ожидать не приходилось.
Очень вежливо Яковлев осведомился, где царевич. Подавив вздох, Николай Александрович провёл комиссара в комнату Алёши.
Мальчик лежал в постели, поразительно бледный и исхудавший. Рядом с ним сидел учитель английского языка Гиббс, недавно сменивший Жильяра, и читал вслух. Царевич с недоумением взглянул на вошедшего, но ничего не сказал. В его глазах отразилась боль, Алексей закусил губу, чтобы не застонать при постороннем. Яковлев нахмурился, на лице его явилось выражение сострадания. Некоторое время он молча разглядывал ребёнка, потом так же тихо вышел.
– Что с Его Высочеством? – спросил комиссар у Николая. Государь вновь подивился такому обращению и просто объяснил:
– Алексей катался на салазках с лестницы и сильно ударился. При его болезни удар повлёк за собой сильное внутреннее кровоизлияние.
– На салазках с лестницы?
– Да. Прежде он катался с ледяной горки, но её разрушили.
– Бедный ребёнок, – пробормотал Яковлев. Он казался очень озабоченным фактом болезни царского сына.
Через некоторое время уполномоченный комиссар возвратился с армейским врачом, тот подтвердил: да, Алексей Николаевич болен, причём серьёзно. Яковлев задумался.
Пьер Жильяр внимательно наблюдал за чекистом. Что-то сильно встревожило его, так что учитель даже записал в дневнике: «У нас такое ощущение, что мы оставлены всеми и оказались во власти этого человека. Неужели никто и пальцем не пошевелит, чтобы спасти царскую семью? Где же те, кто остался предан государю? Почему они медлят?»
Дурные предчувствия оправдались вскоре. Яковлев в очередной раз посетил царскую семью, при этом пожелал говорить с Николаем наедине:
– Я тоже буду присутствовать при разговоре, – тоном спокойным и вежливым, но не допускающим возражений, заявила комиссару Александра Фёдоровна. Яковлев возражать не стал.
– Вы должны знать, – начал он, – что я, как чрезвычайный уполномоченный Центрального исполнительного комитета, прибыл сюда с особым заданием. Мне поручено увезти вас, Ваше Величество, и вашу семью из Тобольска в кратчайший срок.
– Увезти? Могу ли поинтересоваться, куда? Уж не в Москву ли?
Яковлев промолчал весьма выразительно, и молчание это было истолковано Николаем как подтверждение его догадки.
– Однако, – продолжал комиссар, – я приводил к Алексею Николаевичу врача, который объяснил мне, что ребёнок болен настолько серьёзно, что перевозить его сейчас нет никакой возможности. Я созвонился с Москвой. Стало быть, вам придётся ехать со мной одному, ежели, конечно, кто-либо из дочерей не пожелает сопровождать вас. Советую поторопиться со сборами, так как отъезжаем мы, вероятно, завтра.
– Я никуда не поеду, – быстро ответил Николай.
– То есть как? – не понял чекист. – Мне кажется, что вы не должны мне возражать, Ваше Величество. Иначе возможно одно из двух: либо вместо меня пришлют другого человека, вовсе не так благосклонно, как я, к вам настроенного, либо мне придётся забыть о своём добром к вам отношении. В любом случае отказываться вы не вправе.
– Понимаю.
Яковлев поклонился супругам и вышел.
Александра Фёдоровна, стиснув пальцы, смотрела на мужа горестно и изумлённо.
– Что бы это значило, мой дорогой?
Николай с трудом сдерживал негодование.
Первая мысль была: это из-за Брестского мира. Самый большой позор России, чудовищное предательство нового правительства. Перечёркнуто всё – годы войны, множество подвигов и жертв.
Россия потеряла почти все территории, приобретённые с петровских времён. Когда бывший царь узнал об этом, он, несмотря на всю свою сдержанность, дал волю негодованию. Предатели, подлые предатели, люди без чести, без совести, без любви к Отечеству... И никогда не мог Николай без волнении думать об этом позоре.
– Думаю, всё этот несчастный, позорный Брестский мир! – воскликнул он сейчас. – Конечно же они хотят, чтобы я подписал его. Не удивлюсь, что германцы настаивают на этом. Аликс, видит Бог, я скорее отдам правую руку на отсечение! Почему я и заявил ему, что не поеду. Но моего мнения, пожалуй, никто не собирается спрашивать. Что поделаешь, мы арестанты, Солнышко. Как тяжко покидать Алексея, когда он так болен!
– Да, Ники! И мне тяжело не менее. Я поеду с тобой.
– ?!
– Неужели ты думал, что я отпущу тебя одного? Если они будут настаивать на том, чтобы ты подписал мир, а ты станешь отказываться, тебе придётся бороться, а это будет нелегко. Рядом с тобой должен быть в это время родной человек. Да и всегда жена должна быть рядом с мужем в трудную минуту, кого бы или что бы ни пришлось ей ради этого оставить.
– Но не Алексея, родная моя! – Николай был изумлён и встревожен таким неожиданным оборотом разговора. – Ты не сможешь...
– Смогу, Ники.
По-прежнему крепко любившая Ники, горячо преданная ему Аликс разрыдалась при этих словах, вспомнив полные страдания крики своего мальчика, который повторял: «Я теперь умру. И пусть я умру, я не боюсь! Даже и хорошо... Я боюсь только того, что они могут с нами сделать!» Как будто те страшные дни в Спале вернулись и оборотились чем-то ещё более страшным. И в это время необходимо оставить сына на попечение молоденьких сестёр! Государыня крепко обняла мужа, он, как всегда в тяжёлую минуту, успокаивающе провёл ладонью по шелковистым, теперь уже сильно поседевшим волосам своей Аликс. Она подняла заплаканное лицо с его плеча и посмотрела Николаю прямо в глаза. И супруги поняли, что одновременно подумали об одном и том же: наступает час свершения пророчеств...
Ольга рыдала так, словно ей сообщили о смерти самых близких людей. Сёстры даже стали поглядывать на неё с испугом. В последнее время старшей царевне нездоровилось, и нервы могли ослабеть от недомогания – это все понимали, но было и ещё что-то в Ольгином плаче, что-то тёмное и страшное, будто девушке открылось нечто, невидимое для остальных. В последние тяжёлые дни – дни, когда Алексей был почти при смерти, она как будто стала прозревать нечто не только тягостное, но и опасное в будущем, которое вот-вот станет настоящим. Мария и Анастасия, сами заплаканные, глядя на рыдающую Ольгу, невольно взялись за руки и теснее прижались друг к другу.
А Татьяна в это время была с матерью – любимый друг Александры Фёдоровны, дочь, которая лучше других понимала её. Сейчас государыня металась по кабинету, и находившийся тут же Пьер Жильяр с удивлением и сочувствием наблюдал то, чего никогда не видел за годы, проведённые с царской семьёй, – не просто отчаяние Александры Фёдоровны, а отчаяние, граничащее с беспомощностью, с полнейшей растерянностью. Душевные силы оставили страдающую мать, когда она вновь увидела боль в мученических глазах своего мальчика, вновь услышала его стоны.
– Никогда ещё не чувствовала себя хуже, – признавалась государыня дочери и Жильяру. – Никогда! Всегда знала твёрдо, что делаю то, что должна. А сейчас... Нет, Ники без меня не поедет! Но... вдруг Алексею без нас сделается хуже... вдруг он... – она всхлипнула почти как ребёнок.
– Но мама́! Надо, однако же, что-то решать.
Кто это сказал? Неужели юная Татьяна? Жильяр вновь подивился – теперь уже тому, как властно, с каким твёрдым спокойствием прозвучал голос великой княжны. И слёз на лице Татьяны уже не было заметно. Пьер понял, что теперь его черёд говорить.
– Алексею Николаевичу всё-таки уже лучше. Доктора говорят, что явная опасность миновала. Мы будем хорошо заботиться о нём, Ваше Величество.
– Конечно, мама́! Мы справимся. Но и с вами должна отправиться одна из нас – и о вас с отцом тоже должен кто-то заботиться.
– Мои славные девочки! – прошептала государыня.
– Мы так решили, что это будет Мари, – продолжала Татьяна. – Ольге самой нездоровится, и я остаюсь с Алексеем за старшую, а Настя ещё очень молоденькая, к тому же, брат её так любит.
Наконец-то Александра Фёдоровна отёрла слёзы.
– Да, вы правы. Так и будет. Колебания были бессмысленны – моё место сейчас рядом с государем.
Таня Боткина тоже плакала, повиснув на шее у отца.
– Ну-ну, Танюша, – говорил лейб-медик, – зачем же столько слёз? Быть может, государя отзывают в Москву только для того, чтобы потихоньку отправить за границу. А потом за ним отправятся и Алексей Николаевич с сёстрами.
– А ты? – ревела Таня. – Ты же едешь с ним! С тобой-то что будет?
– Да что Господь даст, то и будет. По возможности напишу вам. Давай-давай, вытирай скорее глазки.
Боткин обнял Таню и Глеба, поцеловал их.
– Пойду я!
В последнее время он жил, как и остальные приближённые Николая Александровича, в бывшем губернаторским доме, который для всех вместе был очень уж тесен. Все недоумевали: зачем понадобилось это переселение – уж не для того ли, чтобы создать царской семье и преданным ей людям как можно больше неудобств? Что же, большевики теперь у власти...
Утро Николай Александрович и Александра Фёдоровна с дочерью Марией встретили в тележках-плетёнках, на дно которых Жильяр и Долгоруков накидали добытую на заднем дворе солому. Для государыни постелили ещё и матрас.
Императрица была теперь спокойна, как обычно, государь же и раньше сохранял внешнее спокойствие. Сжав руку Жильяра, Александра Фёдоровна некоторое время смотрела на него молча, явно прощаясь взглядом. Все понимали, что будущее темно настолько, что никто не сможет сказать с уверенностью, увидятся ли они вновь когда-нибудь. Но произносить слова прощания никому не хотелось, достаточно было крепкого пожатия рук.
– Пьер, я очень прошу вас, идите сейчас к Алексею, – сказала государыня. – Не надо нас провожать, побудьте с ним. Сейчас вы нужны ему как никогда.
Швейцарец молча поклонился и прошёл в дом.
Яковлев меж тем укутывал Александру Фёдоровну в доху Боткина, распорядившись принести для доктора тулуп. Он вообще был непривычно для комиссара почтителен, то и дело делал «под козырёк». Но сесть императрице рядом с мужем не позволил. С матерью разместилась Мария. Кроме Боткина, из свитских царственную чету сопровождал князь Василий Долгоруков, из прислуги – Терентий Чемодуров, Иван Седнев, Анна Демидова. Их тоже разместили по возкам.
Пьер, сидевший возле постели Алексея, сквозь тихие всхлипывания царевича услышал шум отъезжающих экипажей, и сердце его больно заныло. А вскоре до слуха учителя донеслись рыдания Ольги, Татьяны, Анастасии...