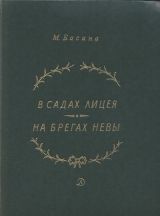
Текст книги "В садах Лицея. На брегах Невы"
Автор книги: Марианна Басина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Излюбленным развлечением светского общества была карточная игра. Играли все. Одни – благоразумно, другие – азартно. Набрасывая свою первую повесть из петербургской жизни – «Наденька», – Пушкин начал с описания азартной карточной игры. «Несколько молодых людей, по большей части военных, проигрывали свое имение поляку Ясунскому, который держал маленький банк для препровождения времени и важно передергивал, подрезая карты. Тузы, тройки, разорванные короли, загнутые валеты сыпались веером, и облако стираемого мела мешалось с дымом турецкого табаку».
В свете и довелось Пушкину увидеть шулеров, которые, подобно Ясунскому, с важным видом передергивали карты, не моргнув глазом, обыгрывали при помощи ловкости рук неопытную молодежь. С одним из таких великосветских жуликов судьба столкнула Пушкина. Звали этого человека граф Федор Иванович Толстой, по прозвищу Американец. Пушкин познакомился с ним на «чердаке» у Шаховского.
Федор Толстой был москвич, но наезжал в Петербург. Несмотря на дурную славу, его везде принимали. Это была личность весьма любопытная. Грибоедов вскоре изобразил его в «Горе от ума».
Репетилов говорит:
Но голова у нас, какой в России нету,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку не чист.
Действительно, называть было не надо. Все и так тотчас же узнавали Федора Толстого. Да он и не отпирался. Когда прочитал один из списков «Горе от ума», даже внес необходимые, по его мнению, поправки. Против «В Камчатку сослан был» написал: «В Камчатку черт носил, ибо сослан никогда не был». И еще вместо «крепко на руку не чист»: «В картишки на руку не чист, для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола».
Федор Толстой был неглуп, не лишен дарований и циничного остроумия.
Он являл собой тип прожженного авантюриста, человека без стыда и совести, который в буквальном смысле слова прошел огонь и воду, если «воду» понимать как морское путешествие, а «огонь» – как бесчисленные дуэли и сражения.
Необычайные похождения Толстого-«Американца» начались 7 августа 1803 года, когда он отправился из Петербургского порта в кругосветное плавание на корабле «Надежда».
На «Надежде», которой командовал знаменитый Крузенштерн, находилась русская миссия, направлявшаяся в Японию. И вот в свите посла – пожилого камергера Резанова – среди прочих «благовоспитанных молодых людей» значился и гвардии поручик граф Федор Толстой.
«Благовоспитанность» Толстого сказалась очень скоро. Через несколько месяцев Резанов уже доносил о нем в Петербург: «Сей развращенный молодой человек производит всякий день ссоры, оскорбляет всех, беспрестанно сквернословит и ругает меня нещадно».
Резанов не преувеличивал. Наглость, грубость и дикие выходки Толстого не имели границ. И когда он подучил свою обезьяну, которую купил в Бразилии, залить чернилами судовой журнал, его решили ссадить с корабля. И действительно ссадили в Петропавловске-на-Камчатке приказав сухим путем добираться в Петербург. Но Толстой еще попутешествовал: на купеческом судне съездил на Аляску, побывал в русских владениях в Америке, повидал Алеутские острова. В Москву вернулся «алеутом». Дома рядился в алеутскую одежду и увесил стены своих комнат раздобытым на севере оружием. За это за все и прозвали его «Американцем».

Ф. И. Толстой-«Американец». Портрет работы К. Рейхеля.
Когда Пушкин познакомился с Федором Толстым, тот был уже немолод и разбойничал главным образом за карточным столом. Они играли в карты. Толстой, по обыкновению, передернул. Пушкин поймал его. И услышал в ответ: «Да я и сам это знаю, но не люблю, чтобы мне это замечали».

Игроки. Сатирический рисунок И. Теребенева. 10-е годы XIX века.
Игра продолжалась, но тем дело не закончилось. Толстой затаил злобу и вскоре отомстил.
С некоторых пор Пушкин начал замечать, что при его появлении в светских гостиных все разговоры смолкают, а вслед ему несется насмешливый шепот: «Ах это тот самый… Ну, поделом ему, поделом…»
Сначала он ничего не мог понять. Но однажды Катенин, досадливо нахмурившись, рассказал ему, что какой-то подлец пустил слух, будто его, Пушкина, отвезли в Особую канцелярию министерства внутренних дел и там секретно высекли за стихи против правительства. Светские сплетники и сплетницы подхватили эту подлость и теперь злорадствуют.
Пушкин был ошеломлен. Впервые он столкнулся с неумолимой и злобной подлостью света… И не знал, как поступить. Кто его обидчик? Неизвестно. Кто распустил эту сплетню? Он не знал. Федор Толстой (это было его рук дело) действовал ловко и держался в стороне.
Было от чего прийти в отчаяние.
«Я сделался историческим лицом для сплетниц Санкт-Петербурга», – писал Пушкин Вяземскому. Планы один безумнее другого беспрестанно сменялись в его разгоряченной голове.
Позднее он подробно говорил об этом в черновом письме Александру I:
«Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен.
До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние… мне было 20 лет в 1820 <году> – я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить – В <ваше величество]>.
В первом случае я только подтвердил бы сплетни, меня бесчестившие, во втором – я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было, а совершил бы преступление, я принес бы в жертву мнению света, которое я презираю, человека, от которого зависело все…
Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной».
Друг, которому доверился Пушкин, был Петр Яковлевич Чаадаев.
«Он в Риме был бы Брут»Дружба с Чаадаевым, завязавшаяся в Царском Селе, продолжалась и в Петербурге. Здесь они виделись в гостинице Демута, где гусар-философ снимал просторный номер.
Чаадаев был москвич, в Петербурге не имел родственников, и, когда его назначили адъютантом командира Гвардейского корпуса генерала Васильчикова, поселился в Демутовом трактире.
Гостиница Демута, или Демутов трактир, как ее тогда называли, считалась лучшей в столице. Приезжий, если он кроме любознательности располагал еще и деньгами, мог устроиться у Демута с приятностью и комфортом. К его услугам было все: просторные апартаменты, отличный стол, близость Невского проспекта.

Невский проспект у набережной Мойки. Гравюра. 10-е годы XIX века.
Демутов трактир помещался на Мойке, в третьем доме от Невского. Это длинное трехэтажное здание, неказистое на вид, являлось своего рода петербургской достопримечательностью. Ведь свое заведение купец Филипп Якоб Демут основал еще при Екатерине II. С той поры оно здесь и находилось.
Каких только постояльцев не перебывало у Демута за эти долгие годы!.. И тех, что занимали анфилады комнат, и тех, что ютились в полутемных каморках.
Богатые постояльцы, которые живали здесь подолгу, обставляли свои комнаты на свой вкус и манер. К их числу принадлежал и Чаадаев. Кабинет и другие его комнаты во всем носили отпечаток оригинальной личности хозяина. Множество книг на нескольких языках соседствовало с зеркалами, безделушками, предметами роскоши и моды.
Чаадаев страстно любил книги. Ведя кочевую походную жизнь, умудрялся возить с собой целую библиотеку. Книги он начал собирать еще с малолетства. Мальчиком в Москве был хорошо известен тамошним книгопродавцам. Он рос сиротой, воспитывался у тетки и уже в раннем возрасте проявлял чрезвычайную самостоятельность.
В светском обществе Чаадаев славился как утонченный денди. Его умение одеваться вошло в пословицу. Одевался он строго, изящно, на английский манер.
Его родственник Жихарев рассказывал о нем: «Одевался он, можно положительно сказать, как никто… Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы с таким достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью… Искусство одеваться Чаадаев возвел почти в степень исторического значения».
Вскоре, рисуя своего Онегина – блестящего светского денди, Пушкин назвал его «второй Чаадаев». Этим было все сказано.
В Чаадаеве нашел Пушкин многие черты Онегина:
Мечтам невольную преданность,
Неподражательную странность
И резкий, охлажденный ум.
Их роднили разочарованность, неудовлетворенность. А рождало эти свойства отсутствие настоящего дела, невозможность в Российской Империи применить в полной мере свои силы, свой ум. Потому-то под портретом Чаадаева Пушкин написал:
Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он – офицер гусарской.
Портрет с этой надписью висел в кабинете Чаадаева в Демутовом трактире.
Люций Юний Брут был основателем Римской республики. Периклес, или Перикл, – Афинской.
При своих дарованиях Чаадаев мог стать выдающимся государственным деятелем, но его не прельщала карьера в самодержавной России.
Он мечтал о другом и даже пренебрег возможностью попасть в адъютанты к самому царю: «Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают» – так написал он об этом своей воспитательнице-тетушке.
Честолюбие Чаадаева было другого толка. Пушкин недаром сравнил его с республиканцами Брутом и Периклом. Чаадаев любил свободу и не скрывал этого. Члены тайного общества присматривались к нему, надеясь завербовать его. Он был у них на испытании. Они знали о его дружбе с Пушкиным. «Я познакомился с ним, – рассказывал о Пушкине Иван Якушкин, – в мою последнюю поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие».
Пушкина постоянно встречали у Чаадаева. Гусар был домоседом, и, будь то утро или вечер, Пушкин шел к нему, заранее зная, что застанет друга дома.
Он входил в его номер, приоткрывал двери кабинета. Ну, так и есть. Знакомая и любезная сердцу картина: в кабинете, уставленном книгами, среди изящных безделушек, созерцая портреты Наполеона и Байрона, что красуются над камином, сидит в кресле Чаадаев. На нем немыслимой красоты бухарский халат. В руке книга. Он погружен в размышления…
Они вместе читали, мечтали, спорили, продолжали те долгие увлекательные беседы, которые начались еще в Царском Селе. Уходя, Пушкин брал английские книги. Он хотел сам выучить английский язык, чтобы читать в подлиннике Байрона.
С переполненной душой покидал Пушкин друга. Он и Чаадаев – они виделись ему Орестом и Пиладом, Кастором и Поллуксом – юными героями древности, связанными неразрывными узами дружбы, готовыми вместе совершать подвиги во имя великой цели. Он писал Чаадаеву:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
И вот в трудную минуту, когда по петербургским гостиным поползла гнусная сплетня, пущенная Федором Толстым, когда Пушкин считал себя опозоренным, он пришел к Чаадаеву.
Пушкин говорил, Чаадаев слушал. Он не ужасался, не выражал сочувствия. Он сделал нечто лучшее – доказал, как неосновательно отчаяние друга. Он говорил о жизни подлинной и мнимой, о раздражающей суете, которую принимают за жизнь. Но это только видимость, за которой нет сущности, потому что нет настоящего дела. В этой мнимой суетной жизни все утрачивает действительный вид. Мелкое кажется значительным. Ничтожные происшествия, порожденные ничтожными страстями, вырастают до размеров трагических. Что же касается клеветы, то она неотделима от высшего света, как вороний крик от погоста, как шипение змей от болот. И почему его, Пушкина, так взволновало мнение света, мнение людей, которых он сам презирает? Что ему до них? Будь он, Чаадаев, на млеете Пушкина, он пренебрег бы. Самоубийство? К чему? Чего можно добиться, совершив самоубийство? Подтвердить подлые россказни. Убить царя? Что он этим докажет? Принесет себя в жертву ради мнения толпы. Нет, надо пренебречь. Непременно пренебречь.
Пушкин с жадностью ловил каждое слово друга и мало-помалу успокаивался, трезвел. Но пренебречь не смог. И по пылкому своему темпераменту, и по своим понятиям о чести. Он избрал иной путь. «Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне как к преступнику; я надеялся на Сибирь, или на крепость, как на средство к восстановлению чести».
Он считал: если его накажут явно, это будет доказательством, что его не наказывали тайно.
«Мы добрых граждан позабавим»Он и так был неслыханно дерзок. Раз, опоздав в театр на китайский балет Дидло «Хензи и Тао», Пушкин прошел в партер, отыскал знакомых и принялся громко рассказывать, что явился прямо из Царского Села, где произошел забавный случай. Медвежонок Захаржевского, управляющего Царским Селом, сорвался с цепи и убежал в дворцовый сад. А в саду в это время гулял император. Если бы не собачка царя – маленький Шарло, который тревожным лаем предупредил своего хозяина, – встреча была бы неминуема. Медвежонка, разумеется, поймали и истребили. Царь отделался испугом.
«Нашелся один добрый человек, да и тот медведь», – заключил свой рассказ Пушкин.
На следующий день эти слова повторял весь Петербург. Да и не только эти.
«Теперь самое безопасное время: на Неве идет лед!» – кричал Пушкин во всеуслышание в театре, давая этим понять, что во время ледохода можно не бояться попасть в Петропавловскую крепость.
Все его касалось: дипломатические ухищрения царя в Европе, зверства Аракчеева в России. При каждом бесчинстве правительства звучал голос Пушкина.
Так было и в нашумевшей истории со Стурдзой. Началась она с того, что царя обеспокоило брожение в Германии, бунтарский дух немецких студентов.
И вот Стурдзе, хорошо известному Пушкину чиновнику Иностранной коллегии, дано было задание проверить немецкие университеты и выяснить, каково в них состояние умов.
Стурдза задание выполнил и представил «Записку». В ней доносил: немецкие университеты не что иное, как рассадник революционной заразы и безбожия, всего, что надобно жестоко искоренять.
«Записку» пустили в ход.
По приказанию царя она была напечатана на французском языке в количестве пятидесяти экземпляров и роздана королям и министрам, собравшимся на конгресс в городе Аахене. Только для них она и предназначалась.
Но скрытое стало явным. Неведомыми путями «Записка» попала в немецкие газеты. Германия забурлила.
Тайный союз немецких студентов срочно собрался в Иене. И было решено убить доносчика Стурдзу и защищавших его немцев-предателей – писателя Коцебу и профессора Шмольца. Трем студентам-мстителям торжественно вручили кинжалы.
Вскоре в петербургском журнале «Сын Отечества» появилось сообщение: убит Коцебу. «Убийца, выбежав на улицу, кричал: свершилось! Да здравствует Германия! Ранил себя тем же кинжалом дважды в живот, лишился чувств и отнесен был в лазарет. По находившимся при нем бумагам узнали, что он… Карл Занд 24 лет от роду, учился в Эрлангенском университете. Кроме паспорта были при нем еще две бумаги. На одной написано было большими буквами: смертный приговор, исполненный над Августом фон Коцебу 23 марта 1819 года по определению университета. В другой бумаге изложены были причины, побудившие его к сему поступку. Он жалуется в ней на унижение, бессердечие и подлость всех тех, которые препятствуют вольности и единству земли сей, и что он решился пожертвовать жизнью, чтобы подать в том первый пример».
Карамзин писал в Москву своему другу Дмитриеву: «Коцебу зарезан в Мангейме студентом… что будет со Стурдзою?»
Коцебу заколол кинжалом студент Карл Занд. Профессору Шмольцу, благодаря дюжему телосложению, удалось отбиться. А предупрежденный заранее Стурдза сломя голову бежал обратно в Россию. Вяземский сообщал из Варшавы Александру Ивановичу Тургеневу: «Здесь Стурдза, укрывающийся в Варшаве от германских кинжалов».
В Петербурге только и разговору было, что о Стурдзе и о Германии. «Как ругают в Германии Стурдзу, – писал Карамзин Дмитриеву. – Достается и России намеками».
И тут зазвучал голос Пушкина. Он как бы подвел итог – заклеймил и Стурдзу, и того, кто его послал:
Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.
С первых дней Нового, 1820 года все взоры в Европе обратились к Испании. Петербургские газеты принесли новость: в Испании революция. Героическая страна, так долго сопротивлявшаяся железной воле Наполеона, не захотела терпеть притеснений и «законного» монарха. Восставший народ принудил короля Фердинанда VII присягнуть конституции.
Молодые вольнодумцы в России ликовали. «Слава тебе, славная армия испанская… Слава испанскому народу… Свобода да озарит Испанию своим благотворным светом». Так записал в дневнике Николай Иванович Тургенев. Чаадаев писал брату о победе испанской революции как о «великом событии», которое тем более важно, что «близко касается и нас».

Революция в Испании. Гравюра. 20-е годы XIX века.
О событиях в Испании толковали повсюду. Был арестован рядовой лейб-гвардии егерского полка Гущеваров, который в пьяном виде кричал: «Здесь не Гишпания! Там бунтуют мужики и простолюдины, их можно унять, а здесь взбунтуется вся гвардия – не Гишпании чета, все подымет».
Не успели улечься «испанские страсти», как новое известие взбудоражило Петербург.
Журнал «Сын Отечества» уведомлял: «В Париже случилось ужасное происшествие! 1 февраля в 11 часов вечера герцог Беррийский, выходя из Большой Оперы, садился в карету; вдруг приближается к дверцам кареты худо одетый человек, оттолкнул камергера… и ранил его высочество кинжалом в правый бок… В пять часов он (герцог) скончался. Убийца, прозвищем Лувель, служивший солдатом в Бонапартовом полку на острове Эльбе, отправляет ныне должность работника в мастерской седельника». Сообщались и подробности. На вопрос графа Клермона к Лувелю: «Изверг! Что могло побудить тебя к этому делу?» – последний ответил: «Я хотел освободить Францию от злейших врагов ее». Герцог Беррийский был племянником французского короля Людовика XVIII и предполагаемым наследником французского престола.
У русского императора от подобных известий голова пошла кругом. Он не знал, что и думать. «Революционное распадение Испании, умерщвление герцога Беррийского и другие подобные события, – рассказывал Каподистрия, – побудили императора видеть и подозревать деятельность какого-то распорядительного комитета, который, как полагали, распространял из Парижа свою деятельность по всей Европе с целью низвергнуть существующие правительства».
А Пушкин в это время читал на заседании «Зеленой лампы» стихи, прославляющие революционные бои:
Мне бой знаком – люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний недостоин.

Луи-Пьер Лувель. Литография. 1820 год.
«Свободы верный воин», он раздобыл литографированный портрет убийцы герцога Беррийского и сделал на нем надпись: «Урок царям».
В дни, когда Александр I, уединившись в Царскосельском дворце, строил фантастические умозаключения о причинах революций в Европе, Пушкин расхаживал по рядам кресел в Большом театре и показывал портрет Лувеля со своей недвусмысленной надписью.
Уже не отдельные стихи, а целые рукописные сборники его запретных творений распространялись по Петербургу и по всей России.
Четырех строк оттуда было достаточно, чтобы очутиться в Сибири:
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

Списки вольнолюбивых стихотворений Пушкина.
«Громоносное облако»По Петербургу ходила рукописная притча: «В одном Селе случился пожар. Легкомысленный хозяин, содержавший питейный дом того Села, пришел в неоплатные долги, в хмелю из отчаяния зажег свою избу. Поднялся ветер. Всюду разносило пылающие головни. Избы загорались одна после другой. Доходило уже до мужика Антипа, жившего на самом краю Села. Добрый Антип заботился о своих братьях от чистого сердца, но пожар был так силен, что не успел дать никому значительной помощи. Напротив того – потерял в общей тревоге. Братья, которых он хотел спасать, из зависти ль к его богатству и ненавидя его издавна, воспользовались сим случаем и, горя, ожесточились. Не станем разыскивать причин, короче – все на него бросились: и он едва не сделался их жертвою. Следовательно, принужден отойти, чтобы защитить хотя собственный двор. И правду сказать, время уже было о себе подумать. Прямо на Антипа неслись искры. Одна только изба, и та наполненная пенькою и другим горючим товаром, отделяла его от всеобщей беды. Конечно, крыша была, к счастью, не соломенная и весь дом построен еще прадедом из дикой плиты, весьма прочным образом, да и горючих веществ находилось в нем немного, однако ж…
Милостивые государи, что прикажете сделать Антипу? Выйти ль ему на улицу и быть равнодушным зрителем, авось-де не загорится, или, сложа руки, горевать и призывать в помощь бога, чтобы он сделал для него чудо и пролил дождь? Не посоветуете ли вы ему лучше не терять ни минуты и распорядить все к своему спасению? Говорите, милостивые государи…
Село есть Европа, пожар революция, а двор Антипа отечество наше».
Сочинил эту притчу и пустил ее по рукам статский советник Каразин, проживавший в Петербурге украинский дворянин. Был он честолюбив, но отставлен от дел. Ему не везло. Он не раз предлагал свои услуги правительству, но его опасались: не в меру рьян и с фантазиями.
В начале царствования Александра I возымел Каразин мечту стать советником юного монарха и написал ему письмо. Говорили, что Александр благодарил его и даже по чувствительности обнял, о чем вскоре и пожалел.
Непрошеный советчик засыпал его проектами и письмами. Дошло до того, что выведенный из себя царь приказал слободско-украинскому губернатору: «…статского советника и кавалера Каразина за нелепые его рассуждения о делах, которые до него не принадлежат и ему известны быть не могут, взяв из деревни под караулом, посадить на харьковскую гауптвахту на восемь дней».
Но не так-то легко было унять Каразина. Приехав в Петербург летом 1818 года, он пожил, огляделся и не поверил глазам. Что творится в столице? Всюду вольные разговоры, неуважение к властям, всеобщее брожение умов. Рассказывают не таясь, что в Малом танцевальном зале был найден проколотым портрет императора. А пасквили, эпиграммы… Точь-в-точь как во Франции накануне переворота.
«Иной наш брат, украинец, – записал Каразин в своем дневнике, – подумает, что в столице-то, а особливо в Петербурге, в присутствии двора, под глазами государя, соблюдается на особе его уважение и дается пример преданности. Вот эпиграмма (сказывают, Милонова – известного поэта, члена Общества любителей словесности и художеств), которою меня, так сказать, осрамили в столице сей»:
Какой тут правды ждать
В святилище закона!
Закон прибит к столбу,
А на столбе корона.
И тут в первый раз в писаниях Каразина появляется имя Пушкина: «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность, написал презельную [33]33
Презе́льную – преядовитую. Зелье – яд.
[Закрыть]оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом… К чему мы идем?»
Каразин не сомневался, что Россия идет к революции и что необходимо, пока не поздно, предотвратить «пожар».
Он принялся за дело.
Однажды утром, разбирая бумаги, положенные к нему на стол, министр внутренних дел граф Кочубей нашел между ними письмо. Собственно, не письмо, а пространную записку – нечто среднее между доносом и проектом искоренения в России вольнодумства. Вернее, и то и другое вместе.
Как истинный аристократ граф не без некоторой брезгливости относился к доносам, но как министр внутренних дел не мог не признавать их полезности. Письмо он прочитал. В нем, между прочим, говорилось: «Дух развратной вольности более и более заражает все состояния… Молодые люди первых фамилий восхищаются французской вольностью и не скрывают своего желания ввести ее в своем отечестве… Сей дух поддерживается масонскими ложами и вздорными журналами, которые не пропускают ни одного случая разливать так называемые либеральные начала, между тем как никто из журналистов и не думает говорить о порядке… В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей… Это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них Пушкин по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство».
К письму было сделано примечание: «Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковы напр, на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно и пр. Это лицейские питомцы!»
Под письмом стояла подпись: «Василий Каразин».
Прошло десять дней, и Каразину прислана была от министра записка: «Его сиятельство граф Виктор Павлович просит Василия Назаровича пожаловать к нему сего дня после обеда в восемь часов 12 апреля 1820 года».
Приказав слуге вычистить свой парадный сюртук, Каразин отправился к министру.
Граф Кочубей жил на Фонтанке близ Летнего сада в собственном доме. Каразина провели в кабинет. Министр ждал его. И тут Каразин узнал, что письмо его было показано государю и им прочитано. Правда, на преобразовательные мысли государь внимания не обратил, но примечанием относительно эпиграмм и карикатур заинтересовался.
– Не могли бы вы, почтеннейший Василий Назарович, где-нибудь отыскать, одним словом, представить упомянутые эпиграммы Пушкина и сии карикатуры. Государю желательно… И поскольку вы… – Министр был человек вежливый и подбирал выражения.
И все же Каразин обиделся.
– Увольте, ваше сиятельство.
Какое непонимание! Он спасает отечество от поганой армии вольнодумцев, а его считают простым шпионом…
Ну, нет так нет. Министр улыбнулся. Его несколько даже позабавила такая щепетильность в доносчике. А что касается эпиграмм, то это дело полиции, Особой канцелярии, а также графа Милорадовича.
Даже самые секретные вести очень быстро распространялись по Петербургу. Не прошло и недели, а Николай Михайлович Карамзин уже писал в Москву Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч. и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий».
Опасались не напрасно. Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович получил распоряжение отыскать и доставить оду Пушкина «Вольность» и несколько его же эпиграмм.
Полицейские агенты заметались по городу. Пошли в ход хитрость, деньги. Не без труда и затрат раздобыли требуемое.
Но этого оказалось недостаточно, и тогда было приказано захватить все бумаги Пушкина. Неожиданно. Врасплох.

У замочной скважины. Рисунок И. Бугаевского. 10-е годы XIX века.
Как? У петербургской полиции имелись разные способы.
Излюбленный – через слуг.
Слуг использовали всячески. К лицам неблагонадежным и подозреваемым приставляли в качестве слуг полицейских агентов. Даже к прибывшему из мятежной Испании послу пытались приставить «слугу».
Если же подозреваемые лица не нанимали слуг, а пользовались своими крепостными, и тут имелись лазейки.
Раздобыть бумаги Пушкина поручили сыщику Фогелю. «Фогель» по-немецки означает «птица», но это была не простая «птица». Для видимости и благопристойности надворный советник Фогель числился чиновником при департаменте полиции. На самом же деле это был тайный агент из наиболее опытных, который не раз выполнял важные поручения правительства. Он обладал всеми нужными качествами: хитростью, умом, образованностью. По-французски говорил, как француз, по-немецки – как немец. Он прославился своей фантастической ловкостью.
Однажды, накануне войны 1812 года, петербургской полиции стало известно, что в Россию из Франции к французскому послу скачет тайный агент с важными бумагами. Агента перехватили, арестовали, посадили в Шлиссельбургскую крепость. А бумаг не нашли. Искали, но тщетно. Тогда обратились к Фогелю. Он сказал, что есть надежда, и велел посадить себя в крепость, в камеру рядом с французом.
Фогель пробыл в крепости целых два месяца, до тех пор, пока не свел дружбы с французским агентом и не выведал его тайну. Тогда он велел себя выпустить, вернулся в Петербург, отправился в каретный сарай, где стояла коляска француза, приказал снять с нее правое заднее колесо и отодрать шину. Под шиной в углублении и были спрятаны бумаги.
Фогель действовал сам по себе, на свой страх и риск. Через малый срок он знал все о Пушкиных и об их дворовых людях. Баб и девок в расчет не брал: они глупы и бестолковы. А вот лакеи, камердинеры…
Днем, выбрав время, Фогель явился в дом Клокачева. Его впустил в квартиру Никита Козлов – немолодой дядька Пушкина.
– Что, твой барин дома? – спросил Фогель для видимости, хотя прекрасно знал, что никого дома нет.
– Никак нет-с. Ушли.
Поговорив о том о сем, Фогель будто невзначай попросил дать ему почитать бумаги Пушкина.
– Да ты не бойся, любезный. Я почитаю и верну.
Вынув пятьдесят рублей, Фогель протянул их Никите.
– А это тебе, возьми.
– Никак нет-с. Не возьму.
– Да ты бери… Я от души.
– Не возьму, не просите.
Фогель улещал, уговаривал. Он не привык к неудачам. Но Никита стоял на своем и твердил одно и то же:
– Не просите, не возьму.
Когда раздосадованный Фогель наконец убрался, Никита еще долго не мог успокоиться. Он был грамотен, неглуп и понимал, в чем дело: ишь что вздумали нехристи – купить бумаги Александра Сергеевича! А он чтобы продал, как Иуда… Продал своего питомца, которого вырастил, от которого худого не видал.
Никите припомнился случай. Он повздорил с камердинером молодого Корфа – того, что живет внизу. Так этот молодой Корф его, Никиту, прибил. Александр Сергеевич как услышал, даже в лице изменился. Закричал: «Как он смеет! Подлец! Я его проучу». И, не долго думая, вызвал Корфа на дуэль.
Никита не рад был, что пожаловался. Дуэль, к счастью, разошлась. Корф струсил. Написал: мол, так и так, я драться не намерен.
В этот вечер Никита не ложился допоздна – дожидался Александра Сергеевича. Когда впускал его в квартиру, тут же в прихожей рассказал про странного посетителя, про бумаги и про пятьдесят рублей.








