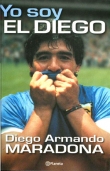Текст книги "Рожденный дважды"
Автор книги: Маргарет Мадзантини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
– Круто!
Он тоже элегантен по-своему: черные облегающие брюки в полоску, узенький галстук надет поверх футболки.
– Я забыл в Генуе рубашки.
Из-за его спины пробивается мягкий свет и… аромат еды.
– Прошу, любимая, заходи.
Оглядываюсь по сторонам – и не узнаю это место… что он сделал с ним? Расставил столы и стулья, как в настоящем кафе, ожидающем посетителей… На всех столах зажжены маленькие свечки, а на полу, островками там и тут, – пивные кружки, из которых торчат цветы – маленькие клумбы. Поднимаю глаза… фотографии: мы в Сараеве, мы в Генуе, мое лицо, мои губы, мой живот – две веревки с бельевыми прищепками протянуты через всю баржу, как гирлянды. Из маленького магнитофона доносится музыка, она едва слышна в таком большом помещении. Рядом со стеклянной дверью накрыт небольшой стол: белая скатерть, высокие бокалы… в полумраке даже жуткий диван кажется элегантным.
– Ну как? – смеется Диего.
– Как же ты…
Слезы наворачиваются на глаза. Никто и никогда в жизни не делал для меня ничего подобного… никто и никогда больше не сделает для меня ничего подобного. Я смотрю на длинный ряд столов и свечей.
– Это в память о мертвых, – шутит Диего.
Приносит мне выпить. Шампанское со вкусом персика.
Он купил его в супермаркете, а еще гель для душа, дуршлаг для макарон, овощи и свечи.
В жизни не ела таких вкусных макарон с генуэзским соусом песто! Он приготовил и немного мяса, но оно недожарено: духовка вышла из строя.
Смотрит, как я ем, поднимает бокал, говорит тост… Я сбилась со счету, сколько раз мы поднимали бокалы.
Спрашиваю, удалось ли ему немного отдохнуть. Отвечает, что он так счастлив, так взволнован, что не может спать. Теперь мы вместе, и это его окрыляет, заряжает невероятной энергией. Его энтузиазм меня немного настораживает и пугает… по-моему, долго это продолжаться не может. Однажды утром он проснется и увидит меня такой, какая я есть, обычной женщиной со своими слабостями. Возможно, скоро я ему надоем.
– Невозможно, – отвечает он, – я люблю тебя. Ты родишь мне много детей.
– Детей! – смеюсь я. – У нас нет ни лиры. Мы не можем себе позволить даже завести собаку. Как ты собираешься жить в Риме?
Он говорит, что будет обращаться в разные агентства, будет снимать свадьбы. Или пойдет искать старушек, как уже делал, когда был совсем на мели.
– Им нужны хорошие фотографии на могильную плиту, они надевают свои лучшие серьги, долго усаживаются передо мной… Еще и кофе предлагают.
Я смотрю на него… радостный и беззаботный, как школьник, как удравший от хозяина пес… этот галстучек – ошейник с поводком. Что нас ждет? Скорее всего, мы потонем вместе с этой баржей.
– Как тебе удается быть всегда таким веселым?
– Очень просто, я ненавижу грусть.
Кричит во все горло: «А-ха-ха-ха!» – и падает на пол, словно сраженный выстрелом. Я забросила ногу на ногу, и он увидел кусочек голого тела выше ажурной каймы. Кричит, это убийственно, он слишком слаб, чтобы выдержать подобное зрелище. Ползет ко мне, снимает туфли, гладит мои ноги, целует их через нейлон чулка. Шепчет, что пора приниматься за дело, если мы хотим много детей… нужно время, работа пойдет неспешно, как строительство метро в Генуе.
Мы падаем на тот самый диван, измаранный признаниями в любви, изображениями гениталий и пронзенных сердец.
А потом я лежу, свернувшись калачиком от холода. Диего накрывает меня своим свитером, убирает со стола грязную посуду. Босиком, голый, смешной, галстук почему-то так и болтается у него на шее… Первый раз я вижу в нем мужчину. В моменты близости я чувствую родство наших душ, чувствую его надежность. Эта старая баржа кажется мне теперь лучшим местом во вселенной.
Закрываю глаза, знаю, что он тихо-тихо садится рядом, объектив его фотоаппарата крадет мой глаз, руку, уголок рта, мочку уха.
Свечи догорают, огоньки тонут в горячих лужицах воска. Мне пора, думаю я, надо встать и одеться, но вместо этого завороженно смотрю на угасающий свет. Баржа погружается в темноту. Время замедлило свой сумасшедший бег, потекло ровно и безмятежно. А я спокойно щиплю траву, как отбившаяся от стада овечка.
Домой я пришла лишь рано утром, чтобы собраться и снова уйти. Мать ждала меня, на лице – плохо скрываемое недовольство.
– Кто этот парень?
– Так… один…
– Ты уверена, что правильно поступаешь?
– Нет, мама, я ни в чем не уверена.
Я спускалась по ступеням, скользким от сырости, меж старых лип. Диего ждал меня внизу у реки. То, что он живет там, казалось мне теперь совершенно естественным. Стайки диких уток качались на волнах, город пропадал из виду, оставался где-то далеко… Когда шел дождь и в стекла стучала вода, баржа напоминала подводную лодку. Я полюбила это место, мне нравился берег, поросший камышом, пронзительные крики чаек. Иногда Диего незаметно ускользал ранним утром, после дождя отправлялся на охоту за лужами. Он мог часами фотографировать дом, ветку дерева, светофор, вернее, их отражение в воде. Я шла за ним, складывала отснятые пленки в карман, помогала заправлять в фотоаппарат новые. Он ловил кадр, стоя на коленях. Мимо проносились машины, обдавая нас грязными брызгами, но он, казалось, этого не замечал. Напротив, ему нравилась рябь на воде, искаженная, разорванная картинка. Фотографии он не печатал, пленки штабелями громоздились на барной стойке баржи. Иногда это делала я. Приносила желтые конверты «Кодак», подавала знак Диего, бросив в стекло камень. Диего радовался, разбрасывал фотографии прямо на полу. Ходил вокруг них, раздвигал босой ногой, чтобы вытащить нижние. Иногда не признавал свои снимки, не желал их рассматривать. Как будто нужна была некая дистанция, чтобы отдалиться от себя самого. Вынимал две-три фотографии, закреплял их на веревке бельевыми прищепками, остальные складывал в конверт и бросал на стойку рядом с пленками.
Мы были довольно необычной парой, за продолжительность наших отношений никто бы не поручился. Страсти свойственно остывать, и тогда отношения лопаются как мыльные пузыри. Мы были совершенно разные. Он – легкий, беззаботный, я – серьезная, в строгом пальто, с темными кругами под глазами. Но дни бежали вперед, а мы ходили, держась за руки, спали вместе, чувствуя себя двумя половинками одного яблока.
Наступил новый год, новый виток жизни. Я попробовала себя в журналистике, начала сотрудничать с различными газетами.
Диего прожил на барже всю зиму. Часто простужался, ходил с красным носом. Я ложилась спать в шерстяном свитере. Когда становилось нестерпимо холодно, мы забирались в спальный мешок. Диего купил ящик виски. Чтобы согреться, мы постоянно пили, как бомжи.
И вдруг судьба преподнесла нам подарок. За небольшие деньги мы сняли жилье у одной религиозной организации. Ночью отправились смотреть дом, пытаясь в темноте сосчитать наглухо закрытые окна. Мы даже представить себе не могли, что их так много: целых шесть больших окон на втором этаже красивого старинного особняка. Уладив с агентом все формальности, мартовским утром мы поднялись по лестнице нашего дома. Казалось, что этот дом ждал именно нас. Домá тоже ждут своих жильцов, скучают где-то вдалеке, а потом распахивают окна и двери двум сумасшедшим влюбленным, которые не могут поверить своему счастью. Я вспоминаю сердце, да, сердце, нацарапанное гвоздем на стене парадного. Стрела показывала на дверь нашей квартиры. Консьерж сказал, что в этой квартире долгое время жили пожилые бездетные супруги. Кто нацарапал сердце? Их племянник? Мальчишка, живущий в доме? Или нищий, получивший щедрое подаяние от живущих здесь старичков? Не знаю, да это и не важно. Важно, что сердце было на стене и осталось бы там, если бы стену не оштукатурили заново. Я тогда разозлилась, но ничего не поделаешь – в тот день, когда рабочие замазали сердце, меня, к сожалению, не было дома.
Диего достает чековую книжку и выписывает чек, прижав ее к стене. Авторучка не пишет. Диего весь красный, вспотел. Оплачиваем залог и за три месяца вперед.
– Ты уверен, что у тебя хватит денег? – спросила я, когда мы спускались.
– Надеюсь.
Наше новое жилище хранило дух прежних хозяев, тихих, скромных людей, из бережливости рано гасивших свет. Когда нам дали ключи и оставили в квартире одних, она показалась нам храмом. Мы гладили стены, прижимались к ним щеками, целовали их, словно дом был живым существом. Отныне эта штукатурка, эти кирпичи будут нас защищать.
Единственный предмет интерьера, оставшийся в пустой квартире, – старое пианино молочного цвета, с маленьким букетом, выгравированным на верхней части панели, – инструмент для барышень. Старьевщик, который забрал из квартиры всю мебель, должен был вернуться за ним позднее. Диего поднял крышку, стал что-то наигрывать. Он никогда не учился, играл на слух. Пианино было ужасно расстроено, но мне показалось, что это лучшая музыка, какую я слышала.
– Что это?
– То, что я немного помню… Дебюсси, Леонард Коэн.
Его лопатки двигались под коричневой футболкой, на полу плясали солнечные блики. Где-то внизу осталась городская суета. А здесь – маленькое белое пианино и руки, оживившие его. Эхом в пустых комнатах отзывалась мелодия – увертюра к нашему будущему.
Со старьевщиком мы сговорились, заплатив ему небольшую сумму. Пианино осталось у нас.
Мы перекрасили стены, поменяли старую ванну, привели в порядок паркет, часами с феном в руках высушивая стыки.
В обед располагались прямо на полу, ели, как работяги, хлеб с колбасой и баклажанами, запивая вином. Ничего вкуснее не ела в жизни. Как-то ночью мы занялись любовью на разостланных газетах. Типографская краска оставляла следы на наших разгоряченных телах. Спину Диего украсила татуировка – советский солдат в Афганистане.
Я подарила Диего плакат, который очень ему нравился: Жорж Брак в своей мастерской, снятый Маном Реем. Оформила несколько фотографий, выбрав их на свой вкус: ультрас, футбольные фанаты, – друзья Диего, грустное шествие антарктических пингвинов, плот на Меконге, над которым тучей кружат синие жуки. И еще фотографии из Сараева… малыш, спящий в деревянном ящике на овощном рынке.
Телефонная компания наконец-то подключила нам давно пылившийся в углу аппарат.
– Как дела, поэт?
– А вы как, голуби?
Прокуренный голос Гойко доносится по проводам:
– Бодры и веселы, как слышу.
– Верно.
– А кто-то в этом мире работает на вас.
– Кто же?
– Один поэт…
– Посылаешь нам добрые мысли?
– Мои мысли… не знаю, добрые ли…
Смех у него в горле рокочет так, будто где-то сваливают металлолом.
Мы купили светлый диван на колесиках, чтобы удобно было двигать его по гостиной. Диего выписал очередной чек, хотел оплачивать все сам. Потом я узнала, что у него кончились деньги и мама из Генуи перевела на его пустой счет немного средств из пенсии, которую она получала за потерю кормильца. Моя мама принесла нам медную подставку для зонтов, сказала, будто извиняясь:
– В хозяйстве может пригодиться…
Диего с искренним восторгом расцеловал ее в обе щеки. Мама, не привыкшая к такому обращению, покраснела, застыв неподвижно, как кукла.
– Ты уверена, что он совершеннолетний? – прошептала она мне, улучив минутку.
– Нет. Он не показывает паспорт. Потерял.
Папа подошел к окну, ему нравится вид: трамвайные рельсы разрезают дорогу, между платанами громоздятся торговые палатки. Ему нравятся даже стаи вездесущих голубей. Он любил старые дома, но всю жизнь жил в самой обычной квартире, в шестидесятые годы приобретенной в тогдашней новостройке, как хотела мама.
Запах краски еще не выветрился, мама кашляла и оглядывалась по сторонам, чувствуя себя пленницей, не отпускала отца ни на шаг, не позволив ему заглянуть в нашу спальню. Босой Диего ходил взад-вперед, расставлял на столе закуски. Мама смотрела на него завороженно и испуганно, как на неизвестное науке животное. Макароны плавали в соусе – Диего перестарался с томатами. Подливка брызнула отцу на сорочку. Мама покачала головой, приложила к ярко-красному пятну уголок бумажной салфетки.
– Чем вы занимаетесь? – спросила она Диего.
– Я – фотограф.
– Понятно. – Она кивнула. Прожевала кусочек и вновь вернулась к теме: – А что вы снимаете? Реклама… свадьбы…
Диего улыбнулся, махнул вилкой, на которой были наколоты макароны, в сторону одной из фотографий на стене:
– Лужи.
Я расхохоталась: два бокала вина – и я счастлива, ведь сама прибила паркет, покрасила стены. Мама тоже попыталась засмеяться. Мне стало жаль ее, – это напряжение, эта скованность были мне хорошо знакомы.
Папа надел очки, решил взглянуть на фотографии Диего. Позвал маму:
– Аннамария, подойди посмотри…
Аннамария подошла. Так они и стояли рядышком, мои старики, уставившись в стену… пытаясь найти в фотографиях Диего ту частичку меня, которая незаметно ускользнула от них.
В конце концов мама смягчилась, стала часто, даже слишком, приглашать нас на ужины. Теперь она сама подставляла Диего щеки для поцелуя, по-детски ласкового и теплого. По правде говоря, мы с отцом не баловали ее своим вниманием, считая себя выше, умнее, а на самом деле в нас говорило высокомерие. Она прониклась нежностью к этому худому порывистому парню, который постоянно вскакивал, чтобы помочь ей. Накладывала ему огромные порции.
Купила для него свитер, но стеснялась отдать, поэтому положила в мою сумку, стоящую в коридоре.
– Что это, мам?
– Так, свитер… Если вам не понравится, подарите кому-нибудь.
Диего немедленно надел его, свитер был из толстой шерсти, с высоким воротом.
– Отличная штука, будет носиться лет десять, не меньше.
Лицо у мамы зарделось, она радовалась, что угадала размер, цвет… что Диего такой покладистый в отличие от меня.
– Идем домой, милая.
– Пока, пап, пока, мам…
Я спешила к лифту, а Диего все мешкал, целуя стариков на прощание:
– Пока, ребята, до встречи!
Вот именно, он называл их ребята…
Так началась наша совместная жизнь. Я боялась, что рано или поздно нас затянут житейские будни, рутина повседневности и что однажды в серый непогожий денек к нам в дом вместе со смогом проникнет разочарование. Казалось, что и нас не минует прозрение, когда иллюзии рассеиваются, с глаз спадает пелена влюбленности и все недостатки другого становятся очевидными. Совместная жизнь станет в тягость, каждый будет думать о себе, о своих проблемах. Такое происходит сплошь и рядом, случилось это и с моими родителями. Отец радовался возможности утром убежать на работу, мать облегченно вздыхала, оставаясь одна. Однако они уважали и по-своему любили друг друга.
Мы же принадлежим к другому поколению, – наверное, более смелому и, без сомнения, более беспорядочному в любви. Мы слабохарактерные, изнеженные, в нашей среде показное благополучие стало единственным мерилом всех достижений.
Многих старых друзей я потеряла из виду, после нашего с Фабио разрыва они исчезли как по мановению волшебной палочки. Немногочисленные знакомые пары тридцатилетних, наших ровесников, представляли собой грустное зрелище. За короткое время они успели сойтись-разойтись, задыхались от ритма современной жизни… в кафе и ресторанах, в раздевалках спортклубов громко разговаривали о деньгах и о сексе. Не о любви,а именно о сексе,выставляя напоказ свою интимную жизнь. Стыдливость исчезла, уступив место сарказму.
Если я уговаривала Диего пойти со мной на вечеринки, он соглашался.
– Нельзя же все время жить в изоляции, – говорила я ему.
Он устраивался в уголке, наливал себе вина. Разговоры не поддерживал, молчал, но настроен был дружелюбно. Да и о чем он мог говорить с этими молодыми карьеристами, у которых на лице написана вся жизненная программа?! Они попали в мясорубку погони за благосостоянием, сами о том не подозревая, ничего и никого не видя вокруг себя. Тогда я считала их друзьями. С годами стало понятно, что они собой представляют. Некоторых из них я видела потом по телевидению – стильные очки, носки в полоску под черными брюками. Пустышки, лицемеры, прикрывающиеся притворной добродетелью. Не знающие ни в чем недостатка, дети «тучных лет», благополучия, измеряемого деньгами, квартирами и машинами.
Я тянула Диего в тот мир, который казался мне интеллектуальным, утонченным. Думала, куда мне до них! Я – дочь обычного преподавателя, входившего в класс с пилой и фанерой. От меня несло благородством и книжной пылью. Смеялась шуткам, участвовала в играх для умников – определить книгу по первым предложениям, угадать, какому философу принадлежит высказывание, изобразить сцену из малоизвестного фильма.
Однажды на какой-то вечеринке я увидела, как Диего стоит у самого дальнего окна, игнорируя общее шумное веселье. Он смотрел на дорогу. За окном шел дождь.
– О чем ты думаешь? – спросила я Диего.
– Об отце.
– Об отце?
– Дождь. Когда идет дождь, мне вспоминается Генуя, отец в брезентовом плаще…
Я слушала невнимательно: там, на диване, продолжалась игра. Я вернулась к своей команде: меня радостно приветствовали, потому что я знала ответ. Речь шла о бестселлере, очень популярном в тот год. В год, когда чернобыльское облако надвигалось на Европу. Один наш приятель, специалист по вопросам питания, составлял список зараженных продуктов, говорил, что даже хлеб может быть опасен.
А Диего все стоял у окна и смотрел на дождь. Мне вспомнилось, что его отец погиб под проливным дождем. Грузовой контейнер оторвался от стального троса.
Я подошла к нему, положила руку ему на плечо. Так мы и стояли, молча. И в этой тишине было слышно биение его сердца… его детские шаги. Он бежал вместе с мамой, спешил на помощь. Тело отца лежало в луже, красной от крови.
«Первая фотография, которую я себе представил, – говорил он мне тогда, в Генуе. – Первая лужа… она всегда со мной, в каждой пленке».
Мы ушли с вечеринки, хоть и было еще рано, хоть и шел дождь.
– Пойдем.
– Ты уверена?
– Да. Я устала.
Домой мы вернулись промокшие до нитки. Занялись любовью прямо на полу, стаскивая друг с друга мокрую одежду, закрывая своими телами ту, никогда не снятую фотографию, тот образ отца – искалеченное контейнером тело в красной луже.
– Спасибо, – сказал Диего.
Я обхватила его голову руками, языком вытерла его слезы.
– Я хочу сына. Хочу, чтобы он был похож на тебя, чтобы он был таким, как ты… хочу вернуть тебе отца… вернуть все. Хочу, чтобы кончился этот дождь…
Тогда он, не сдерживая рыданий, заплакал, уткнувшись лицом в мои колени. Заплакал по-детски безутешно, как плакал под ливнем, который унес жизнь его отца.
Как-то в душный июльский день я пошла вместе с Диего в Центр гуманитарной помощи, куда прибыли первые группы детей из Чернобыля. Я помогала ему – заправляла пленки в фотоаппарат. По правде говоря, я боялась радиации, чувствовала себя скованно, неуютно среди этих детей, которые, наверное, светятся в темноте, как фосфоресцирующие игрушки. Я даже двигалась осторожно, стараясь не приближаться к ним. Диего же, напротив, брал их на руки, вспоминал какие-то русские слова. Он вовсе не собирался во что бы то ни стало снимать этих детей. Сделал несколько снимков, положил фотоаппарат и стал играть. Я поняла, что заработать денег на этом репортаже нам не удастся, что он не собирается «ловить» нужные кадры, что для него важнее просто доставить детям радость. Действительно, он повесил фотоаппарат на шею одному из них и разрешил отщелкать всю пленку. Естественно, и речи быть не могло о том, чтобы продать куда-то такие снимки. Мы жили только на мою зарплату, ребенок был бы для нас непозволительной роскошью. Я ничего не говорила Диего, но продолжала принимать противозачаточные таблетки.
Каждое утро, даже в самые тяжелые дни, он энергично вскакивал с кровати, благодарил меня за то, что я все еще рядом. Он был… как кот. Есть такие коты – большие, ласковые, ходят за тобой следом, улучив момент, забираются на колени, лижут лицо ласковым шершавым языком. До поздней ночи он просиживал в своей фотолаборатории, я замечала, что у него красные глаза, а пальцы потрескались от проявителя. Утром я старалась не шуметь, тихо-тихо открывала шкаф. Но он хотел быть рядом, готовил кофе, писал мне записочки, которые я потом находила в карманах пальто. Во дворе, садясь на мопед, я оглядывалась, махала рукой – он всегда смотрел на меня из окна кухни. Без меня он не ел, ни к чему не притрагивался. Ближе к обеду тоже выходил из дому, с сумкой через плечо, – отправлялся на поиски удачи, надеясь продать хотя бы один из своих снимков. Уверенно шагал на своих тощих ногах по чужому равнодушному городу. И никогда не отчаивался.
Мелочи, ничего не значащие детали… но именно они остаются в памяти. Остается в памяти лестница нашего первого дома, ступени из белого и черного мрамора, большие лестничные пролеты, перила, за которые я держалась. Я не хотела ждать лифт, поднималась пешком. Сумка падала с плеча, шарф волочился по ступеням, в руках – пакеты с продуктами. Проходила на кухню прямо в пальто, выкладывала на стол еду, доставала тарелки, высокие бокалы – чтобы каждый день был как праздник.
Я нашла работу редактора в небольшом научном журнале, который выходил раз в месяц. Штат сотрудников – всего пять человек, я занималась всем понемногу: переводила статьи с английского, делала верстку, вела архив, организовывала распространение и подписку, звонила в общественные организации и коммерческие фирмы для привлечения рекламы. Работа была без гарантий – каждый месяц журнал мог закрыться, – без особых доходов и без внятных перспектив. Меня, по большому счету, не очень интересовали радиальные векторные поля, энергия глубин, молекулярная медицина и волновая теория света, но мне нравилась атмосфера в редакции этого небольшого издания. Нравился офис в центре города – небольшое помещение в полуподвальном этаже старого здания, где когда-то находились конюшни. На столбах арочных перекрытий кое-где еще виднелись бороздки от лошадиных спин, а от пола тянуло селитрой. Мне нравились железные шкафы с многочисленными папками, чайник в углу, пакетики с заваркой в плетеной корзинке. Нравились разговоры с коллегами за чашкой горячего чая.
Иногда Диего заходил за мной, стучал в окно, которое было вровень с асфальтом. Спускался к нам, заглядывал в приоткрытую дверь – живые глаза, открытая улыбка, слишком большая для его худого и бледного лица. Была зима, он носил ту самую смешную шерстяную шапочку с помпоном, отчего голова казалась еще меньше.
– Какая ты красивая…
Я не считала себя красивой. Обычная женщина, уставшая после рабочего дня, проведенного в офисе, где недоставало дневного света и свежего воздуха. Мешки под глазами, сиплый голос. Обитательница мегаполиса, такая же, как все, завернутая в кокон своих забот.
Мы шли по Риму, обнявшись, мимо гаснущих витрин, мимо спешащих по делам прохожих. Рядом с Диего я чувствовала себя спокойно. Магазины, рестораны, в которых не найти свободного места; машины, припаркованные в два ряда вдоль дороги; таксисты, ожидающие у вращающихся дверей пятизвездочных отелей; роскошные автомобили, женщины в длиннополых шубах. Мы шли мимо этого показного благополучия. Казалось, что здесь всем найдется место… но так ли это? Люди шли по зыбучим пескам этой иллюзии. Иногда мне вспоминался Гойко, его торчащая колом кожаная куртка. Я скучала по Сараеву. Скучала по его простым и гордым жителям, по запаху питы, по аромату древесной смолы от горящих в каминах дров.
Однажды Гойко приехал к нам в гости. Оценил наше жилище, оценил вино. Посмеялся над галстуком Диего – тонкой полоской из грубой шерсти. Возможно, наша жизнь показалась ему блеклой, он ожидал увидеть нечто невообразимое… а увидел меня в фартуке, моющую на кухне посуду. В комнате, где мы его поселили, стояло только старое кресло-кровать. Гойко тоже изменился, стал молчаливым, погрузился в прозу жизни. Не продавал больше йо-йо и контрафактные джинсы «Levi’s», работал на радио – вел передачи о поэзии, был обозревателем по вопросам культуры в одном журнале, а по выходным продолжал водить по городу туристов.
Как-то вечером он достал из бумажника потертую газетную вырезку, которую таскал с собой из злости, как ржавый гвоздь. Перевел нам кое-что из статьи, написанной одним из его друзей, белградским поэтом. Тот вспоминал героические страницы истории, сражения с турками, погибших в боях солдат. Все это было изложено так воинственно, с таким пафосом, что становилось смешно.
Диего задумчиво смотрел на Гойко. Наш мир уже одряхлел, наша жизнь вся сосредоточилась в суетливом, ненасытном настоящем. Незажившие раны, нанесенные историей, национальная, этническая принадлежность, казалось, не имеют к нам никакого отношения. Но Диего, выросший рядом с генуэзским стадионом «Марасс», возможно, уловил в бредовом тоне статьи тот примитивный кодекс, по которому живут все крайние течения, все ультрас.
– Беспокоишься?
Гойко пожал плечами:
– Нет… дерьмо, фашистский подпевала.
Он скрутил трубочкой статью своего друга, щелкнул зажигалкой, прикурил от вспыхнувшей факелом бумаги.
Диего познакомился с одним владельцем художественной галереи и наконец-то сделал выставку своих фотографий, посвященных ультрас. Я заметила, что даже на трибунах стадиона он искал одиночества – затылок, торчащее ухо, развевающийся, как знамя, шарф. Эти черно-белые фото были маленькими шедеврами – впадины кричащих ртов, лунные кратеры широко распахнутых глаз.
Выставка прошла успешно, из галереи она переместилась в стены сначала одного, потом другого лицея. Кое-что даже удалось продать. Деньги были потрачены немедленно. Диего принес домой белый трюфель и приготовил его, как заправский повар.
А вот снимки, сделанные в метро, никому оказались не нужны. Диего провел в подземке три дня, отснял не один десяток пленок, на которых – ноги людей, ожидающих поезда. Кадры были склеены в длинную цепочку. Ботинки, кроссовки, туфли… Бодрые и энергичные утром, усталые и пыльные вечером. Символ разобщения и одиночества в большом городе. Почему бы не повесить их дома? Бесконечная вереница чужих ног протянулась по нашему коридору, обогнула гостиную, добралась до кухни – совершенно незнакомые люди составили нам компанию.
Диего боялся, что мне наскучит его назойливость. У него была физическая потребность во мне: он хотел, как ребенок, постоянно быть рядом, хотел ко мне прикасаться. Спал он, приклеившись к моей спине, зарыв лицо в мои волосы. Я думала, что через какое-то время это пройдет, он станет спать на своей половине кровати. Но нет, если он и откатывался, то лишь случайно, или я сама отталкивала его в жаркие и душные ночи. Как только он чувствовал, что меня нет рядом, возвращался на прежнее место. Ложился поперек кровати, клал голову мне на живот – счастливый, будто ребенок, забравшийся в постель к родителям. Иногда я его прогоняла. Мы жили вместе уже три года.
Настали тяжелые времена. Диего брался за любую работу. Какое-то время работал в магазине электроники. Потом фотографировал туристов на площади Испании и у фонтана Треви – делал снимки и бежал печатать фотографии в магазинчик неподалеку. Часто туристы уходили, не дождавшись его. Он приносил домой фотки каких-то улыбающихся незнакомцев, бросал их на кухонный стол, смеясь, показывал мне, рассказывал забавные истории, которые с ним приключились. Я спрашивала себя, не кроется ли в этом оживлении неудовлетворенность и грусть.
– Почему бы тебе не уехать? – интересовалась я. – Ты же любишь странствовать по миру.
– Зачем? Я самый счастливый человек на свете.
Иногда папа пытался подкинуть мне немного денег, но я упрямо отказывалась. Папа тоже купил фотокамеру «Nikon», советовался с Диего насчет объектива, света. Теперь Диего брал Армандо с собой в качестве ассистента – нумеровать отснятые пленки, заправлять новые. Если выдавалась свободная минутка, папа заходил к нам домой. Он не навязывал свое общество, тихо устраивался где-нибудь в уголке. Более того, папа помог нам навести порядок: выбросил бракованные снимки, собрал валяющиеся повсюду пленки и отнес напечатать с них пробники. Целыми днями сидел с лупой и отбирал лучшие фотографии.
Благодаря отцу Диего наконец-то нашел агентство. Папа надел твидовый пиджак и отправился в Милан с папкой фотографий под мышкой. В одном агентстве ему удалось убедить даму, одетую во все черное, с короткими пепельными волосами, на вид его ровесницу, заключить хоть какой-нибудь контракт с молодым талантливым фотографом.
Диего выглядел растерянным, читал и перечитывал пункты договора, выискивая зацепку, которая позволила бы ему пойти на попятную. Потом взял авторучку и нацарапал свою фамилию, – возможно, потому, что придраться было не к чему, а возможно, и потому, что отец стоял перед ним, скрестив руки на груди, как полицейский комиссар:
– Подписывай!
Так Диего обрел свою первую серьезную, регулярно оплачиваемую работу. Нужно было снимать новую линию обуви для крупной торговой сети. Босоножки напоминали античные котурны с серебристыми ремешками, усыпанными стразами. Диего надел их на усталые ноги танцовщицы из школы Пины Бауш. Балерина должна была танцевать обнаженной, в одних босоножках, в заброшенном фабричном здании, посреди разбитого стекла и сорной травы. Диего катался по полу, снимая балерину, которая взлетала над ним, как раненая птица. Контраст трагически худой фигуры, арки ребер изогнутого тела и этих причудливых сандалий получился потрясающим. Снимки задумывались не в фокусе – размытые, искаженные широкоугольным объективом движущиеся пятна, словно на изображение вылили полное ведро воды. Рекламный объект едва различался – был виден расстегнутый ремешок, блестящая подошва. Но в роскоши этих сандалий, пропадающей на задворках старого заводского цеха, украшающей наготу страдающего тела, была какая-то крайность, даже оскорбительная, что понравилось молодому дизайнеру, выпустившему новую линию обуви. Фотографии были выставлены в длинной галерее торгового центра, одна за другой, как кадры, запечатлевшие один прыжок. Диего получил хороший гонорар, а я в подарок эти босоножки, которые совершенно нельзя было носить.
Диего пригласил меня на ужин в ресторан с двумя мишленовскими звездами. Я надела черное платье. Он купил на блошином рынке американский смокинг сороковых годов, на два размера больше. Подвернул обшлага, кусок подкладки все равно торчал. Мы сидели в этом ресторане как аристократы, ели черт знает что – соленый пудинг, мясо с мороженым. И пили за все подряд.