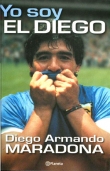Текст книги "Рожденный дважды"
Автор книги: Маргарет Мадзантини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Выглянув из окна, он видит, что ночь прошла, дождя больше нет и на небе появились две радуги. Он никогда не видел две радуги сразу. Одна, прямо перед глазами, в двух шагах отсюда, источник света, раскрашенный красками, проходит через небо безукоризненно ровной аркой… другая – поменьше, не такая интенсивная… меньшая радуга, как и он. Ее цвета размыты, и она – бледное отражение первой.
Маленькая радуга, которая вот-вот исчезнет, взволновала его.
Он думает о ребенке. О том, что мы не смогли завести его наилучшим способом, сильно любя друг друга. Думает о ребенке в животе у Аски, который попал туда наихудшим способом. Думает, жизнь полна цинизма. Сейчас два несчастья сблизились. И понимает, что это единственный возможный план.
Он не случайно вошел в ту комнату. Знает, что его поймали. Выудили, как рыбу, тунца из банки.
Он раздосадован, но это не важно. Он помнит маленькую блеклую радугу. Зеркало правды, в котором отразился Бог.
Парень не уверен, а вдруг безумный ужас поселился в податливой структуре мира? И вдруг это безумие и есть ребенок, вошедший через черные двери? Он тоже боится, что у ребенка окажется три головы, пять хвостов и злое сердце. Он тоже боится, что зло не может породить ничего, кроме зла. Но он готов рискнуть.
Может, ребенок станет вознаграждением.
Он отдаст ей условленную сумму, даже вдвое больше той. Скажет жене, что ребенок от него. И Аска снова начнет заниматься музыкой.
Аска чувствует себя лучше. Как-то утром она сама села в кровати. Он принес ей персики от папы Армандо, которые я привезла из Рима. Откусывает, и сок течет по подбородку. У персика вкус настолько нежный и неожиданный, что становится плохо. Воспоминания прошлого, которые ей больше не нужны.
Он говорит ей: «Ты должна вернуться к музыке, к пению». Сколько мужества она могла бы вложить в свой новый голос! Соединить крики таких же, как она, женщин со скотобойни. Девочки, которая так и не вернулась. Сплести из них белую нить, которая отделила бы тьму от света.
Ее теперешняя жизнь – как навоз в стойле, так тиха, что она забывает о другой жизни внутри ее. Она не хочет уезжать из своего города. Раньше она только и думала, чтобы уехать, а теперь хочет остаться. Ей нравится находиться в плену у улиц, нравятся люди, глядящие в лицо своей обезумевшей судьбе.
Еще один образ из Корана, Шайтан, проклятый Богом за то, что не пожелал преклонить колен перед человеком, сделанным из грязи.
Однажды она сидела на скамейке. Нервный телеоператор крутился среди развалин, пока она дремала, разомлев на солнышке. Не замечала даже, как ей подставляют микрофон к самому рту.
Журналист спросил: «Какие надежды она питает относительно будущего своего и своей страны?»
Аска поинтересовалась, настоящий ли у него микрофон, работает?
Журналист удивлен, конечно работает.
У Аски нет никаких надежд, ее тело как змеиное гнездо, и сейчас она чувствует, как гады извиваются внутри.
Она думает о работающем микрофоне, который ни на что не годен, поскольку никто не услышит ее голоса.
Единственное, что приходит ей в голову, – это блеяние заблудившейся овцы.
Бе-е, бе-е.
Диего не уверен, действительно ли отчаяние, соединяющее их, и есть любовь. Еще будучи ребенком, он мог выбрать для себя другой путь. «Есть только одна дорога, – думает, – та, по которой мы идем». Человеческая жизнь как тряпка, которая протирает всегда одну и ту же поверхность.
Он берет ее за руку. Сейчас, по прошествии времени, он может дотронуться до нее.
Он не смотрит на ее живот, не осмеливается. Смотрит на затылок. У него с собой чернила и иголки. Вечером, спустя несколько дней, он втыкает ей под кожу иголку. Она сама попросила его об этом, ее раздражает вид неровного рубца, жерла, плохо сросшейся ямы от сигарет на затылке.
Рука парня дрожит, он боится сделать ей больно. Аска сидит не шелохнувшись. Какую боль может причинить такая маленькая иголочка? Ее телу не привыкать к пыткам. Болезненные уколы, проникающие под кожу, почти доставляют удовольствие. У нее камень висит на шее, который каждую ночь валит ее с ног. На четвереньки, в той комнате.
Диего – мастер на все руки, он справляется. Сначала рисует ручкой рисунок, потом обводит его иголкой. Точечка за точечкой. В генуэзском порту не было ни одного грузчика без татуировки, обучиться не составило труда.
Татуировки – новые знаки, выбранные лично тобой. Поставь что-нибудь между своей кожей и судьбой. Каплю мужества.
Аска выбрала розу по его совету. На этом сморщенном шраме лепестки будут смотреться как настоящие. Кошмар, погребенный под цветком.
После того как отпадут корочки и роза проявится, Аска коснется ее. Впервые она трогает свой затылок. Ей не видно. Тогда Диего, подняв волосы, фотографирует ее с близкого расстояния.
Относит распечатать снимок в фотомастерскую, которая до сих пор работает. Когда он дарит ей карточку, она произносит: «Цветок как на могиле». Ну что ж, уже кое-что.
Роза из Сараева.
Они сидят в баре без дверей, снаружи стреляют, турецкие пиалы дрожат, дрожит кофейная гуща, которая могла бы поведать о будущем.
Он весь грязный, военный фоторепортер, наконец-то стал тем, кем всегда хотел быть. Говорит ей: «Подумай об этом, не упускай удачу. Потерпи еще немного, представь, что сделаешь аборт через несколько месяцев. Не обязательно даже смотреть на ребенка».
Она вертит головой туда-сюда, водя глазами по грязным столам, по людям, ждущим перерыва в бомбежке, чтобы уйти. Ей отвратительна мысль о том, что она должна выносить это существо, родить от палачей, продлить их жизнь на земле. Ей кажется дикостью, что насилие может принести деньги.
Этот ребенок заранее обречен злу. Он не стоит хорошего слова.
Диего сидит, подперев ладонью подбородок, смотрит на нее. Вспоминает, как впервые услышал ее игру. Целую войну назад, целую жизнь.
Она отвечает, что согласна подержать его в стойле еще несколько месяцев. Он прав, дело выгодное. Тем более уже начато, грех бросать.
Но когда ребенок зашевелился, Аска задрожала. Отводит руки от тела, кричит. Ей снится, что она рожает детей, насилующих ее.
Снится, что она играет, истекая слезами вместе со своей трубой. Волосы и те плачут.
Диего хотел бы рассказать мне правду, но уже поздно. Хотел бы сесть со мной на тот зеленый стульчик, пощекотать меня, вместе упасть. Но он молча смотрит на меня сзади. Прикрывает рукой тишину. Правда бережно хранится в складках войны. В катушке пленки, жгущей руки в кармане.
Он из тех, кто никогда не может держать язык за зубами. У него нет тайн, нет загадочности. Он весь как на ладони. И вот теперь появился этот дурацкий секрет. Не может признаться мне, что ребенок – сын нечисти – вышел из ада.
Ребенок из-за грязной стены. Не хочет пугать меня. Не хочет, чтобы у ребенка была такая судьба.
В умывальне перед мечетью закончилась вода. Аска омывается снегом, обжигающим кожу. Этими омовениями ей все равно никогда не очиститься. Она хочет разорвать свое тело. Грязь так глубоко въелась!
Преклоняясь к земле, чувствует свой живот, беса внутри. Молится, чтобы удушить его. Когда она умирала, он зацепился внутри ее, поэтому она ненавидит и будет ненавидеть его вечно. Диего подарил ей длинную дубленку на темном меху, и ей нравится, что в этой одежде она похожа на волка. Не отпускает ее, постоянно ходит по пятам. Иногда она оборачивается, прогоняет его, иногда позволяет обнять ее у ночного огня.
Когда начинаются схватки, потеет не она, а он. Она не хочет, чтобы ее трогали, хрипит, прислоняется к стене, упираясь в нее головой. Снова чувствует схватки. Роды похожи на изнасилование, матку словно режет плуг.
Как-то раз мать рассказывала ей о родах, выбрала сильное сравнение – хищник, рвущий плоть изнутри. Хищник умирает, когда ребенок, уступая жизни, проскальзывает в родовой канал. И в конце, на предпоследней стадии изгнания плода, придавливает боль всем своим весом. Так что с тобой потом остается только этот тяжелый груз, который и есть груз будущей ответственности.
Мать говорила, что в родах изначально заложен урок.
Аска спрашивает себя, какой урок может быть в изнасиловании?
Вспоминает поля, где бегала маленькой и ездила на велосипеде в школу. А весной они покрывались желтыми и фиолетовыми цветочками.
Вспоминает малышку. Когда четники уводили ее, девочка, опустив голову, послушно шла за ними.
Она спрашивает себя, почему Бог не остановил хотя бы тот момент, почему Он не спас ее. Хотя бы ее. Она и в самом деле была слишком мала. Одну-единственную из всех поруганных женщин.
Хватило бы, чтобы маленькая девственница осталась нетронутой. Дверь открывается в ослепительный свет, и девочка уходит, спокойная, смущенно улыбаясь. Аске кажется, что родить ей помогает эта малышка. Кидает мяч в стену и считает. Когда мяч падает на землю, ребенок уже родился. Аска сразу почувствовала себя лучше. Отворачивает голову. Так она никогда не узнает, на кого из дьяволов похож ребенок: может, на того с голубыми глазами, или того с мясистым носом, или того с родимым пятном под глазом.
Когда сатанинская слизь выходит, младенец появляется на свет в совершенстве своей плоти, Диего тоже не сразу смотрит на него. Косится на веревку пуповины, серую, точно корабельный трос.
Он отдалился от жизни за последние месяцы. Сейчас она кажется ему недосягаемой. Гладя овечку, шепчет ей: «Родился, все кончено».
Диего смотрит на истошно кричащего младенца. На его красное тощее тельце. Он не похож на черта, похож на еще сырого цыпленка, которого только что насадили на вертел. Возможно, его сердце окажется злым, как у его отца, кто знает? Его плач точно одинокое блеяние ягненка в кустах.
Аска все слышит. Вспоминает маленькую девочку, ее певучий, мягкий голос.
Думает, какая несправедливость, что малышка исчезла с земли, возвратившись на небо съежившейся кожурой. А вместо нее родился ребенок четников. Сегодня ночью дьявол откупорит бутылку шампанского.
Диего спрашивает ее: «Не хочешь узнать, какой он?»
Она отвечает: «Я знаю, как его зачинали. Унеси его».
Прежде чем уйти, я смотрю на нее. Делаю шаг к каталке. Если бы я спросила, она рассказала бы мне правду. Ей нечего терять. Сказала бы: «Слушай, мы с фотографом никогда не занимались любовью. Этот цыпленок – сын Святого Духа этой войны, слизь Сатаны». Но я не подхожу к ней. Ничего не хочу знать. Ребенок останется непорочным.
Как радуга на том низком небе.
Аска опустела. У нее обвисла кожа на животе, в груди набухают молочные каналы. Между ногами все еще остается ощущение перерезанной веревки, отделяющее ее от плода насилия. Теперь в ней никто не живет, и она снова стала собой.
В руках держит деньги, пересчитывая их в кровати. Можно попробовать выбраться, спрятавшись ночью в багажнике машины. Но она знает, что не сделает ничего подобного. Только благодаря ребенку она еще жива, теперь ей это известно. Она поняла, что на самом деле, несмотря на ненависть к нему, хотела его спасти. Наконец-то она призналась в этом самой себе. Свистит, делая вид, что играет на трубе, двигает пальцами в воздухе, закрыв глаза.
Сейчас она знает, что возможен и обратный путь, что дьявол может превратиться в ангела. Вот в чем, наверное, заключался урок.
Диего даже не замечает, что мы добрались до аэропорта. Что-то мелькает перед ним, в сетчатке затуманенных глаз.
Не садится в самолет. Разворачивается и возвращается к самому себе.
Аска на этот раз и в самом деле не понимает, почему фотограф все еще здесь. Может, пришел за последом?
Диего селится рядом с ней, играет на гитаре, ходит за едой на рынок Маркале. Пока однажды она не скажет ему, что поправилась, что действительно постарается возвратиться к жизни. Благодаря деньгам откроет музыкальную школу.
На острове Корчула они проводят вместе последнюю ночь. Он забирается на ту скалу. Увидел что-то, что можно было бы сфотографировать. Ребенка, хватающего рыб руками, того же Анте. Героин, проникающий в кровь, как что-то хорошее, что-то красивое. Если чья-нибудь рука прервала бы его полет, чей-то голос спросил, как прошла жизнь, он улыбнулся бы, соединив пальцы в ok, достойно.
Садится на свой деревянный гроб. Вытягивает ноги, глядя на меня. У него в кармане все еще лежит та пленка. На ней лица дьяволов, один из которых убил голубого ребенка, другой – отец Пьетро. Сумасшедший молодой фотограф так никогда и не сделал своего сенсационного сообщения. Таскает засвеченную пленку с собой. Удаляя Пьетро из истории, дает ему шанс на жизнь.
Иду по песку
Иду по песку, чувствую, как он клубится у меня под ногами. Я вышла из комнаты, поднявшись, точно робот. Аска уже не плакала, говорила, глядя на белую занавеску, которая вздувалась на окне. Ее рассказ казался мне похожим на печальную песню, на севдалинку. Давние зверства из ее жизни превратились в ничто, разлетелись пеплом. Остался только запах ее дома, ее маленького островка безмятежности.
Ее позвала дочь, и она резко повернула голову. Правое ухо у нее так и не слышит с тех пор. Внутри постоянно звенит, будто плещется море. Улыбнувшись, она произнесла: «Это ухо Истории».
Я иду. Мне хотелось бы споткнуться и упасть, но я не падаю. Хотелось бы растянуться на песке, обнять его и поблагодарить все и вся: спешащего муравья, нескончаемый маршрут каждой жизни.
Ослепленная ярким светом, различаю тело сына, который прыгает, борясь с волнами. Ребенок борется с подростком, просит: «Оставь меня поиграть еще денек».
Выходит из моря, бросается на песок, потом снова бежит навстречу волнам.
– Ну как? – кричу я ему.
– Лучше, чем на Сардинии.
Спрашивает, не могу ли я снять его на мобильный, он хочет показать это бирюзовое море своим друзьям. «Они сдохнут от зависти», – говорит.
Позирует, подбоченясь, улыбается, сморщив нос и спрятав глаза под очки от ослепительного солнца.
Захожу в воду по колено, чтобы сфотографировать его во время прыжка. Тело в воздухе, пенистые брызги моря.
Плюхается на дно у самого берега, вся голова в песке, завитки волос как у греческой статуи. Поворачивается ко мне, говорит:
– Мам, я ногу поранил. У тебя нет пластыря?
Роюсь в сумке, шарю в ней как сумасшедшая, на ветру волосы лезут в глаза. Открываю кошелек, косметичку, ищу лейкопластырь, который всегда ношу с собой, среди бумаг.
Пьетро вечно сдирает кожу, и я беру его по старой привычке, такой же старой, как привычка считать друг друга матерью и сыном, как наши совместные прогулки.
Пьетро ждет, ищет глазами вместе со мной, наблюдая за моими беспорядочными движениями. Нахожу пластырь, а кажется, будто нашла что-то необыкновенное. Он тоже улыбается:
– Есть?
– Да, есть.
Протягивает мне ногу, всю в песке. Ударился о скалу, кусочек ногтя отломился у самого основания, течет кровь.
– Сполосни ногу.
Не хочет вставать, ему больно.
Я наклоняюсь, беру ногу. Высасываю кровь вместе с песком. Вытираю стопу подолом юбки.
Пластырь плохо приклеивается, потому что палец все еще влажный, а я никак не могу найти очки. Пьетро не жалуется, даже говорит спасибо.
Кто ты? Сколько раз я задавала себе этот вопрос. Сколько раз подозрительно вглядывалась в тебя. Смеешься, как смеялся Диего, как смеются все мальчишки. Ты и сумасшедший, и умный одновременно, и наивный, и опасный. Вероятность появления такого, как ты, – одна к миллиону. Мальчишка из две тысячи восьмого года, рожденный в конце декабря девяносто второго в Сараеве. Один из первых детей массовых насилий на этнической почве.
Переводит дух.
Лежит на боку, не двигаясь, как лодка, которую вытащили на берег; костлявая задница в плавках-шортах австралийского серфингиста. Поворачивается, я смотрю на его сломанный зуб. Слишком худые щеки. Он глубоко дышит.
На сколько частей разделено тело? Складка, где прикреплено ухо. Линия руки. Глаз, ресницы. Кость коленного сустава. Волоски на коже как выцветшая трава.
Смотрю на части тела моего сына. Может, я всегда это знала, вот в чем правда. И никогда не хотела ничего знать. «Ты свободен, – должна бы я ему сказать, – он тебе не отец». Ты сын кучки демонов, опьяненных ненавистью.
Прыгая на одной ноге, он опирается о меня.
– Слушай, я не смогу тебя держать…
– Сможешь, сможешь.
Что-то знакомое, рыбная лавка, которая, по-моему, осталась той же, со шторкой из пластиковых язычков, чтобы не залетала мошкара. Куст дикой герани, огромный, как дерево.
Пьетро сказал: «Хочу сходить туда. Хочу посмотреть на то место, где умер папа». Неожиданно он назвал Диего папой, и все мне показалось таким абсурдным!
Следую за этой ложью. Пьетро молча забирается наверх.
Аска показала мне ту большую скалу, похожую на голову динозавра с открытым ртом: ее не сложно было заметить, она такая одна.
Диего пролез в этот рот.
Аска сказала: «Он уже готов был вернуться к тебе».
Потом он полез наверх.
Выбрал правильный свет, незадолго до заката. Свет своих самых лучших снимков.
Пьетро оглядывается вокруг. Он проворнее меня, уже стоит на вершине.
– Осторожней!
Я боюсь, очень боюсь.
– Здесь нет ничего! – кричит.
Когда я добираюсь до него, он тихо повторяет:
– Здесь ничего нет, ма…
А чего он ждал? Часовни? Могильной плиты? Фотоаппарата, высеченного в скале?
Я старая и вспотевшая, а он молодой, как одна из этих летающих здесь чаек. Мы садимся на камни, смотрим на море, кажущееся необозримым, бескрайним. Пьетро обнимает меня, кладет руку мне на плечо. Возможно, впервые защищает меня. Потом всовывает мне что-то в руку обычным своим грубым неумелым движением. У меня дрожит подбородок.
– Упаковка ужасная, – говорит.
Открываю затертый бумажный сверток, который он держал в кармане бог знает сколько времени, с того вечера у фонтана. Там брошь, серебряная роза филигранной работы. С витрины магазинчика на рынке Башчаршия…
– Тебе нравится?
– Да.
– Я знал, что она тебе понравится.
Покопавшись в чахлом кустарнике, возвращается с палочкой, которую разламывает пополам о коленку. Сделав из половинок крест, пробует закрепить его с помощью нескольких травинок, но он не держится. Тогда достает из кармана бандану и перевязывает вместе огрызки палки. Втыкает получившийся крест в землю:
– Сколько он здесь простоит?
Под таким ветром…
Пьетро дает мне свой мобильник и просит снять его рядом с крестом.
Мы поговорили еще немного.
– Чем мне заняться, когда я вырасту, ма?
– А сам ты чего хочешь?
– Не знаю.
– Тебе же нравится играть, может, станешь музыкантом…
Говорит, что ему хотелось бы открыть сеть семизвездных гостиниц по всему миру. И спроектировать самый большой в мире номер сьют, с полем для гольфа внутри, включающим восемнадцать лунок.
Потом смотрит на меня:
– Я знаю, зачем папа поднялся сюда. – Протягивает руку, показывая на море. – Потому что отсюда видна Италия. – Улыбается. – Он скучал без нас, мам…
Аска осталась под навесом, у нее не хватило смелости подойти к нам. Она вымыла волосы и сушила их на дворе. Я видела, что она все время была в движении: накрывала на стол, наклонялась подобрать игрушку дочери. Ничем не отличается от меня, обычная женщина.
Сейчас смотрит на нас, пока мы подходим.
В деревнях многие женщины избавились от таких детей, матери помогали дочерям убивать их. Простые женщины превращались в отчаянных убийц. Аска обращалась в центр помощи изнасилованным на войне женщинам, но только когда родилась их дочь, когда ее тело открылось во второй раз и они с Гойко долго плакали, держась за руки, только тогда она почувствовала, что ненависть отделилась от нее, как ненужная плацента.
Лицо Аски опущено, рукой она поправляет влажные волосы.
Приближаясь к ней, вижу, как она повторяет это движение снова и снова, морщит лицо, открывает и закрывает рот.
Пьетро уставился в мобильный, я легонько толкаю его:
– Это Аска, жена Гойко.
Пьетро поднимает глаза цвета индиго. Улыбается, протягивает руку:
– Привет, Пьетро.
Аска застыла, держа его руку в своей. Не в силах выпустить ее.
Тогда Пьетро подходит к ней еще ближе. Целует Аске щеки: сначала одну, потом другую. И она раскрывает ему свои объятия.
Я вижу нашу судьбу, которая замыкается.
Аска поворачивается, говорит, что идет за бокалами.
Я застаю ее на кухне, она прислонилась спиной к стене. Беззвучно плачет. При виде меня улыбается.
Прижимает ладонь к лицу, прикрыв рот и нос, дышит в нее.
Подходит Гойко, накрывает ее своим шумным телом.
Они долго были просто друзьями, прежде чем пожениться.
Вместе ходили в кино, потом болтали в баре, делясь впечатлениями о просмотренном фильме и обсуждая всякие глупости. Ни о чем другом не говорили, это было нетрудно, они и так всё знали. Молчание говорило за них, залечивая раны.
С моря дует ветер. Гойко готовит еду на гриле, хлопоча вокруг горящих углей. Мы едим рыбу, поджаренную вместе с чешуей, которая отпадает, как кожура, оставляя белое и ароматное мясо, нежное на вкус. Сегодня вечером мы едим море.
Пьетро спрашивает у меня разрешения тоже выпить немножко вина, и Гойко наливает ему бокал, прежде чем я успеваю открыть рот. Пьетро смеется, говорит:
– Я отсюда больше никуда не уеду.
Аска смотрит на него. Она ела медленно, как горничная, как монашка. Не переставала смотреть на Пьетро, даже если редко поднимала глаза, уткнувшись взглядом в бокалы, тарелки, в свою жизнь. Кажется, боялась растревожить мою.
Может, ей стало стыдно. Годами ее преследовал позор, и, вероятно, это была его последняя вспышка. Казалась, она чувствует себя не в своей тарелке, как непрошеный гость, как воровка.
Легкая боль сопровождает этот приятный вечер, но я ничего не могу изменить. Она живет внутри каждого из нас. Бороться, чтобы проиграть, – свойство глупых задиристых душ.
Ветер дует на угли, вроде бы гасит их, но они все еще теплятся. Пьетро играет с Себиной, они пишут слова на бумажных салфетках, катают шарики из хлеба.
Гойко, вступая в игру, спрашивает:
– Какое самое красивое слово на свете?
Себина отвечает:
– Море.
Пьетро колеблется между «свободой» и «теннисом».
Небо усыпано звездами. Обыкновенными звездами, маленькими и большими. Заставляющими нас покоряться судьбе.
Глаза у Гойко как у побежденного воина. Глаза пьяного поэта. Глядя на Пьетро, он говорит:
– По-моему, самое красивое слово на свете, – «спасибо». – Поднимает бокал, чокается с бутылкой, потом тянется к небу, выбирает звезду и говорит: – Спасибо.
Зло умерло сегодня ночью.
Мы прощаемся на пирсе, точно друзья, которые еще встретятся, в шлепанцах, с рюкзаками, как туристы. Кругом двигаются люди. Кто бы мог себе представить историю, подобную нашей, воплощенную в обычных людях, расстающихся на рассвете. Море молчит, еще немного наслаждаясь ночью.
Гойко отвозит нас обратно, расстояние кажется теперь невероятно коротким. В аэропорту Сараева пьем кофе, сидим, положив локти на железную барную стойку; рядом курят.
– Какие у тебя планы?
– Через две недели в Сараеве начинается кинофестиваль, в этом году приезжает Кевин Спейси… скорей всего, буду сопровождать Кевина Спейси, покажу ему места боевых действий, устрою ему the war tour. [18]18
Военный тур (англ.).
[Закрыть]
Смеется, потом грустнеет. Как и Пьетро.
Надо идти, потому что объявляют рейс, потому что нам было грустно и весело уже очень много раз. Толкаю слегка кулаком в плечо моего Гойко, он нагнул голову, как животное, как кабан.
Здесь не плачут, таков уговор. Чувствую его жесткую бороду.
Мы как море с приливами и отливами. Увидимся ли еще когда-нибудь?
В последний раз вдыхаю запах нашей Боснии, нашей любви.
В самолете Пьетро говорит, что взлет – самая каверзная часть полета, самая опасная, двигатели работают на всю мощь. Нервничает. Вынув жвачку изо рта, приклеил ее под столик, все как всегда.
На мне солнцезащитные очки, мои черные фары. Молча киваю ему. Думаю: «Успокойся, сынок. Ты не умолкаешь ни на секунду, никогда не сидишь на одном месте. Сколько же энергии в твоем теле?»
Игман сверху кажется небольшой горкой, выгнутой, точно кошачья спина. Домики тоже маленькие, как в игре «Монополия».
Чувствую себя гипсовым гномом, похищенным из английского сада и совершившим кругосветное путешествие. Да-да, куклой, которую трясли больше, чем нужно.
Спустя несколько минут Пьетро уже дремлет, прислонившись к иллюминатору, поставив согнутую ногу на сиденье. Заснули его мысли, его ребяческий маразм. Облака проплывают, пронизанные лучами закатного солнца.
Я смотрю на крыло самолета, которое как будто не двигается. Вспоминаю отца. Вполне возможно, Диего все рассказал ему тогда, в гараже на море… может, Армандо всегда знал. Но глаза хранили секрет. Он умер два года назад. Я везла его на прием к врачу, проверить работу кардиостимулятора. Остановившись во втором ряду, вышла купить что-то в супермаркете, как всегда на лету. Оставила ему ключи от машины: «Если кто-нибудь начнет сигналить – отъедешь». Когда я вернулась с пакетами, все клаксоны гудели как сумасшедшие. Папа неподвижно сидел на своем месте, голова свесилась на грудь. Как будто спал. Я уронила пакеты на землю, не чувствуя рук. Люди продолжали орать, что я не так поставила машину. Я не могла никуда отъехать, нужно было дождаться приезда полиции. Шел дождь, я сидела за запотевшими стеклами рядом с телом отца, в этом нетерпеливом городе.
Морской римский воздух. Огромная освещенная крыша аэропорта, самолеты, готовые к взлету. Широкие счастливые шаги Пьетро. Он вернулся в город, где вырос, по которому разъезжает на скутере.
Смотрит на меня:
– Что с тобой?
– Устала, голова болит.
– Папа прав, ты должна есть папайю.
Сошли на землю, автобус везет нас к выходу в город, Пьетро включает мобильный, читает эсэмэски. Бросив взгляд на экран, вижу пупок Динки с пирсингом.
Джулиано ждет нас вместе с водителями, держащими таблички. Едва завидев, рванулся навстречу. Прижимает к себе Пьетро, принюхивается к нему:
– Привет, Пьетро.
– Привет, папа.
Со мной ведет себя сдержанно, как отец когда-то, целует, почти не глядя. Следит за мной, забирая вещи. Опасается моего настроения.
– Все хорошо?
– Все хорошо.
Он торопится, сейчас, когда мы вернулись, торопится. Быстрее уехать из аэропорта – места, которое нас отдаляет друг от друга.
– Чем занимался? Ел в ресторанах по вечерам?
– Ты вернулась не в настроении?
Улыбаюсь, мы остались прежними.
В первый раз, когда он приехал за мной в штатском, пригласив на ужин, у нас закончился бензин на кольцевой дороге. Было ужасно холодно, мимо проезжали только грузовики. «Извини, пожалуйста, я привык к служебным машинам». Мы пошли пешком, прижимаясь к дорожному ограждению, свет фар бил нам в глаза. Джулиано развел руками: «Буду твоим щитом». Потом я обнаружила, что, кроме работы, у него ничего не было, его квартира напоминала служебную, а может, такой и была на самом деле. Помню целые коробки ложек и вилок, так и не разложенных. Помыв, я сложила их в ящик. Мы всегда выглядели немного смешно вместе, наверное, в этом весь секрет нашей жизни. Ведь жизнь – это когда одна дыра накладывается на другую. Странным образом заполняя ее.
В машине Пьетро без конца рассказывает обо всем, что видел. Вспоминает даты, имена. Повторяет слова Гойко: «Европа ничего не сделала… Караджича арестовали только сейчас, потому что они договорились…»
Он сидит сзади, но постоянно просовывает голову к нам. Хлопает по плечу Джулиано. Показывает ему фотографии на телефоне. Ту, на скале, пропускает. Ощущаю в себе то же умиротворение, что и у креста.
Джулиано поворачивает ключ в замке, открывая квартиру, зажигает свет, и возвращаются книги, диван.
Пьетро смотрит теннис по телевизору, я, сняв косметику с лица, выбрасываю комок грязной ваты в корзину. Выключаю свет, проверяю газ. В холодильнике ничего нет, только то, что оставила я, – увядший салат, пара йогуртов.
Я стою на балконе, держась за перила. Джулиано подходит ко мне, кладет свою руку на мою. Мы смотрим на бар внизу, мальчишек рядом с малолитражками.
– Что ты делал сегодня?
– С раннего утра разгонял стихийный рынок поддельных товаров из Восточной Европы.
Этим летом у него такая работа. Работа, приводящая его в уныние. Мир, берущий отпечатки пальцев у румынских детей, ставящий на учет маленькие создания, нравится ему все меньше и меньше.
Рассказываю все. Джулиано слушает, по-военному скрестив руки на груди. У него перехватывает горло. Сам тащит меня к Пьетро. Хочет увидеть его. Увидеть, как он дышит.
Дверь закрыта, на ручке висит табличка «DO NOT DISTURB», украденная из гостиницы. Все равно входим. Четник спит в раздвижной «икеевской» кровати, выдвинутой до самого конца, гитара валяется на полу, рядом брошены джинсы и мобильный телефон. Джулиано склоняется над ним, нюхая его затылок. Как пес, как родной отец. Поднимает гитару, прислоняет ее к стене. Мобильный ставит на зарядку, складывает джинсы. Крутится по комнате… как и я. Круги нашей повседневности.