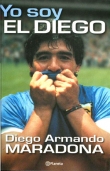Текст книги "Рожденный дважды"
Автор книги: Маргарет Мадзантини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
День похож на плывущие облака
День похож на плывущие облака. На пароме Пьетро сел отдельно, пристроился босиком на одной из скользких от морской воды лавок… Вижу его лицо, очки «Ray-Ban». Согнул ногу в колене, оперся рукой – непривычная для него поза человека, смотрящего вдаль.
Недавно построенные дома с красными крышами, пестрота и шум: автомобили, магазинчики для туристов, стойки со шлепанцами и купальниками, вывески баров, ресторанов; плакаты с огромными нарисованными креветками и другие, о сдаче комнат, с надписью «SOBE». Выходим в море, плывем вдоль берега, испещренного горными дорогами, и причаливаем на другой стороне острова.
Культурная ассоциация занимает большое здание в венецианском стиле. На вилле ощущается дух старой семейной усадьбы, светлые стены с облупленной в некоторых местах краской, явно наложенной на бледно-розовый, почти телесного цвета, фон. Легкие рамы, высокий стрельчатый вход и распахнутая дверь на втором этаже, ведущая на изогнутый балкон с кованым ограждением. Мы идем по песку, смешанному с галькой, по саду, где царит веселый хаос, повсюду – детские площадки, деревянные стенды с фотографиями и рисунками. Атмосфера сельского праздника. Несколько женщин согнулись над большим столом и втыкают иголки в колоссальные пяльцы. Я подхожу, и они, улыбаясь, отодвигаются, чтобы я посмотрела на их нескончаемую вышивку.
Гойко представляет меня:
– Моя подруга Джемма из Рима, а это ее сын Пьетро.
Пьетро позволяет всем этим матерям себя целовать, пристает с расспросами, сколько времени они потратили, чтобы вышить этот огромный символ мира. Количество лилий не случайно, объясняет одна из девушек, цветков ровно столько, сколько погибло детей за время войны, поэтому полотно и получается таким большим.
Элегантная женщина, разговаривающая по мобильному телефону, направляется ко мне, на ней одежда из черного льна, большие солнечные очки. Закончив разговор, хлопает меня по плечу:
– Как поживаешь?
Это Ана, спрашивает, узнаю ли я ее, отвечаю, нет, ее трудно узнать, выглядит как настоящая актриса. Потом мы обнимаемся, я снова смотрю на нее и думаю: конечно узнаю, а как же.
Ее муж – стоматолог. Они работают вместе, она записывает пациентов на прием. Детей у них нет из-за лечения, которое ей пришлось пройти. «Лучи, – говорит, – только не солнечные». Смеется. Потому что у Аны появилась проблема «после», как и у многих других женщин.
Они с Гойко никогда не теряли друг друга из виду. Представляет мне других бывших сараевских жительниц – постаревшие лица моих одногодок. Некоторых узнаю, тогда они были молодыми девушками из общей квартиры, которые перед войной ходили в черных мини-юбках, слушали группу «Р. Е. М.» и боснийский рок и обменивались парнями, желая приобщиться к Европе.
На столе стоят графины с домашними напитками. Мы пьем черничный морс, сидя в креслах-качалках, как две дачницы былых времен.
Ана рассказывает об ассоциации: женщины разных этнических групп после войны объединились, чтобы помогать другим женщинам. Летом они показывают фильмы, организуют фотовыставки, концерты, чтения. Зимой при ассоциации открыты обучающие курсы: компьютерные, языковые, есть танцевальная и музыкальная студии.
Показывает мне очень красивую девушку с длинными черными волосами и белой кожей. Ее зовут Весна.
– Однажды в передаче по телевизору она узнала своего отца среди «мясников» Сребреницы. С тех пор Весна замолчала, за шесть лет не произнесла ни слова. Ее мать, оставив мужа, привела свою немую девочку к нам. В тот день, когда она снова заговорила, мы все плакали, это случилось на берегу, и первое слово, которое она произнесла, было «sidro», в переводе «якорь», поэтому мы назвали нашу ассоциацию «Sidro».
У самого берега стоит дом, построенный из светлых блоков, с красными ставнями, плоской крышей, стоками для дождевой воды и верандой, вокруг которой расставлены низкие вазоны с геранями, искривленными ветром.
– Ну вот, здесь я живу.
Над каменной оградой – неоновая вывеска с надписью «RESTORAN», которая сейчас выключена. Мы заходим с заднего двора, через небольшую деревянную калитку, которую, кажется, никогда не закрывают. Идем по дорожке из бетонных плит. Под навесом с зеленой мягкой черепицей стоят маленький трехколесный велосипед и мопед, выцветший от солнца «пьяджо» с сиденьем, из которого торчат куски пенорезины. Рядом – банки консервов, ящики с водой и пивом и большая почерневшая металлическая бочка.
На бельевой веревке висят детский купальник и сдутый пляжный матрасик. Еще несколько шагов: пустые цветочные горшки, вставленные друг в друга, гипсовая Белоснежка, раскрывающая нам объятия.
Пьетро спрашивает, где семь гномов.
Гойко отвечает, что его дочка не захотела гномов, она терпеть их не может и называет старыми детьми.
На веранде поставлено несколько железных столиков; босоногая девушка с двумя хвостиками, в рубашке из марлевки поверх купальника, крепит зажимы, чтобы скатерти не сдувало ветром.
– Zdravo,Гойко.
– Zdravo,Нина.
Целует, дергает ее за хвостик, просит принести нам чего-нибудь выпить.
Мы садимся на улице, под плетеный навес. Отсюда видно море – голубую полоску, исчезающую в ярком свете солнца. Легкий бриз дует с дюн в спину. Вернувшаяся с подносом девушка выставляет перед нами графин вина, вазочки с оливками, с зеленым сладким перцем, с семечками и банку кока-колы для Пьетро.
Гойко приносит на себе девочку, вцепившуюся в него, как осьминог.
Головой в светлых, почти белых, завитках она уткнулась в тело отца, и, кроме пары ног в махровых полосатых брючках, ничего нельзя увидеть.
– Это Себина.
Гойко не смотрит на меня, но и я не смотрю на него. Уставилась в стол, разглядываю муравья, ползущего по клеенке. Резкая боль, словно ударилась коленкой об острый угол.
– Привет… Себина.
Прикасаюсь к ней, поглаживая ножку. Худенькую, слишком худенькую. Вспоминаю коренастые ноги, состоящие из одних мускулов.
Пьетро пробует немножко пощекотать ее, она отмахивается, отбрыкивается, но лица не показывает.
– Спала… – Гойко садится с дочерью на руках, объясняет, что поэтому она немножко не в настроении, наполняет мне стакан, наливает себе.
Мы выпиваем; девочка, лица которой не видно, разделяет нас.
– Красиво здесь.
– Просто.
Гойко рассказывает о меню ресторана, говорит, что по вечерам они жарят на гриле… он ловит рыбу; если Пьетро хочет, можно вечером отправиться за кальмарами. Кроме того, они сдают несколько комнат неприхотливым туристам.
Пока говорит, не перестает гладить дочь по голове. Мне трудно смотреть на эту тяжелую руку, с жадностью погрузившуюся в светлые кудряшки, очень трудно…
На открытом окне с внутренней стороны колышется белая занавеска… она дышит, надуваясь, словно маленький парус.
Я слежу за этим белым дыханием, несущим покой и умиротворение, внушающим, что время прошло, расставило все по своим местам, принесло другие семена, другие волосы.
Изнутри доносится легкая летняя музыка.
Девочка, оторвав лицо от Гойко, смотрит на Пьетро.
Она совсем не похожа на Себину. В отличие от нее, очень красивая, на кукольном, слегка загорелом лице застыло удивление, прозрачные глаза, надутые губки. У Себины глаза были свинцового цвета, губы кривые, похожие на рыболовные крючки, и уши торчали из-под волос.
Пьетро высовывает язык, двигает бровями и ушами, как его научил дедушка Армандо.
Малышка смеется, у нее нет переднего зуба – выпал вчера вечером, – показывает нам дырку. Она не понимает по-итальянски, но чуть-чуть говорит по-английски. Объясняет, что не знает, где ее зуб, и от этого ей грустно. Пьетро говорит, что, если она хочет, они вместе могут поискать его.
– We go and look for the tooth… [16]16
Пойдем поищем зуб… (англ.)
[Закрыть]
Девочка соскальзывает с коленей отца, подает руку Пьетро, и они уходят. Я смотрю на них, на моего сына и эту вторую Себину, совсем непохожую на уроженку Сараева, скорее, напоминающую голландку или немку… маленькую иностранку.
Сколько лет было бы сегодня Bijeli Biber? Красовалась бы с олимпийской медалью на шее или стала бы заядлой курильщицей, как и ее братец?
Я должна была бы испытывать нежность к этому ребенку. Думала, что расчувствуюсь, но, наоборот, чувствую себя разбитой и даже злой. Может, вино ударило мне в голову, ожесточило сердце. Но у меня ощущение, что эта новая девочка, вторая Себина не станет символом возрождения. Это совсем другой ребенок и другая жизнь. Мне безразлична такая банальная, очень красивая девочка. Хочу вернуть ту несуразную и умную мордашку, ту нищую храбрость. Сегодня мне нравится только то, что я потеряла, чего больше никогда не увижу.
– Правда красивая?
Даже чересчур. Такая же пустая, как и вся жизнь «после».
Внутри дома стоит знакомый мне запах, какой бывает в простых домах на море… запах душицы, чистого белья, миндаля.
По стенам развешены детские рисунки с подписью внизу, «SEBINA», выведенной рукой, только что научившейся писать.
Касаюсь прохладной стены коридора, прохожу мимо стула с вышитой голубой накидкой на спинке.
И мне кажется, что Гойко подталкивает меня вперед…
Спотыкаюсь, не заметив невысокой ступеньки, но удерживаюсь на ногах, попадаю в небольшую гостиную: два кресла из облезлой кожи, подставка для газет… на стене старый портрет Тито.
– Единственное, что уцелело… – Смеется. – Все сгорело, а маршал устоял, поэтому я и привез его с собой.
Кажется, у него покраснели глаза, на нем мокрая рубашка, расстегнутая до самого пупа.
– Я должен сказать тебе кое-что…
За его спиной, на низком бамбуковом столике, стоит фотография: он в лодке с голым торсом; потом фотография, сделанная Диего: Мирна с Себиной. Я поворачиваюсь к стеклянной двери, отделяющей маленькую гостиную от следующей комнаты… смотрю на окно с колышущейся занавеской. Той, что я заметила еще с веранды, из светлой марли.
Гойко курит, затягивается, потом легонько стучит сигаретой о край пепельницы, которую держит в руках, смотрит на огонек.
Я чувствую что-то за своей спиной, сама не знаю что – какое-то тепло и напряжение одновременно, – опускаю голову.
Гойко продолжает крутить сигаретой в пепельнице.
– Что происходит?
И начинаю пятиться назад. Но он берет меня за плечи, крепко держит сзади, другой рукой душит за шею. Так, наверное, он держал охваченного ужасом врага, перед тем как перерезать ему горло.
Чувствую, как он дышит мне в ухо.
– Извини меня… хотел сразу рассказать.
Что ты должен был мне рассказать, идиот? Что ты должен был сказать такого, чего уже не сказала жизнь?
Прохожу в другую комнату. Пара веревочных сандалий валяется в стороне, я смотрю на голые ноги ждущей меня женщины.
В белой рубашке и джинсах, волосы закреплены в пучке карандашом. Намного выше, чем я помню ее. Но может, это я стала ниже? Она не накрашена, не постарела, просто с годами приобрела гармоничность, которой прежде не было.
– Привет, Джемма.
– Привет, Аска.
Поднимаю руку, и медленное тяжелое движение разрезает воздух, деля мир надвое. Подаю ей руку.
Пусть она ее держит, все равно я не знаю, что с ней делать. Протягиваю руку этой высокой женщине, рыжеволосой, зеленоглазой, красивой, как чуть-чуть постаревшая модель, которая, сбросив с себя налет юношеской дурости, удержала настоящую красоту… протягиваю ей руку, которая и не рука уже, а хвост зверя, угодившего в капкан, застывшего в ожидании смерти, настороженного, с широко открытыми глазами, и думаю о том, что это движение станет моим последним.
Хозяйка приглашает меня присесть.
Не слушаю ее, звук исчез, только колышется занавеска.
Аска открывает рот, у нее великолепные зубы, я едва касаюсь их взглядом, как и всей ее красоты.
Это уже не она, и следа не осталось от ее прежней неухоженности. Что я помню? Человека, которого больше нет. Крашеную, изуродованную косметикой девушку, которая когда-то играла на трубе и вызывающе смеялась.
Я миллион раз представляла ее мертвой.
Представляла ее и живой. Но не такой. Смутный образ страдающей, поверхностной женщины.
Значит, она – жена Гойко. Аска говорит мне, что они встретились после войны в Париже, в квартире их общих друзей, в одном из тех мест, где обычно собирались боснийские беженцы. Они помогли друг другу. Любовь пришла позже.
– Ты все еще слушаешь «Нирвану»?
– Иногда да.
– Курт Кобейн умер.
– Знаю, несколько лет назад.
– Застрелился. Нужно обладать большим мужеством, чтобы выстрелить в себя.
– Если ты обкололся, то не обязательно.
Диего тоже умер. Он тоже обкололся. Да уж, безумный волк умирает. А изворотливая овечка танцует и, танцуя, спасается.
Последний альбом «Нирваны» назывался «In Utero». [17]17
«В утробе» (англ.).
[Закрыть] Помню, я купила его. Жизнь смешна. Она опережает тебя. Издевается над тобой.
Занавеска колышется. Не слушаю ее, белая трещина ползет по мне. Чистая бескровная рана проходит через мое лицо.
Меня обманули, чтобы затащить в это путешествие… все – фотовыставка, прогулки по Сараеву, опоздание на паром – было обманом.
Она выглядит просто и вместе с тем элегантно, как все современные женщины.
Сейчас скажет мне, что она каждый день думает о своем сыне и имеет право обнять его… открыть ему правду.
И я не смогу отказать. Я ничего не смогу сделать, не зная законов этой страны, я далеко, в городке, даже названия которого не помню. Я села на паром, опьяненная ностальгией, ехала за незнакомцем, о котором ничего не знаю, за поэтом, ставшим солдатом, убийцей. Мне нужны были друзья и воспоминания. Мало было собственной жизни. Мне нужен был кто-то, кто заставил бы меня пережить страдания, свидетель, сам переживший их. Я приехала сюда сама, по собственному желанию.
Гойко улыбается ей, держа ее за руку. Рядом с ней он выглядит красивее, не таким неуклюжим, более чувственным, более спокойным.
Они не приехали ко мне в Италию. Они меня выманили сюда. Она сказала ему: «Я хочу своего мальчика, хочу снова увидеть его, увидеть сына человека, которого я любила и который умер. Я больше не могу терпеть, я долго об этом думала, но теперь хочу прижать его к себе, рассказать ему всю правду, и будь что будет».
Надо позвонить Джулиано, надо, чтобы он приехал, я должна защитить Пьетро. Нельзя раскисать.
– Ты не доверяешь мне?
– Чего ты хочешь?
– Увидеть его.
– Выгляни из окна – и увидишь.
– Я видела, как он говорил с Себиной… с сестрой.
– Молчи… молчи.
Она плачет, но я спокойно могла бы убить ее, потому что сейчас я кое-что поняла, разглядев грязную подноготную, чувствуя знакомый запах нищеты.
– Вам нужны деньги?
Открыв рот, яростно мотает головой. Похоже, впала в отчаяние.
– Не оскорбляй меня.
Занавеска колышется на окне. Только ящерица смотрит на нас, ее древнее прозрачное тело застыло на стене.
– Почему ты не умерла?
Смотрит на меня, не выказав никакого удивления:
– Не знаю.
Я встаю, одергиваю юбку. Где мой пиджак, мой мятый пиджак? Где моя сумка со всякой ерундой, паспортами, билетами на самолет, помадой, проникающей в мои морщины? Она спрашивает, не принести ли винограда, может, я хочу помыться, предлагает нам с Пьетро переночевать, поесть рыбы у моря, Гойко замечательно готовит на гриле.
Внезапно ощущаю невыразимую ненависть… дикую ненависть ко всем прошедшим годам. «Пошла в жопу, ты заела мою жизнь, тварь, отъела лучший кусок от меня. Увела отца Пьетро, он умер, а ты здесь, ты всегда была здесь». Хватаюсь за свою сумку, очки, свою маленькую старость. У меня наступила менопауза год назад, но мне это безразлично, зачем, спрашивается, был нужен этот мой цикл. Конец кровотечений означал конец досады на саму себя.
В последний раз я видела эту женщину во время войны, когда, лежа в больничной кровати, она считала марки. Первое время я боялась, как бы она не объявилась. Стоя на светофорах, раздавала деньги всем бродягам мира, всем беженцам с Востока. У меня это превратилось в рефлекс: поворачиваться в поисках сумки на сиденье. Все время платить. Я думала, что она погибла, осталась только на фотографии, прикрепленной к одной из плит на поле, усеянном могилами. А эта женщина, наоборот, цветет, на ней белая рубашка, она еще молода, у нее есть время родить себе еще детей.
– Пьетро итальянец, он мой сын. Я сейчас встану, возьму его за руку, и мы уедем. А ты даже не пробуй приблизиться ко мне… к нам…
Аска наклоняет голову. Смотрю на ее затылок, собранные волосы, несколько выбившихся прядей. Вижу что-то такое… какое-то пятно. Я хочу уйти, как в тот раз. Но не могу отвести взгляда от этого пятна… татуировки. Что-то вроде цветка, розоватого, сделанного непрофессиональной рукой.
Вспоминаю фотографию Диего, ту, что висела в глубине зала, над подставкой для зонтов. Та странная роза на странной стене. Сейчас я вижу, что это была за стена.
Аска прикрывает затылок рукой, чуть покачиваясь.
Пчела, влетев через окно, кружится вокруг нас, то подлетает ближе, то улетает.
Ее бы нужно отогнать, но мы не двигаемся.
Вот эта история, которую однажды я, вероятно, должна буду набраться храбрости и рассказать своему сыну как сказку.
Они вдвоем там, в гостинице у самого леса. Поднялись по лестнице, держась за руки. На Аске черное блестящее платье. Он попросил ее: «Не надевай своих колючих побрякушек, ты в них похожа на кактус», и она послушалась. Пришла в платье, в котором выступает на концертах. Он смотрит на легкую черную ткань, касающуюся тела, пока они поднимаются по лестнице.
Олицетворение красоты здешних мест, медные густые волосы, зеленые глаза, точно нарисованные листья, открытые скулы, прямой, немного приплюснутый нос… такая же белая арабка, как и сам город, настолько необычный, что напоминает не то Стамбул, не то горное селение. В профиль похожа на козу из Кашмира.
Диего не знает, получится ли у них что-нибудь.
Он нервничает, но внешне спокоен, ему нравится эта страстная провинциальная девушка, немного помешанная, с горячим желанием кем-нибудь стать, Дженис Джоплин к примеру. Чем-то напоминает его самого… хорошо знакомое ему чувство, мурашки по телу… «Лейка», купленная на рынке у спекулянтов… он ведь тоже когда-то был мальчишкой, чувствовал себя Робертом Капой.
Она пробудила в нем нежность, когда он взглянул на ее размалеванное лицо, на колготки с постмодернистскими дырами, на булавки в ушах. Ему не нравятся панки, но к ней он почувствовал нежность. Он приглядывался к ней, видел, как она ела сладости, облизывала пальцы, доев все до последней крошки, видел, как она смеялась. Они разговаривали – она далеко не глупа, в ее голове полно разной дряни, но мозги светлые, точно заряженная батарейка, что-то в ней есть такое, чего в нем уже нет.
В комнате Аска смотрит на кровать и смеется. Плюхается на нее с разведенными в стороны руками, дышит полной грудью. Знает, что он любуется ею, наглая, увлеченная игрой. Диего более напряжен в отличие от нее, говорит, начинает с обуви, снимает сапоги, не ложится сразу, а садится на край кровати. Все еще не верит, что она пришла, что эта история развивается дальше.
В последние дни они стали иначе смотреть друг на друга, между ними появилось что-то вроде флирта. Теперь, когда они оказались в комнате, где, кроме кровати, можно сказать, ничего нет, они немного стесняются. Аска садится, скрестив ноги, как йог, у нее с собой труба, и она начинает играть «Му fanny Valentine». Он слушает ее, думает, сколько же воздуху могут вместить твои легкие, девочка? Говорит:
– Тебя ждет большое будущее.
Она перестает играть, убирает трубу, облизывает губы:
– Мне хотелось бы разделить его с тобой.
Он улыбается:
– Перестань, не надо так шутить.
– А я и не шучу, сегодня ночью мы могли бы представить, что у нас есть общее будущее.
В этой девчонке столько же нахальства, сколько воздуху в легких, он смотрит на нее: не забывай о своем месте.
Но у нее никогда не было своего места, она всегда шла наперекор всему. Поэтому она сейчас и здесь.
Они ложатся рядом, разговорились. Он показывает ей, как устроена фотокамера, как настроить вспышку. Вытягивает руку, фотографируя их лица, утопающие в подушках. Аска, как обезьяна, поднимает вверх ноги, собираясь поиграть с ногами Диего. Последние дни показались ей особенно мрачными, унылыми. Она принимала участие в демонстрации, на лбу до сих пор остался символ мира – знак, похожий на отпечаток птичьей лапки, заключенной в круг, который Хайра, подруга, нарисовала ей кисточкой. Кричит, что этой ночью ей ужасно хочется развлечься. Диего уступает, поднимает свои длинные ноги, сгибает, их ступни соединяются. Они толкаются, лежа на кровати, потом опускают ноги. Он заглядывает ей в глаза, смотрит на губы, прислушивается, как дышит грудь.
Она фантастически красива вблизи, фантастически молода. Прежде чем поцеловать ее, улыбается, потом долго не отрывает губ. Рот Аски манит свежестью, как родник. Он слышит, как изменилось ее дыхание, ощущает вкус этого первого поцелуя, теперь он взял на себя инициативу, это одновременно и оглушает его, и наполняет стыдом.
Неловко себя чувствуя, он отрывается от ее губ, в нем нет ее циничности. Среди них двоих он – старше, и это его поймали в ловушку. Он бы хотел по-отечески дать ей несколько советов, как старший брат, как учитель в своей фотостудии. А вместо этого собирается сейчас заняться с ней любовью, девушка сама, по собственной воле предложила в аренду свое тело. И вот сложилась такая странная, эротичная ситуация, которая возбуждает и одновременно как-то унижает его.
Он вложил слишком много страсти в тот поцелуй, слишком много тоски. Глядя на нее, гладит ее по голове, вздыхая, думает о чем-то.
Маленькая сараевская плутовка шепчет:
– Я не нравлюсь тебе?
– Да нет, нравишься, и ты это знаешь. И может, я бы хотел для себя другой жизни, хотел бы закинуть рюкзак за спину и сбежать, как в юности. Стиснуть тело в темноте, принимая случайный дар за судьбу.
Диего попробовал бы, но сегодня он устал от банальной жизни, от безрезультатных стараний.
Он смотрит в темное ночное окно, думает обо мне, о нашем договоре. Задается вопросом, как мы смогли так далеко зайти, отступить от своих принципов, соскользнуть в безумие, застывшее в себе самом, дальновидное.
– Ну что, начнем наконец делать этого ребенка?
Аска подтрунивает над ним сейчас, сняв платье. На ней колготки в полоску и черный бюстгальтер, плотный, как маленький корсет. Его глаза задерживаются на ее белом животе, напоминающем скалы, которые он видел у берегов Далмации.
Ее имя безрассудной овечки, из рассказа, который он никогда не читал… В шутку она подражает овце: бе-е, бе-е, Диего отвечает: бе-е.
– Закурим?
Курят в тишине. Намокшая бумага переходит из одних губ в другие, дым, проникая внутрь, смягчает. Она дотрагивается до его лица, бороды, которая у него плохо растет, редкая и колючая щетина, как плохо политый сад. Говорит:
– Надо побриться, сам знаю.
Отвечает ему:
– А мне нравится.
Проводит по бороде рукой, точно крохотными граблями.
Смотрит на ее белый высокий лоб. Живой портрет Мадонны, которую он видел в церкви, будучи мальчишкой, и наркоманки с площади Корветто, похожей на Мадонну. Он не знает, как рождается вкус к женщине, если она напоминает тебе кого-то, самую красивую мать.
Сейчас ему вспоминаются все те дурацкие свечи, которые мать просила его поставить за отца перед той Мадонной, слишком красивой и слишком мертвой, чтобы поднять на нее глаза.
Аска сосет мочку его уха, ему смешно. Он не умеет вести себя с женщинами, так никогда и не научился. Знает только, как жить со мной, знает, что надо засунуть кулак мне под мышку, потому что я люблю так засыпать.
Она говорит:
– Твоя жена смотрит на меня, как крестьянка, выбирающая корову для отела.
Он взглянул на нее:
– Только я не бык.
Нелегко быть с влюбленной девчонкой, парящей в мечтах. Он посоветовал ей не разбрасываться, сосредоточиться на музыке, на своем будущем, не зацикливаться на тех ее легендарных психах, музыкантах-наркоманах. Однажды он фотографировал ее в пустой клетке зоопарка. Внезапно нашла тоска, ненасытный голод. Он перестал фотографировать, сказал ей:
– Выходи из клетки, поживее.
– Я люблю свою жену.
Она засмеялась:
– Тебя будто приговорили, такой ты печальный.
У этой девушки в глазах умещается вся Босния с ее грустью, безумным юмором и даже шумом иных горных рек, которые бьются о каменистое дно как пощечины Бога.
Косяк кончился, оставив во рту сильный привкус; Диего улыбается, встает, пьет воду из-под крана. Думает обо мне, как я одиноко бреду по этим темным улицам. Идет по моим следам, дышит мне в спину. Хочет положить руку мне на плечо. Хотел бы быть в укороченных узких брюках-тореро и держать в руках зеленый стульчик из своего детства. Сесть посреди улицы и сказать: «Я здесь, ты хочешь меня?»
Ну что, ты ее трахнул?
Нет, у нас не вышло.
Ну и хорошо.
Я не бык.
Я знаю.
Бык – это ты, я лишь пыль у твоих ног.
С улицы доносится грохот, будто валятся ящики. С лестницы доносится аромат, в кухне уже что-то жарят на завтрак. Она говорит: «Сходи вниз, попроси пончиков, хочу есть».
Диего спускается по лестнице босиком, перепрыгивает через ступеньки, рубашка расстегнута, по груди – мурашки. Немного рассеян из-за выкуренной папироски… на душе легко и спокойно. Чувствует все свое тело, как давно уже не чувствовал. Всего два лестничных пролета – горсть мгновений.
Не успевает сразу заметить, что происходит в столовой: чашки все на полу, столы опрокинуты… в темноте передвигаются тени, пинают все подряд, орут. С первого взгляда все становится ясно. Входная дверь открыта… С улицы доносятся еще крики, глухая автоматная очередь, настолько близко, что кажется, его заметили, стреляют в него. Внезапная тишина, потом снова крики, снова выстрелы… закудахтали испуганные куры, опять шум, будто падают и раскатываются консервные банки.
Диего стоит в тени, он спустился, привлеченный ароматом, чтобы взять пончиков, собирался заняться любовью. То, что он видит в темноте, плохо, слишком трудно доходит до его расслабленного сознания. Он не понимает, что происходит, думает, забрались воры. Делает два шага в направлении кухни. Винтовка приставлена к животу хозяйки гостиницы, лужа горячего масла, продолжающего шипеть, как кислота, растекается по черному полу. Теперь он разглядел маскировочные костюмы, капюшоны. «Война, война пришла сюда». Именно эта мысль стала его последней самостоятельной мыслью.
Точно плотину прорвало: вода, тяжелая, как металл, затопляет все. Потом его будто переклинивает, срабатывает инстинкт, и, если бы в тот момент у него спросили, как его зовут и почему он находится здесь, он не смог бы ответить. Возвращается туда, откуда пришел, не поворачиваясь, спотыкаясь на ступеньках. Глаза врезаются в темноту, как прибор ночного видения. Держится за стену, поднимаясь, как краб, выползший на сушу. Прячется в первую попавшуюся нишу… клеенчатая шторка, как в ванной, отгораживает кладовку с метлами.
На какое-то мгновение кажется, что эта клеенка спасла ему жизнь, – он увидел первого убитого. На лестнице лицом вниз лежит мужчина, старик в трикотажных штанах… выстреливший ему в затылок парень, опустив капюшон, ел еще горячие пончики… Старик, подняв руки, молил: «Сыночек, сынок».
Кладовка со швабрами и метлами расположена на лестничной площадке, всего несколько ступенек отделяет ее от коридора. Сквозь щель между стеной и клеенкой Диего видит ту приоткрытую дверь. Несколько шагов, и он добежал бы до Аски, но он не может двигаться, мост сломан, эти ступеньки как прорванная плотина, тяжелый поток воды, отбрасывающий его назад.
Аска все еще ждет пончиков, кажется, она ничего не слышала: Диего видит, как она выглядывает. Надела платье… черное блестящее концертное платье. Ему не видно ее целиком, только ноги, кусок ткани. Диего хочет крикнуть, чтобы она закрыла дверь, спряталась, бежала через окно в лес. Открывает рот, пытаясь заговорить, а вместо этого сглатывает соленые слюни, голос пропал. Голосовые связки, как стальная проволока, как натянутые струны. Это инстинкт самосохранения… инстинкт, заставляющий молчать, даже не дышать. Потому что в это время мимо проходит черная орда, поднимаясь вместе с запахом пончиков, кипящего масла, разлитого по полу. Тяжелые, с толстой подошвой, вроде горнолыжных, ботинки на шнурках громыхают вверх по ступенькам, подминая их под себя. Чья-то рука задевает шторку, где он прячется, вдавливается в клеенку.
Все происходит слишком быстро, вряд ли можно рассказать, как все было. В памяти останутся лишь фрагменты, осколки образов, которые никогда больше не исчезнут, прилипнув к нему, как кожа. Страх действует словно анестезия – замораживает, расходясь по телу.
Он наблюдает за тем, что происходит, через щелку, зазор между шторкой и стеной. Видит мужчин, которые в коридоре делятся на группы, видит, как они стучат в двери… слышит выстрелы, падают стекла, отваливаются куски стен. Сейчас дошли и до Аски. Ему видны только ноги в полосатых колготках. Он слышит, как она кричит.
Аска впервые увидела волков, она пятится к окну. Спрашивает себя, как они здесь оказались, может, вышли из леса… похожи на смерть в балаклавах, закрывающих пол-лица. Говорят на том же языке, что и она, просят показать документы. Заполняют комнату телами, отяжелевшими от двойных патронташей, перекрещенных на груди. Один из них пинает единственный стул, который тут есть, садится на стол, широко расставив ноги; Аска решила, что командир – он, на его груди бляха с черепом. Он зажигает сигарету, курит, не разжимая рта, смотрит на Аску. Но Аска – овечка-бунтарка, и страх делает ее агрессивной. Она кричит им, чтобы убирались отсюда. Спрашивает, кто они такие, почему у них закрыты лица. Говорит, что вызовет полицию.
Командир поднимает балаклаву, открывая молодое квадратное лицо. Светлые стеклянные глаза. Поворачивается к толстяку, стоящему рядом, чтобы вместе посмеяться.
Диего видны только шаги, ботинки, над которыми заканчиваются маскировочные брюки… он видит, как все летит на пол: ящик, стул, на котором висел его пиджак. Они бьют девушку; Диего слышит, как она кричит, защищаясь. Сейчас только жалобно стонет. Упала на пол, он видит соскользнувшую руку, ботинок, с силой прижавший эту руку к полу. Слышит голос, приказывающий ей подняться.
Диего должен выйти, должен защитить ее, должен сказать: «Я итальянский фотограф, она моя девушка, оставьте ее в покое». Может, достаточно будет напугать их журналистским удостоверением, которое осталось в кармане пиджака. Нужно только добраться до того пиджака. Представляет, как он выходит, берет Аску за руку, размахивая пропуском журналиста, как крестом.
Ее спрашивают, что она делает в этой гостинице, забрали документы, обозвали мусульманской шлюхой.
«Вставай, мусульманская шлюха».
Аска поднимается. Рука болит, будто ее проткнули гвоздями, не может ее сжать. Уже поняла, что никакой полиции нет и никакие законы больше не действуют, что это и есть война. Только теперь осознает, что происходит снаружи… выстрелы с улицы, шум из других комнат, крики… понимает, что в коридоре тоже выключен свет, скорее всего, перерезаны провода. Слышит жалобы других людей, попавших в ловушку, как и она: сонных, их застали врасплох, вытащив из нормальной жизни окраинного района. Она не знает, бандитская ли это вылазка, или уже захвачен весь город. Это как если гаснет электричество: у всех так же или только у тебя? Что сейчас с ее подругой Хайрой, бабушкой и братишкой? Ощущает, как ее восприятие расширяется, растягивается, расходится вдаль на километры, как у животных… сейчас она должна воспринять весь мир, чтобы не чувствовать себя отделенной от него в этой комнате… в этом кошмаре, грязном и непонятном. Чувствует запах пончиков, смешанный с человеческим запахом. От них воняет землей, потом, алкоголем. Они, наверное, тоже боятся. Нервничают, ходят туда-сюда, открывают двери пинками… Аска слышит женские крики, похожие на хриплое мяуканье. Возможно, это студентка из Зеницы, которая недавно шутила, разговаривала с кем-то в коридоре, они приехали на поезде принять участие в демонстрации. В коридоре что-то происходит, кого-то тащат за волосы. Аска не задает себе никаких вопросов, картинки пролетают как будто из другого мира. Она знает, что не закричит. Она свободная девушка, выросшая в свободном городе. Все еще думает, что с ними надо поговорить и тогда они уймутся. Они ведь все такие же молодые, как и она, приблизительно ее возраста.