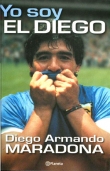Текст книги "Рожденный дважды"
Автор книги: Маргарет Мадзантини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Теперь снайпер расплывается в улыбке, щеки морщатся, но глаза неподвижны, потому что сердце умерло. Пройдет время, прежде чем придут за ребенком, он знает это. Будут ждать, пока он не уйдет, пока не закончится его смена. Лицо ребенка на снегу становится голубым. Окурок, выброшенный снайпером на землю, все еще не потух. Иногда какой-нибудь журналист влезает к нему, пристраивается рядом: «Я буду тебя снимать, а ты стреляй». И снайпер стреляет по его просьбе. Потом дает интервью, руки скрещены на груди, черный берет, поверх маскировочного костюма крест.
«То же, что стрелять по кроликам», – улыбается. Потом лицо твердеет, и остается то низменное высокомерие, какое могло бы быть у дьявола, гордого собой.
Раздается голос живого младенца, сдавленный плач, с трудом проходящий через непрочищенные слизистые оболочки; похожий на жалобное мяуканье котенка. Никто из нас не двигается. Только Диего делает шаг к сыну, потом останавливается. Возвращается за мной, берет меня за руку.
Женщина зовет нас, кивком головы приглашая подойти. Показывает ребенка, мальчик. Никто из нас не знал, кто будет, оказался Пьетро.
– Пьетро…
Смотрю на него, но не сразу вижу, увижу потом. Сейчас я впитываю в себя этого младенца. От удивления открываю рот, и малыш завладевает мной, прыгнув прямо в горло. Женщина в медицинском халате обмывает его, на каталке перевернула и обтирает тряпкой, окуная ее в металлическую миску. Страшный холод, малюсенькое тельце темно-лилового цвета. Похож на моллюска, опутанного водорослями. Женщина торопится, движения ее прозаичны. У нее такая работа – вытаскивать рыб из моря. Поднимается вой сирены, свет мерцает, раздается взрыв, но никто не обращает внимания. Женщина ругается: ей это мешает, как помешали бы слишком шумные соседи. Война – в ней самой, в ее руках, привыкших вынимать детей.
– Odijeća… odijeća…
Ребенка надо одеть, смотрит на нас, спрашивает, принесли ли мы одежду.
Мотаю головой, открываю рот, но молчу, только вздыхаю: увы, я об этом не подумала. «Сейчас», – говорит Диего, открывает сумку для фотопленок и вытаскивает малюсенькую одежонку… белый вязаный комбинезончик, немного пожелтевший.
– Где ты его взял?
Купил на рынке. И я чувствую себя полной дурой: подумать только, я забыла, а он вспомнил. Женщина берет комбинезон, всовывает в него ребенка, размер слишком большой, ручки остаются глубоко в рукавах, а низ болтается, как пустой носок. Передает малыша Гойко, может, потому, что он тут единственный местный, а может, думает, что отец – он. Гойко ничего не говорит, кивает, отворачивается, будто боится опьянить крошку своим дыханием, провонявшим водкой. С рождения Себины он не брал на руки человеческого создания размером с ладонь, да и было это в другом мире, в другой жизни, когда в клинике не было ни ржавчины, ни холода и пахло малиновым чаем.
Склоняется над ним, вдыхает носом, с закрытым ртом.
– Пахнет вкусно, – говорит.
Что я должна буду сказать Пьетро? Взгляни на этого боснийского бизона, нашего гида, прошедшего через войну: он неприятен тебе только потому, что не всегда терпит твои выкрутасы и использует запрещенные приемы, играя в футбол, – это он первый взял тебя на руки и первый сунул нос в твой запах.
Смотрю на Диего, но Диего смотрит совсем в другую сторону.
Так я должна буду ему сказать, твой отец даже не посмотрел на тебя, уставившись на овечку с опавшим животом, рыжую голову, обмякшую на подушке?
Он даже не замечал моего присутствия, моего смущения, столько в его взгляде было глубины. Они были здесь одни. Так мне показалось, это я хорошо помню. Погрузились в воспоминания.
Она тоже не смотрела на ребенка, она на него так ни разу и не посмотрела.
В этот момент я и в самом деле подумала, что стою около чужой кровати и держу свечку двум любовникам, клянущимся в вечной любви друг другу.
Все произошло на той каталке, ребенка кое-как помыли, одели. Согнув ноги в коленях, Аска вся сжалась, вероятно из-за перенесенной боли. Женщина в медицинском халате только что ушла, похлопав ее по ноге; Аска чуть приподнялась, под нее что-то поставили, стальной лоток для отделяющейся плаценты.
Женщина сказала, что вернется позже.
Гойко наконец передает мне ребенка: это словно падение метеорита.
Я тоже принюхиваюсь. Запах старой души, которая возрождается, возвращается, чтобы надеяться вместе с людьми.
Не знаю еще, мой ли это ребенок, станет ли он моим. Надо дождаться третьего класса, прежде чем он окрестит меня матерью. Но пока я держу его на руках. И чувствую, как превращаюсь в волка. В снайпера, вернувшегося взглядом на снежное поле полюбоваться дырой в затылке.
Позже убирают белую завесу, женщина в медицинском халате и носках волочит по полу экран театра теней. Остается только младенец, сморщенный, как старое яблоко, и засунутый в шерстяной комбинезончик, который похож на свалявшийся носок.
Я смотрю на него при неверном свете, а ссыпавшийся в ноги песок снова поднимается по телу, и все внутри возвращается на свои места. Вот я уже почувствовала сердце: язык пламени, сгусток боли между ребрами.
Об этом мне тоже надо будет рассказать Пьетро? О том, что он вернул мне сердце, которое умерло было, а потом забилось опять?
Женщина возвращается, давит на живот Аски, просовывает руки под одеяло. И овечка извергает из себя плаценту.
Пока женщина вытаскивает стальной контейнер из-под тела Аски, мельком вижу ее ногу, испачканную в крови, и влагалище, кровоточащую дыру, как у Гойко во рту. На меня это не производит никакого впечатления. У жизни те же цвета, что и у войны: снег и кровь. Маршруты, проложенные по грязи, похожи на кишки.
Женщина поравнялась со мной, и на какую-то долю секунды я увидела ту серую кожуру. Теперь овечка уже не нужна, как и внутренняя кожица, приютившая ребенка; сейчас ничего другого не остается, как только выбросить эту гадость.
Мне надо бы пожалеть ее, а я боюсь, что она передумает, начнет кричать, что не может, не согласна.
Она потеряла всю свою семью, наверняка захочет оставить ребенка себе.
Я не доверяю ей, поэтому за ней наблюдаю: как бы не разволновалась, не передумала. Ведь я уже вдохнула запах ребенка, запах кровинки Диего.
Помню слова Велиды, ее одержимый взгляд, который снится мне каждую ночь. «Не бери с меня пример, не мирись со смертью. Борись, Джемма, хватайся за жизнь».
Деньги… надо отдать ей деньги, марки мелкими купюрами, как она просила, точно премию, которую выдают снайперам за каждую пораженную цель. Тоже купит себе машину «БМВ» с откидным верхом и уедет на ней.
Я снова стала собой. Для меня война кончилась. Небесно-голубой ребенок похоронен. А сын Диего жив. Эта овечка, эта героиня второго плана должна исчезнуть, так же как недавно отпала ее плацента, грязная кишка.
Здесь нет законов, нет справедливости. Существует только дерзость.
Гойко орет, что дома сочинит стихотворение, он уже давно ничего не писал и теперь отпразднует рождение этого ребенка. Декламирует пьяным голосом:
У меня свиные копытца и мышиный хвост,
Жизнь тащит меня наверх, как летающего слона…
Прощайте, призраки, сегодня я не с вами…
– С кем же ты сегодня?
Делает еще глоток.
– С вами, друзья мои.
Но на самом деле мы все похожи на призраков: глядимся в металлический колодец и оплакиваем свою жизнь.
Я пошла в туалет, сняла рюкзак с живота, села на унитаз и отдала Гойко пачку в тысячу марок:
– Зачем они тебе?
Вместе с деньгами он забрал наши паспорта:
– Я быстро.
Вытряхнув все из рюкзака в пустую наволочку, я подошла к кровати Аски:
– Вот.
Усталым движением она подтянула наволочку, набитую марками, к себе и спрятала под одеялом.
Младенец лежал в металлической кроватке, далеко от матери. Акушерка подвернула ему тряпку под спину и так оставила. Он ни разу не пошевелился. Послышались взрывы, все ближе и ближе, потом отдельно начали бить катюши. Малыш привык к этим звукам, они его не тревожили. Аска тоже спала, забравшись с головой под одеяла. Проснулась пару раз за все время, и то чтобы попить.
Пришла другая женщина, моложе первой, показала нам, как обращаться с ребенком, как его пеленать. Вытащила из вязаного комбинезончика две худенькие маленькие ножки, толщиной с палец Диего, и показала, как подложить подгузник. У них, правда, не было никаких подгузников, так что она дала нам марлю и рулоны ваты. Ребенок до сих пор не проголодался. Ни разу не заплакал, пока его вертели, как сверток. Сейчас он снова лежит в кроватке с тряпкой под спиной.
Девушка спросила, будет ли мать его кормить, я отрицательно покачала головой. Привыкшая к обессиленным женщинам, она молча посмотрела на тело Аски в кровати. Попросила нас заплатить сто марок, извинилась, ей было неудобно брать с нас деньги, но что поделаешь, она не себе. Принесла уже открытую упаковку порошкового молока и использованную бутылочку. Стеклянную. Первая неразбитая вещь из стекла за долгое время. Я сунула все в рюкзак.
Теперь война становилась нашей помощницей. Никто не задавал нам вопросов, никто, казалось, не был заинтересован в том, чтобы задерживать новорожденного в больнице, так близко от линии огня. Нам, как иностранцам, легко было уехать из города, из которого никто из них не мог вырваться. Девушка спросила, как мы повезем ребенка.
– Мы полетим на самолете… ждем.
– Вы журналисты?
– Да.
Она дала нам письмо для своей сестры, находившейся в центре приема беженцев в Милане.
Опять начались взрывы, отчаянные выезды «скорой помощи», других отважных водителей, которые подбирали раненых. Давно уже день сменил ночь, но ребенок не просыпался.
Наконец-то Диего посмотрел на него.
Но об этом его взгляде я обязательно расскажу Пьетро, опустив остальное, расскажу о его глазах. Глазах собаки, смотрящей на другую собаку. Вот они, наши рождественские ясли, сумасшедший взгляд, дрожащие руки, бегающие мысли.
Гойко вернулся с мужчиной, который вызвался нам помочь; он притворяется героем, чудом выжившим, как те, кто продает истории журналистам из «Холидей-Инн». Вечером в Италию улетает гуманитарный самолет, этот тип побывал на командном посту ООН, и ему удалось внести нас в список. Отдает паспорта и свидетельство о рождении ребенка, этого достаточно, чтобы пройти контроль. Читаю слова на чужом языке и наши имена. Рядом со словом otac,отец, написан Диего, и рядом с majka,мать, – я.
Такое банальное, обыденное чудо кажется мне нереальным.
Обнимаю Гойко:
– Как тебе удалось?
Никто не заполнил справку о пребывании в больнице, потому что бланки закончились. Достаточно было наших паспортов и денег.
Гойко разрешает трясти себя как мешок.
– Сейчас много чего легко устроить…
Он ни за что бы не воспользовался ситуацией, он один из тех, кто на черном рынке дерется со спекулянтами – шакалами, кормящимися войной. Но для меня сделал исключение. И теперь, скорее всего, никогда не захочет больше меня видеть.
Аска сидит на кровати. Прижимает к себе наволочку, полную марок. Чувствует себя лучше, хотя следы анемии видны на ее пожелтевшем лице.
– Спасибо, – сказала я ей.
Она кивнула и, может быть, собралась наконец расплакаться, но времени было мало.
Мы уходим, овечка не вписана в документы и словно бы не участвовала во всей этой истории. У ребенка, ростом с ладонь, под жестким шерстяным комбинезоном кишка узлом завязана на животе, там, где он был соединен с телом овечки. Кишка высохнет и отпадет, останется только раковина древнего моря, сотворенная из плоти. Это дитя не будет жить в долине волков, никогда не станет кроликом, maleni ciljevi.
На этот раз службу несут украинские солдаты, они помогают нам подняться в белый броневик. Я поворачиваюсь к Гойко. Мы увидимся через пятнадцать лет, но я пока этого не знаю. Поворачиваюсь к мертвецу, как обычно, когда прощаешься с кем-нибудь в Сараеве.
– Cuvaj se,береги себя.
Это он договаривался с солдатами, убедил их, отдав последние деньги. Добраться до аэропорта на «попутке» ООН – услуга платная. Мы сидим внутри белой черепахи, она трогается с места. Страшный шум; ребенок, как кукла, трясется в такт с дребезжащей машиной, но не просыпается. Кто этот невесомый, безразличный младенец, который разрешает волочить себя, как ногу в слишком большом носке? Он для меня все: причина, по которой мы приехали в этот ад, тот самый гвоздь в нашей судьбе… но теперь я настолько вымоталась, что того и гляди могу его уронить. Броневик едет по обломкам, под ногами неровная почва, колеса буксуют, карабкаются. Украинский солдат смеется, он говорит по-английски, спрашивает о ребенке, рукой отодвигает одеяло, чтобы рассмотреть мордашку.
Нас останавливают на блокпосту, солдат высунулся из люка, говорит с человеком в камуфляжном костюме. Агрессоры-сербы и украинцы из ООН договариваются между собой и прощаются, подняв вверх три пальца.
Покинув броневик, мы входим в темную коробку аэропорта. Диего учит меня, что говорить, что делать… проходим на контроль. На меня смотрит худая женщина в маскировочном костюме, с мощными лошадиными скулами. Ее взгляд пугает меня, и я опускаю голову. Прибиваюсь к небольшой кучке гражданских, которые ждут, как и мы; на всех бронежилеты поверх пуховиков. Никто не чувствует себя здесь уверенно – последние врата осады, вероятно самые опасные. У всех военных такой вид, будто они нас ненавидят. Эти хищники прекрасно знают, что творится в душе у людей, находящихся в их власти… в воздухе повисло безмолвное напряжение, они чуют общий страх и, похоже, забавляются. Того и гляди с минуты на минуту начнут стрелять в нас. Мы настороженно двигаемся, не делаем резких движений. Боимся, не случилось бы чего-нибудь: сербы часто обстреливают аэропорт, несмотря на то что хозяева здесь они. В развороченной витрине отражаются маленькие дома Бутмира – плоские крыши на опорах перекрытий. Вдруг все завопили в голос. На фронте Добрыни идут бои. Морозно, я склоняюсь над ребенком. Малюсенький носик, величиной с мой ноготь, превратился в ледышку. Дышу на него. Обессиленный Диего машинально гладит меня по спине. Потом наклоняется взглянуть на малыша:
– Главное, ничего не бойся.
И я не понимаю, кому он это говорит – сыну, мне или самому себе.
Внезапно нас поднимают и торопят на выход. Исполин в голубой каске ведет нас к взлетной полосе. У двери с выбитыми стеклами, прежде чем пропустить нас, полицейский проверяет по списку имена. Операция не отнимает много времени, проходим мимо него с опущенными головами, как скот. Подаю свой паспорт с вложенным листочком из больницы. Полицейский даже не замечает, несу ли я что-нибудь, смотрит совсем в другую сторону, беспрестанно крутит головой, поворачиваясь к шлагбауму на полосе, как раз под контрольной вышкой, куда побежали несколько военных. Возможно, ждет сигнала. Я жду печати, красной, как клеймо на скотине. Сердце замирает. Полицейский едва поднимает подбородок, чтобы взглянуть на ребенка, завернутого в одеяльце. Сейчас пять часов, уже темно. Лицо полицейского шелушится от мороза, нос большой, красный… я не чувствую рук. Опять начинаю бояться, что не удержу ребенка, а полицейский на контроле протягивает руку к одеялу, отгибает край, за которым спрятано личико. На его лице появляется странное выражение – почти удивления, горького смятения. Убрав руку, пропускает меня. Делаю несколько шагов на морозе. Ветер порывами спускается с Игман, поднимается метель, уже забелившая взлетную полосу. Я оборачиваюсь, ощущая пустоту сзади. Давно знакомую мне пустоту – предчувствие, которое я долгие месяцы пыталась подавить. Диего не идет за мной. Я его потеряла. Оборачиваюсь, но знаю, что искать бесполезно. Потому что я потеряла его уже давно. И знаю, что недавно он с нами попрощался.
«Главное, ничего не бойся».
Может, я должна рассказать сыну об ощущении той пустоты жизни, идущей ко дну. Мы делали свои первые шаги в одиночестве, как сироты. Нетвердые шаги коровы, которая после отела, чтобы не умереть, должна как можно быстрее подняться на ноги.
Смотрю на едва освещенную дыру аэропорта, расплывающуюся за мной вдалеке, в грязном мраке кружащегося вихрем мелкого мокрого снега. Видны одни очертания, тени. Не понимаю, что происходит. Диего стоит около полицейского… ждет, пока пропускают других, двух журналистов, пробегающих затем мимо меня. Поднимает обе руки, машет, кричит. Мне надо бежать, уйти с полосы.
Я двигаюсь вперед, выворачивая шею, не в силах оторвать от него взгляд. На востоке стреляют, в небе загораются вспышки трассирующих пуль.
Лезу наверх, забираясь в железное брюхо самолета. Остановилась, схватившись за дверь люка; лицо окаменело от холода и ветра, режущего, как лезвием. Ребенка положила на скамейку, рядом с чьим-то армейским рюкзаком. Может, оставить его здесь. Куда он денется, долетит до Италии, кто-нибудь о нем позаботится… положу рядом свидетельство о рождении, в «Холидей-Инн» попрошу у кого-нибудь мобильный со спутниковой связью, позвоню папе. Да, я могла бы выйти, выброситься из самолета, который так и не выключил двигателей, вернуться к двери с разбитым стеклом, вернуться к телу моего любимого.
Об этом мне тоже надо будет рассказать Пьетро? О том, что я хотела бросить его, высунувшись из двери самолета, на ледяной ветер взлетной полосы.
– Почему задержали моего мужа?
– Он потерял паспорт.
Солдат – высокий молодой человек в шлеме – говорит с венецианским акцентом, извиняется, что ничем не может помочь: они доставили гуманитарный груз и теперь возвращаются, таков приказ, они и не знали, что должны будут взять пассажиров. Смотрю на Игман, гору, окаменевшую от мороза.
Мне повезло.
Вот как?
Очень повезло.
Много лет назад его везение упало с неба вместе со снегом, валившим хлопьями и задерживавшим авиарейсы. Хотелось дать ему пощечину за то, что он выиграл в конечном итоге. Эта пощечина застыла в моей окоченевшей ладони, вцепившейся в перила, а солдат твердит, что я должна зайти внутрь, пора отправляться.
У меня не хватило духу выпрыгнуть, оставить Пьетро, выбрать другую судьбу.
Ветер подтолкнул меня внутрь: взлетная полоса огромная, темная, не дай бог, случайная пуля. Вжимаюсь в стенку, хочу подняться в небо живой.
Правда в том, что я сделала выбор, и Диего это знает. Я бы никогда не уехала с пустыми руками. А теперь у меня есть этот сверток, который я должна отдать миру. Забираю с собой лучшую часть Диего, новую жизнь, не запятнанную никакой болью. И кажется, вижу его улыбку. Прижимаюсь к единственной щели, из которой видно, что происходит снаружи. Самолет разгоняется. В последний раз смотрю на парня из Генуи.
Худой черный далекий силуэт на фоне тускло освещенного пузыря аэропорта без стекол, без персонала, без рейсов… неподвижно стоит около полицейского. Его молодое изможденное лицо обращено в сторону «С-130», выруливающего в мокром колючем снегу. Он не сводит с нас глаз, с тех, кого теряет.
Он остался на земле, на той грязной земле. И я никогда не узнаю, действительно ли он уронил паспорт в снег.
Мне повезло.
Вот как?
Очень повезло.
Самолет сразу нацеливается в небо. Меня пристегнули ремнем, велят крепко держать ребенка. Из осажденного города взлетают только так, не делая никаких плавных кругов, сразу в небо, потому что реактивные ракеты еще могут задеть. Самолет круто взмывает вверх, двигатели изрыгают пламя, катятся мешки, резко откидываются головы. Я тоже поднимаюсь в небо, чувствую неистовый порыв, одолевающий силу земного тяготения. Взлет тяжелый в условиях войны, мне закладывает уши, барабанные перепонки горят огнем. Вдавленная в сиденье, я крепко прижимаю к себе сверток.
Затем наступает покой. Достигли девять тысяч метров высоты, теперь никакой самый совершенный реактивный снаряд не сможет сбить гуманитарный самолет, летящий над горой Игман. Теперь я могу поднять голову, хотя сведенная шея все еще побаливает. Мощность двигателей снижается, поэтому я слышу голос: сверток плачет. Значит, жив, не умер ни от холода, ни от страха. Я держу его в руках, как батон хлеба. Отодвигаю одеяло, красное личико, наполненное жизнью, периодически раскрывающийся в неистовом плаче беззубый рот. Кто ты, спрашиваю его, овечка или волк?
Младенец открывает рот с голыми деснами, как у старика или птицы.
Хорошо себя вел вплоть до самого взлета, пока еще был внизу, в недрах войны, не двигался, словно бы и не родился… будто предчувствовал, что один только крик может стоить ему жизни. И вот теперь наконец он может родиться, на высоте девяти тысяч метров, в небе, где снаряды нас не достанут. Поэтому он и заплакал, чтобы его услышали, обратили внимание.
Через шестнадцать лет, когда его друг спросит, как получилось, что он родился в Сараеве, Пьетро ответит: «Случайно – рожают же в самолетах».
И я застыну, не дыша. Обопрусь о шкаф, о стену. И заново услышу плач того, кто родился на «С-130», на высоте девяти тысяч метров.
Смотрю в щель, ничего не видно, кроме света белой луны в темноте. Как на засвеченных фотографиях. Помню, как Диего держал во рту мой мизинец, засыпал с ним, изредка посасывая, чтобы я всегда оставалась с ним. У меня грязные мерзкие руки. Облизываю мизинец, засовываю в синюшный ротик. Дитя хватает палец, точно голодная птица, недолго сосет, как делал его отец, и засыпает. И я впервые целую его. Прикладываю губы к маленькому лобику.
Ночью пересекаем бархатный ковер Адриатики и прибываем на место. Я вышла из самолета с ребенком, завернутым в одеяло, волосы слиплись, грязный рваный пуховик, полупустой рюкзак. Нашла туалет. Посмотрела на себя в зеркало. Огромное, на всю стену, нетронутое. Ужас! На меня глянула какая-то дикарка: костлявое лицо, расширенные, блуждающие глаза. Вся провоняла. Сараевской вонью, войной, страхом, жизнью на грани смерти. До сих пор я не замечала запаха, сейчас, в чистом туалете, я наконец почувствовала его. Не зная, как быть, в одну из двух раковин я положила ребенка. Оставив его в керамической колыбели, я помыла руки над соседней раковиной, медленно сняла куртку, подняла свитер. Вымыла лицо, заметив свежую царапину на скуле и черное пятно на лбу. И еще кое-что: тусклый налет, как на посуде, с которой сошла эмаль, и теперь с нее не смываются отметины времени и грязи.
Дверь открылась, вошел мужчина, посмотрел на меня в этом неоновом свете: я стояла в лифчике, кости грудной клетки просвечивали из-под кожи. Мужчина в темной форме улыбнулся:
– Вообще-то, это туалет для мальчиков…
Я прижала к себе спереди свитер, чтобы прикрыться. Он вошел в кабинку, я слышала, как он пописал, потом вышел. Я не пошевелилась, даже свитер не надела.
Мужчина подошел к другой раковине. Высокого роста, чеканный шаг, мощные плечи. Одет в мундир с широким кожаным ремнем на талии. Поднимает глаза, встречается в зеркале с моими. Мужчина как мужчина, зашел пописать, и теперь ему надо помыть руки, но откуда мне знать. Волки тоже мочатся и моют руки. Я боюсь мужчин в военной форме, мне не хватает моего паренька, такого же худого, как я, с такими же отросшими и нечесаными волосами и с такой же, как у меня, историей во взгляде.
Мужчина смотрит на мое отражение в зеркале туалета:
– Чей это ребенок?
Сейчас жизнь Джулиано вся сосредоточилась здесь, в этом туалете, куда он случайно зашел. Мгновением раньше он думал справить нужду на автостраде, торопился уехать после целого дня гуманитарных посылок, беженцев, которых надо было отправить по разным приемным центрам. Он раздавал горячую еду, сухие пайки детям, брал на руки самых маленьких, заполнял бюрократические бумаги, ставил печати. Смотрит на новорожденного, лежащего в раковине, смотрит на женщину, прикрывающуюся тряпкой; на ее голубоватого оттенка лопатки падает яркий неоновый свет. А вдруг это беженка, по какой-то причине не севшая в автобус, спряталась в туалете вместе с сыном? У нее взгляд дикой серны, остановившейся у края обрыва.
– Чей это ребенок?
Сейчас он видит, что женщина плачет, даже не сходя с места, не моргая. Огромные слезы падают, словно жемчужины. В глубине души он хотел бы собрать эти слезы, как рассыпавшийся жемчуг разорванного ожерелья, и вернуть ей. Ему знаком взгляд беженцев – людей, которые ищут в его глазах подтверждение собственного существования, как будто это он решает, жить ли им дальше. Такие взгляды трудно выдержать.
Мужчина смотрит на меня. У него широкое, плотное итальянское лицо, лоб с залысинами.
– Чей это ребенок?
И Джулиано еще не знает, что этот ребенок станет его сыном, что он поведет его в школу, к педиатру. Не знает, что будет жить для него. Долгое мгновение тихой растерянности в туалете, где столкнула нас судьба.
Грязный младенец, комочек едва оформившейся плоти, забытый в раковине. Все небо в маленькой яме.
– Мой!
И я торопливо хватаю сверток:
– Извините…
Нагибаю голову, защищаюсь.
Мужчина улыбается, у него красивые зубы, они расплываются перед моими глазами, взгляд мне туманят липкие застарелые слезы, сорвавшиеся неожиданно, как глыбы льда со скалы.
– Так вы итальянка?
– Да, итальянка.
Быстро выхожу из туалета, брожу по темному ангару, не зная, куда идти. Мне нужно на вокзал, на поезд до Рима. Или искать гостиницу, звонить папе… нужно поменять ребенку подгузник, он воняет… я тоже воняю. Он голодный, черт побери, он же голодный, он же умрет у меня так, черт, где война? Где мешки с землей? Где лед? Где Требевич? Где прячутся снайперы? Жизнь в условиях мира мне не подвластна, вот в чем дело. Я не знаю, как поступить. Здесь заметят, что ребенок не мой, здесь нет войны, нет взорванных больниц, где я в безопасности… здесь все по закону мирного времени. Я должна уходить, иначе меня остановят. Сделают тест ребенку и поймут, что он не мой, что свидетельство о рождении фальшивое, купленное. Мне не удастся далеко уйти, пройду несколько шагов в темноте, сяду у стены под открытым небом, там и умру, и ребенок со мной, как собака… как мертвый щенок. Где мой парень с длинными волосами? Где мой любимый сирота? Где отец? Только он может меня спасти, у младенца его гены. Он служил нам пропуском, но он не приехал. Потерял паспорт в снегу. Солгал. Я замерзаю, у меня спина голая. Пуховик упал, я его просто накинула на плечи, чтобы как можно быстрее выйти из туалета, отойти подальше от мужчины в форме, который следит за мной… понял, здесь что-то не так. Никакая мать не оставит ребенка в раковине, только чтобы умыться над соседней… чтобы смотреть на себя в зеркало и плакать.
Сажусь на скамейку. Кладу ребенка рядом, спокойно надеваю сначала свитер, потом куртку.
Подходит молодой человек, лет двадцати или чуть больше, похож на Сандро, моего лицейского друга. Такие же мясистые и слишком красные губы, такие же круглые, как орехи, глаза. Кто это? Чего он хочет? С какой стати Сандро вышел из-за парты, где он написал: «УРА, СИСЬКИ! УРА, ЧЕ ГЕВАРА!» – и теперь направляется ко мне?
– Извините, синьора, куда вы едете?
Чуть наклонился ко мне, стоит, смотрит. Это не Сандро, унего южный акцент и форма рядового карабинера.
– Не знаю…
Молодой человек показывает на дверь, там виднеется силуэт… мужчина из туалета застыл на пороге.
– Капитан велел спросить, не нужно ли вас подвезти куда-нибудь?
– В тюрьму?
Парень смеется, показывая зубы, слишком мелкие для такого крупного рта: ему понравилась шутка.
– Я везу капитана в Рим, в Челио.
Едем вместе в мощном черном автомобиле с надписью «КАРАБИНЕРЫ» и красными полосками, означающими принадлежность к вооруженным силам, по бокам. В салоне царит ни с чем не сравнимое спокойствие, сиденья приятно пахнут новой кожей. Этот черный душистый лимузин подобрал меня и везет домой по аккуратно заасфальтированной дороге, без ям, без заграждений, гладкой, как атласная лента. И на минутку я кажусь себе сбитой косулей, которую добросердечный автомобилист везет в ветеринарную клинику. За рулем – лже-Сандро в берете. Капитан сидит рядом с ним, без фуражки, читает газету, включив подсветку салона.
Прежде чем я села в машину, он сказал:
– Вашему сыну нужно специальное кресло для новорожденных, есть такие, как яйцо, без кресла нельзя ехать…
На моем лице появилась кривая, глупая улыбка.
– Вы правы, – ответила. Сделала паузу. – И что теперь?
Тогда он сказал:
– Что с вами поделаешь, садитесь.
Внутри меня клокотал дикий безумный смех – горькое веселье, окрашенное черным юмором, как анекдоты сараевцев. Этот ребенок, точно доисторический краб, благополучно выбрался из войны, а оказавшись на этих гладких, как масло, дорогах, уже нуждается в детском кресле в форме яйца, чтобы выжить! Какая же все-таки идиотская жизнь в мирное время.
Капитану не понравилась моя улыбка… он что-то почувствовал, отголосок моего злого смеха. Включив свет, положил фуражку с золотой кокардой на панель приборов и принялся читать. Возможно, пожалел о своем великодушии. Наверняка сейчас, в закрытом пространстве, почувствовал, что от меня несет, как от цыганок, которых он иногда задерживает, а они орут в машине и осыпают всех проклятиями.
Смотрю, как выглядит свобода. Промышленные здания окраин, дома с идеально ровными крышами, дорожные знаки, не продырявленные пулеметными очередями.
Потом ребенок на мне задвигался, зашевелился, как краб. Сколько у него клешней? Сколько нервов?
Пробую снова засунуть ему мизинец в рот, но на этот раз не срабатывает. Капитан оборачивается:
– Он, наверное, голодный.
Останавливаемся в кафе на трассе, автомобиль въезжает под навес парковки. Лже-Сандро остается в машине, капитан выходит со мной, мы в темноте направляемся к месту отдыха. Я ныряю в туалет. Там есть приспособление для пеленания младенцев – белая пластиковая панель, прикрепленная к стене. Кладу сверток, ищу в рюкзаке куски ваты и марлю, которые мне дали в больнице, разворачиваю одеяло, нащупываю пуговицы вязаного комбинезончика, жесткого, как картон. Беру ребенка за ножки. Такие малюсенькие – в жизни не видела ничего подобного. Приоткрываю подгузник: вата вся мокрая, какашки желтые, будто он напился настоя шафрана, хотя запах нормальный. В первый раз я вижу тело ребенка так близко, держа в собственных руках. Надутый животик, как у курицы. Плачет, крепко прижав ножки к телу, как лапы. Тяжело дышу. Не смогу сменить подгузник, заверну обратно, в одеяльце, и все. Марля, прикрывавшая пупок, упала, и кусок черной кишки открыто болтается. Я наклоняюсь понюхать, не воняет ли от него, но пахнет все еще спиртом. Нечего раздумывать, за дело. Открываю кран, мочу кусок ваты, обтираю между ножками. Заворачиваю оставшуюся вату в марлю, отрывая ее зубами. Ребенок не прекращает кричать, нужно развести молоко, покормить. Наклоняюсь за упавшим на пол комбинезончиком. И слышу сухой треск, на спине надет рюкзак, а я слишком резко нагнулась. Открываю – так и думала: стекляшка из Сараева, стекляшка без будущего!