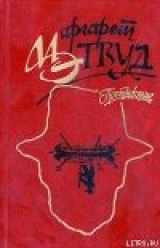
Текст книги "Постижение"
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Фу-у, – Анна сморщила нос. – Запах как на рыбном базаре.
Дэвид сказал:
– Жаль, пива нет. Можно бы, наверно, достать у тех янки, у таких должно быть.
Я взяла мыло и спустилась к воде смыть с рук рыбью кровь. Анна пришла вслед за мной.
– Господи, Боже мой, – простонала она. – Что мне делать? Я оставила всю мою косметику, он меня убьет.
Я пригляделась; в сумерках ее лицо казалось серым.
– Может, он не заметит, – сказала я.
– Заметит, не беспокойся. Если не сегодня, сегодня еще не все стерлось, то завтра утром. Он требует, чтобы я всегда выглядела как молоденькая цыпочка, а чуть что не так, страшно злится.
– А ты не умывайся, и будешь чумазая, – предложила я.
Она не ответила. Она села на камень и уткнулась лбом себе в колени.
– Он мне этого не спустит, – обреченно проговорила она. – У него есть свой кодекс правил. Если я нарушу какое-нибудь, он меня наказывает, но только эти правила все время меняются, я никогда не знаю наверняка. Он псих, у него не все дома, понимаешь?
Ему нравится доводить меня до слез, сам-то он не способен плакать.
– Не может быть, чтобы он это всерьез, – сказала я. – Ну вот это, насчет косметики.
У нее из горла вырвался не то кашель, не то смешок.
– Тут дело не только в косметике, это его оружие. Он постоянно следит за мной, ищет предлога. А найдет – и тогда ночью либо совсем от меня отворачивается, либо еще что-нибудь придумает, казнит меня. Ужас, что я говорю, да? – В полутьме она направила на меня яичные белки своих глаз. – Но если заговорить с ним об этом, он только отшутится, он говорит, у меня склонность к мелодраме, я будто бы асе это выдумываю. Но между прочим, все чистая правда.
Она обращалась ко мне за советом, а сама мне не доверяла, боялась, как бы я не заговорила об этом с ним у нее за спиной.
– Может быть, тебе лучше от него уйти? – предложила я ей свое решение. – Развестись.
– Иногда мне кажется, что он этого и добивается, я уж и не знаю сама. Сначала все было вроде здорово, но потом я стала его любить по-настоящему, а он этого не выносит, он терпеть не может, чтобы его любили. Смешно, да?
У нее на плечи была наброшена мамина кожаная куртка, она взяла ее, потому что не захватила с собой теплого свитера. С Анниной головой куртка выглядела нелепо, униженно. Я попыталась вспомнить мать, но вместо нее было пустое место, единственное, что сохранилось, – это случай, который она сама нам рассказывала, как девочками они с сестренкой соорудили себе крылья из старого зонта и прыгали с крыши сарая, хотели полететь, и она сломала себе обе лодыжки. Она говорила об этом со смехом, но мне ее рассказ показался теперь холодным и грустным; невыносимая боль поражения.
– А иногда мне кажется, он хочет, чтобы я умерла, – говорила Анна. – Мне даже такие сны снятся.
Мы вернулись на стоянку, я развела большой костер и сварила еще какао на порошковом молоке. Кругом уже было совсем темно, светилось только пламя и вьющиеся над ним столбом искры; почерневшие угли внизу оживали и начинали рдеть при каждом дыхании ветра с воды. Мы сидели на парусиновых подстилках, Дэвид – обняв за плечи Анну, мы с Джо – врозь и отворотясь друг от друга.
– Похоже на скаутские лагеря, – сказала Анна звонко и жизнерадостно, раньше-то я думала, у нее от природы такой голос, Она запела, неуверенно, не дотягивая верха:
И синие птицы заплещут крылами
Над белыми Дуврскими берегами
В то утро, когдасвобода придет…
Слова летели к темным верхушкам деревьев и таяли, как струйки дыма. А за озером раздавались возгласы неясыти, частые и слабые, как взмахи крыла над самым ухом, они ложились поперек ее пения, зачеркивая его. Она почувствовала это, оглянулась через плечо.
– Подпеваем хором! – распорядилась она и захлопала в ладоши.
Дэвид сказал:
– Ну ладно, спокойной ночи, дети.
И они с Анной ушли в свою палатку. Парусина на минуту засветилась изнутри, это зажгли фонарик, и тут же погасла.
– Идешь? – позвал Джо.
– Сейчас приду.
Я хотела, чтобы он успел заснуть.
Я сидела в темноте, обласканная голосами с ночного озера. В отдалении рдел костер американцев, красный циклопий глаз – вражеские позиции. Я желала им зла, пошли им Бог страдание, молилась я, переверни их каноэ, испепели их, распори им животы, А неясыть то отвечала, то умолкала.
Я тихонько пролезла внутрь под москитную сетку, Нащупала фонарик, но не зажгла: не хотела, чтобы Джо проснулся. Разделась вслепую, он смутно темнел рядом, неподвижный, уютный и надежный, как бревно. Вот когда только и становилось мыслимо между Нами хоть какое-то подобие любви – когда он спал и ничего не требовал. Я легонько провела ладонью по егоплечу, как гладят дерево или камень.
Но он, оказалось, не спал; он протянул ко мне руку.
– Прости, – сказал он. – Сдаюсь, твоя взяла. Давай забудем все, что я говорил, и пусть будет по-твоему, как у нас было раньше, идет?
Но было уже поздно, я не могла.
– Нет, – ответила я. Я уже отселилась от него. Его пальцы злобно сдавили мне локоть – и разжались.
– Н-ну! – сквозь зубы выдохнул он.
В темноте можно было смутно различить, что он приподнялся, и я сразу пригнула голову, потому что сейчас он меня ударит, но он только повернулся ко мне спиной и упрятал голову в спальный мешок.
Сердце у меня в груди прыгало, Я лежала, замерев, и разбирала ночные звуки за парусиновой стеной. Писк, шорох в палой листве, кто-то фыркнул – ночные животные, ничего опасного.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Крыша палатки просвечивала, как мокрый пергамент, вся в крапинах ранней росы. Над самым ухом дрожали извивы птичьих голосов, замысловатые, точно восьмерки танцоров на льду или струи льющейся воды; воздух распирали влажные биения.
Среди ночи вдруг раздался рев – Джо опять привиделся кошмар. Я тронула его, это было неопасно, он лежал спеленатый в смирительную рубашку спальника. Не проснувшись толком, он сел.
– Не та комната, – произнес он со сна.
– Ты что? – спросила я его. – Что тебе приснилось?
Я хотела знать, может быть, я бы тоже вспомнила. Но он сник, завалился на бок и нырнул обратно.
Моя рука осталась у меня под носом, она пахла продымленной кожей, костром, а еще землей и потом и, как я ни мылась, рыбой – запахи прошлого. Когда вернемся в родительскую хижину, мы замочим в мыле одежду, в которой здесь были, отстираем ее от леса, нанесем на себя свежий слой лосьонов и шампуней.
Я оделась, спустилась к берегу и погрузила лицо в воду. В этом озере она была не такая прозрачная, как в большом, коричневатая, кишевшая разными формами жизни, скученными на более тесном пространстве; и еще она была холоднее. Каменная площадка круто обрывалась и уходила вниз, в глубину. Я разбудила всех.
Почистив рыбу, я обваляла ее в муке, поджарила и вскипятила кофе. Рыбье мясо было белое с голубыми прожилками и на вкус отдавало придонной водой и камышом. Они ели и почти не разговаривали – не выспались.
Лицо Анны, лишенное кроющего слоя смазки и пятен румянца, при дневном свете выглядело сухим и как бы пожухлым, нос обгорел, под нижними веками лиловели толстые складки. Она все время отворачивалась от Дэвида, но он как будто бы ничего не замечал и не сказал ни слова, только раз, когда она задела ногой его кружку и плеснула на землю кофе, коротко проговорил:
– Смотри, Анна, ты распускаешься.
– Будете еще рыбачить сегодня? – спросила я у Дэвида, но он покачал головой.
– Поехали лучше снимать наскальную живопись.
Я сожгла рыбьи кости, хребты, хрупкие, как лепестки цветов, а требуху закопала в землю. Рыбьи внутренности – не семена, из них не прорастут мальки. Мы однажды нашли у себя на острове скелет оленя, даже с остатками мяса на костях, он тогда сказал, что это волки зимой его задрали, потому что он был старый; и это выходило естественно. Если бы мы ныряли и ловили их зубами, если бы мы сражались с ними их же оружием на их собственном поле, это было бы честно, но у нас были крючки вместо зубов, и воздух не их стихия.
Они вдвоем возились с кинокамерой, крутили и совещались, перед тем как отправиться в путь.
На карте было указано, что наскальные изображения находятся на берегу заливчика, там поблизости был теперь разбит лагерь американцев. Они, как видно, еще не встали, дым от костра не шел. Может быть, мое заклинание подействовало, подумала я, и они умерли?
Я высматривала разрыв в береговой линии, вход в заливчик, обозначенный на карте. Вот оно, место, помеченное крестиком, можно было не сомневаться: прямо из воды отвесно поднималась ровная каменная стена, Самое подходящее место для их художеств, других ровных скальных поверхностей по соседству не видно. Он побывал в этом заливчике, а задолго до него здесь были первые пришельцы, исконные обитатели, и оставили после себя след, оставили слово, но смысл его не сохранился. Я перегнулась через борт, пристально разглядывая каменную стену, мы перестали грести, и лодки подогнало к ней бортом вплотную.
– Ну, где же они? – спросил Дэвид и приказал Джо: – Надо уравновесить лодку и вести съемку с воды, с земли тут не подобраться.
– Сразу не углядишь, – сказала я. – Могли потускнеть. Где-то здесь должны быть.
Но их не было; не было мужчины с оленьими рогами и никаких следов красной краски, ни единого пятнышка; каменная поверхность простиралась во все стороны, шершавая у меня под ладонями, в мелких лунных кратерах, и только бело-розовая полоса кварца перечеркивала ее наискось – мета медленного наклона земных слоев. Но ничего рукотворного, человеческого.
Либо я неверно запомнила карту, либо он не там поставил знак. Я рассуждала, я нашла зацепку и распутала весь клубок, как он нас учил, но разгадки не оказалось. У меня было такое чувство, будто он меня обманул.
– Да кто тебе про них говорил? – начал Дэвид строгий допрос.
– Просто я думала, они здесь есть, – ответила я. – Так, слышала от кого-то. Может, на другом озере.
На минуту у меня мелькнуло в голове: ну конечно, ведь уровень воды в озере поднят, и рисунки теперь футов на двадцать под водой! Но воду поднимали в большом озере, а это с ним не связано, между ними водораздел. На карте значилось, что на большом озере он их тоже нашел, судя по письму, он их там даже фотографировал. Но в хижине никакого фотоаппарата не оказалось. И рисунков нет, и аппарата нет, выходит, я где-то допустила ошибку, придется разгадывать заново.
Они были разочарованы, они ожидали увидеть что-то эффектное, что-то причудливое, как раз для их фильма. Но он нарушил правила, он сжульничал, мне хотелось обвинить его в глаза, потребовать объяснения: ты же утверждал, что рисунки тут?
Мы повернули назад. Американцы уже проснулись, они не умерли, они как раз отчаливали в своей серебристой лодке, за борт свешивалось дорогое удилище. Мы с Джо шли первыми, прямо им наперерез.
– Привет, – сказал мне передний, блеснув белоснежной улыбкой. – Как успехи?
Это и было их оружие – толстокожесть, непрошибаемые пустые головы, как метеорологические шары-зонды. С такой защитой ничего не страшно. Голая сила. И еще на шнуре подвесили. Я представила себе, как побежал ток по нервным клеткам, когда они нанесли удар и она упала, хлопая крыльями, точно подбитый аэроплан. Оттого, что существуют вот такие, как они, должны гибнуть невинные, думала я, для этих бесшабашных убийц не существует запретов, у них нет ни совести, ни религии, они считают, что достойны жить только те, кто из рода человеческого, только им подобные, так же, как они, одетые и оснащенные.
В других странах, где животное – это душа предка или дитя божества, там, наверно, иначе, там они хоть ощутили бы свою вину.
– Мы не рыбачим, – сквозь зубы ответила я. Мою руку так и тянуло размахнуться и ребром весла садануть его по голове – глаза сразу выстрелят из орбит, череп треснет, как яичная скорлупа.
Углы его рта в тот же миг опустились.
– А-а, – протянул он. – А скажите, вы из какого штата? Мы с Фредом по говору никак не можем определить. Мы думаем, может быть, Огайо?
– Мы не из Штатов, – отрезала я, досадуя, что они приняли нас за своих.
– Ей-богу? – Он весь засветился: встретил живую аборигенку. – Ты здешняя?
– Мы все здешние, – ответила я.
– И мы тоже, – неожиданно сказал задний. Передний протянул правую руку, хотя нас разделяло футов пять по воде.
– Я из Сарнии, а это Фред, мой деверь, он из Торонто. А мы-то думали, вы янки, длинноволосые и все такое.
Я страшно разозлилась: зачем же они нас морочили?
– Что же у вас тогда вон флаг на борту? – спросила я громким голосом, они даже вздрогнули. Передний опустил руку.
– А-а, это? – сказал он и пожал плечами. – Я в бейсбол за «Метрополитэн» болею, уже много лет, я всегда поддерживаю слабейшего. Купил эту штуку, когда ездил на матч, в тот год они еще выиграли вымпел.
Я пригляделась: это действительно был никакой не флаг, а просто сине-белый прямоугольник и на нем красными буквами надпись: «Мы – за Meт.»,
Подплыли Дэвид с Анной.
– Вы болеете за «Метрополитэн»? – обрадовался Дэвид. – А ну подвиньтесь-ка.
Он подгреб к ним борт о борт, и они пожали друг другу руки.
Но ведь цаплю-то они все-таки убили. Неважно, из какой они страны, думала я, все равно они американцы, они то, что нас ждет в будущем, во что мы можем превратиться. Они распространяются, как вирус, проникают в мозг, овладевают серыми клетками, и клетки перерождаются изнутри, а сами зараженные уже не чувствуют разницы. Как в последних научно-фантастических кинофильмах: существа из иных миров захватывают тело человека, внедряются в него, пользуются его мозгом, поблескивая из-под темных очков белыми скорлупками незрячих глаз. Если вы выглядите, как они, и говорите, как они, и мысли у вас такие же, как у них, значит, вы и есть они, твердила я про себя, вы изъясняетесь на их языке, все ваши поступки и действия исполнены разумного смысла.
Но как они возникли, откуда появился первый, не вторглись же они, в самом деле, с чужой планеты, они земного происхождения, Как мы стали плохими? Для нас в детстве источником всего дурного был Гитлер, он был воплощением зла, многорукого, древнего и неистребимого, как сам дьявол. И не важно, что от него осталась лишь горстка пепла и зубов к тому времени, когда я впервые о нем услыхала. Я знала, что он жив, он был в книжках, которые брат приносил в городе домой, и в альбоме у брата он тоже затаился, черные свастики на танках – это и был он, если бы удалось его уничтожить, все были бы спасены. Когда отец жег сорную траву в костре, мы с братом подбрасывали палки в огонь и пели: «Костер гудит, Гитлеров дом горит, милая, хорошая моя!» Это было верное средство, мы знали точно. Он служил меркой всех мыслимых ужасов. Однако Гитлера больше не было, но зло осталось, и теперь, когда я отгребала от них, а они скалили зубы и махали нам на прощание, я спрашивала себя: может, американцы хуже Гитлера? Это как рвать земляного червя, из каждого куска вырастает новый.
Мы пристали к нашему лагерю, скатали спальные мешки, отвязали и сложили палатки. Я засыпала отхожую яму и разровняла бугорок, набросала веток, иголок. Не оставляй после себя следов.
Дэвид хотел еще остаться, пообедать вместе с американцами и поговорить о бейсболе, но я сказала, что ветер встречный и нам не хватит времени. Я торопила их, мне хотелось поскорее убраться оттуда, подальше от моей собственной злобы и от приветливых непробиваемых убийц.
До первого волока мы добрались к одиннадцати. Ноги мои сами ступали по камням и по грязи, след во вчерашний след, а в мозгу расплетались и сплетались заново нити, следы петляли и расходились. Мы не одного только Гитлера убивали с братом, но и других – в ту пору он еще не пошел в школу и не узнал там про Гитлера. Тогда мы начали играть в войну, а до этого играли в зверей – что будто бы мы звери, а наши родители – люди, враги, они могут убить нас или поймать, и мы от них прятались. Но иногда на нашей стороне была сила: один раз мы были пчелиным роем, мы отъели пальцы, нос и ступни у нашей самой нелюбимой куклы, вспороли ее тряпичное туловище, оно было набито чем-то мягким и серым, чем набивают тюфяки, и под конец выбросили ее в озеро. Она не затонула, взрослые ее нашли и спрашивали у нас, как она попала в воду, но мы солгали, что не знаем, как-то потерялась. Убивать дурно, нам это внушали, убивать можно только врагов и то, что идет в пищу. Правда, кукла, конечно, не страдала, она была неживая; но ведь в представлении детей все – живое.
Мертвая цапля была все там же, на берегу промежуточного озера, она по-прежнему висела на жарком солнце вниз головой, точно в витрине мясника, оскверненная, неотомщенная. Запах еще усилился. Вокруг ее головы вились мухи, откладывали яйца. В сказке король, который научился разговаривать с животными, съел волшебный листик, и они открыли ему, где спрятаны сокровища, и рассказали про заговор, спасли ему жизнь, – интересно, что бы они сказали на самом деле? Обвинения, жалобы, крики гнева; но от их имени некому выступить.
Я ощутила, содрогнувшись, лежащую на мне вину соучастия, липкую, как клей, как кровь на руках, словно я тоже была там и не сказала «нет!», не сделала ничего, чтобы воспрепятствовать этому, – еще одно безмолвное осторожное лицо в толпе. Как некоторые мучатся, что они – немцы, пришло мне в голову, так мне стыдно быть человеком. В каком-то смысле было глупо терзаться из-за одной убитой птицы больше, чем из-за всего другого: из-за войн, кровопролитий и массовых убийств, о которых пишут газеты. Но войнам и кровопролитиям всегда имелись объяснения, создавались книги, толкующие о том, как и почему они произошли, – а смерть цапли беспричинна, смерть в чистом виде.
У него была лаборатория, это когда он уже стал постарше. Птиц он никогда не ловил, они слишком быстро двигались, он ловил тех, кто помедленнее, И держал в банках и жестянках, на доске, подвешенной в глубине леса, у самого болота; он проложил туда тайную тропу, пометил еле видными зарубками на стволах, зашифровал. Иногда он забывал их кормить или ленился идти вечером по холоду, не знаю; когда я в тот день пробралась туда, одна змея уже подохла и несколько лягушек тоже, кожа у них пересохла, а желтые животы вздулись, и рак плавал в помутневшей воде всеми ногами кверху, как у паука. Я вылила содержимое этих банок в болото. Остальных, которые были еще живы, отпустила. Перемыла склянки и жестянки и снова аккуратно расставила в ряд на доске.
После обеда я спряталась, но к ужину пришлось выйти. Он не мог ничего сказать при родителях, но он знал, что это я, больше некому. От злости он прямо побелел, глаза прищурил, будто ему было плохо меня видно, «Они были мои», – сказал он мне. Потом он наловил новых, сменил место и мне не показал, Я все равно потом нашла, но опять их выпустить побоялась. И из-за моей боязни они погибли.
Я не хотела, чтобы существовали войны и смерти. Я хотела, чтобы их не было, и рисовала только кроликов возле разноцветных домишек в виде пасхального яйца, а над плоской землей, честь по чести, кружочки солнца и луны, вечное лето: я всем желала счастья. Но его рисунки оказались правдивее – взрывы, разорванные тела солдат; он был реалист, это его и спасло. Один раз он чуть не утонул, но больше он этого не допустит, ко времени своего отъезда он уже вполне созрел.
И пиявки тоже оказались на прежнем месте – в толще теплой озерной воды, молодые, похожие на пальцы, свисали со стеблей водяных лилий, более крупные плавали у поверхности, плоские и мягкие, как лапша. Мне они не нравились, но неприязнь ничего не извиняет. Они не мешали нам купаться в большом озере, но мы все равно вылавливали пятнистых, «плохих», как он их называл, и швыряли в костер, когда не видела мама: она запрещала жестокости. А меня это не особенно смущало, если бы только они там подыхали сразу, но они выползали из огня и, беспомощно извиваясь, облепленные пеплом и иглами, мучительно волоклись в сторону берега, будто чуяли, где вода, Тогда он их подбирал двумя палочками и снова бросал в огонь.
Нет, нечего винить город, инквизиторов школьного двора, мы были не лучше, просто у нас были другие жертвы. Станем как дети – как варвары, вандалы; это все в нас, прирожденные свойства. В голове у меня что-то замкнулось, пробежало от руки по синапсам, отрезало путь к отступлению; нет, не то, не тот поворот, искупление не здесь, я что-то проглядела.
Мы дошли до большого озера, загрузили лодки и спихнули их на воду, протащив через завал из бревен. На берегу залива поваленные деревья и нумерованные столбики показывали, где прошли изыскатели, присланные компанией: она планирует здесь возведение электростанции. Моя страна, проданная или затопленная, – резервуар; вместе с землей продаются и люди, и звери тоже – бесплатное приложение. Дешевая распродажа, так это называется, и начало потопа зависит от того, кто победит на выборах, и не здесь, а в другом месте.







