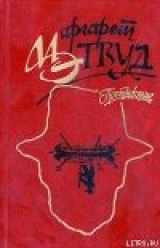
Текст книги "Постижение"
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Ты виляешь, – все так же не глядя на меня, сказал он, – А я добиваюсь, чтобы ты мне ответила прямо.
– На какой вопрос? – спросила я.
Возле мостков бегали по воде водомерки, поверхностное натяжение не давало им провалиться в воду, на песчаное дно падали крохотные тени от вмятинок под их ножками. Его ранимость обескураживала меня, он еще способен чувствовать, с ним надо быть бережнее.
– Любишь ты меня или нет, вот какой, – ответил он. – Остальное не имеет значения.
Опять этот язык; я не могла на нем изъясняться, потому что это был не мой язык. Он, по-видимому, знал, что имел в виду, но слово было неточное; у эскимосов пятьдесят два названия для снега, потому что для них он важен, столько же должно быть и для любви.
– Я бы хотела, – ответила я. – И в каком-то смысле – да.
Я торопливо рылась у себя в душе, ища хотя бы подобия эмоций, соответствующих этим словам. Я и вправду хотела бы, но это было все равно как если кто хочет, чтобы был Бог, а верить не может.
– А, черт! – Он выдернул у меня руку. – Неужели нельзя просто ответить, да или нет? Без виляний!
– Я стараюсь говорить правду, – сказала я. Голос был не мой, это говорил кто-то, подражая мне и одетый как я.
– А правда та, – с горечью произнес он, – что ты считаешь мою работу ерундой и меня самого – неудачником, на которого не стоит тратить чувства.
Лицо у него сморщилось, это было страдание. Я позавидовала ему.
– Нет, – сказала я. Но у меня получилось не так, да ему все равно этого было мало.
– Пошли в дом, – позвала я. Там Анна, она поможет. – Я чай заварю.
Я встала, но он за мной не пошел.
Пока растапливалась плита, я сняла с полки в их комнате кожаный альбом и раскрыла его на столе, а рядом Анна читала книгу. Теперь меня занимала не его смерть, а моя; может быть, глядя на свои прежние лица, я сумею определить, когда это со мной произошло, вот по сей год, по сей день – живая, а потом ледяная, оцепенелая. Была одна герцогиня при французском дворе до революции, она перестала смеяться и плакать, чтобы кожа у нее на лице не портилась, не покрывалась морщинами, и это оказалось действенным средством, она скончалась бессмертной.
Сначала бабушки и дедушки, дальние предки, незнакомцы, смотрящие прямо, словно под дулом пистолета; фотоаппарат тогда был внове, может быть, они боялись, что у них отнимают душу, так считали индейцы. Под портретами подписи белым, аккуратный почерк мамы. Вот мама до замужества, тоже незнакомка, короткие волосы, вязаная шапочка. Свадебные фотографии, улыбки, затянуты в рюмочку. Брат, снятый, когда меня еще не было, потом появляются и мои изображения, Поль везет нас через озеро в санях, запряженных лошадьми, пока еще не сошел лед. Мама в своей кожаной куртке, волосы странно длинные, по моде сороковых годов, она стоит возле птичьей кормушки, вытянув руку; сойки и тогда здесь были, она их приручала, одна сидит у нее на плече, косится на нее умными глазами-кнопками, другая как раз опускается ей на запястье, крылья на взмахе размазаны. А вокруг в соснах сквозит солнце, и глаза мамы устремлены прямо в объектив, испуганные, таящиеся в тени глазниц, похоже на череп, неудачное освещение.
Прослеживаю, как я становилась все больше и больше. Снова мать и отец, они строят дом – должно быть, снимали друг друга, – ставят стены, потом крышу, сажают огород. Каждый снимок окружен белой рамкой, уголки закреплены в петельках, словно это черно-белые оконца в мир, который для меня уже больше не доступен. Я была почти на каждой фотографии, там, за бумажным окошком, я или та часть меня, которой теперь недостает.
Школьные фотографии, мое лицо в ряду сорока других, а над нами возвышаются исполины-учителя. Меня всюду легко найти: вон та, смазанная или глядящая не туда, – я. Потом пошли глянцевые цветные снимки, забытые мальчики с прыщами и гвоздиками, я в жестких платьях, кринолинах и тюлях, многослойных, как именинный торт из кондитерской; и наконец-то я – цивилизованная, готовый товар. Она говорила: «Тебе это очень к лицу, дружок», можно было подумать, что она говорит искренне, но я не верила, я уже знала тогда, что она не судья в вопросах общепринятого.
– Это ты? – спросила Анна, положив на стол «Таинственное происшествие в Стербридже». – Господи, неужели мы так одевались?
Последние страницы в альбоме оказались пустые, несколько снимков были просто вложены между темными листами, как будто мама не хотела доводить его до конца, Я после вечерних туалетов исчезла, свадебных фотографий не было, впрочем, мы их и не делали. Я захлопнула обложку, подровняла ладонью листы.
Ни фактов, ни намеков, так и неизвестно, когда это случилось. В те времена у меня было, по-видимому, все в порядке; но потом как-то так вышло, что я оказалась разрезанной на две части. Будто женщина в цирке, которую распиливают пополам, а она лежит в деревянном ящике, одетая в купальный костюм, и улыбается, тут секрет в зеркалах, я читала в детском журнале; но только со мной фокус не удался, вышла накладка, и меня в самом деле перепилили. Другая моя половина, которая осталась отрезанной и спрятанной, и была как раз жизнеспособной, а я – нет, я не та половина, я обреченная, конченая. Не я, а только моя отрубленная голова, или нет, еще того меньше, отрубленный затекший палец, онемение, В школе была такая шутка; приносили коробок, в нем вата, а на дне отверстие, туда незаметно просовывали палец, и получалось, будто он отрублен и уложен в вату.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Мы отчалили от мостков ровно в десять по часам Дэвида. Небо было акварельно-голубое, плыли кучевые облака – белые спинки и серые подбрюшья. Ветер дул в корму, волны обгоняли лодку, мои руки вскидывались и опускались легко и машинально, будто сами знали, что нужно делать. Я сидела впереди, носовая фигура, за спиной у меня Джо толок воду, и лодка рывками продвигалась вперед.
Проплывали, развертываясь, знакомые берега, плоская карта оживала в камнях и деревьях: мыс, обрыв, завалившееся сухое дерево, остров цапель с неразличимыми птичьими силуэтами, черничный остров, увенчанный мачтовыми соснами, выступали по очереди на передний план. На следующем острове была когда-то хижина охотника, бревенчатая, щели законопачены травой, вместо постели – куча соломы; теперь видна только груда древесной трухи.
Утром у нас был разговор, безнадежный, но в спокойных, разумных тонах, словно обсуждался счет за телефон; и значит, это – конец. Мы еще лежали в постели, его ноги торчали из-под короткого одеяла. Я просто не могла дождаться, когда наконец состарюсь и ничего этого мне больше не будет нужно.
– Когда вернемся в город, – сказала я, – я съеду с квартиры.
– Могу я, если хочешь, – сказал он великодушно.
– Нет, у тебя там все эти горшки и остальное.
– Пусть будет по-твоему, – сказал он. – Как всегда.
В его глазах это была моя победа и его поражение, как ребята в школе выворачивали тебе руки и спрашивали: «Сдаешься? Сдаешься?» – покуда не скажешь: «Сдаюсь!» – а тогда отпускали. Меня он не любил, он любил свой собственный идеальный образ и хотел, чтобы это чувство разделял с ним еще кто-нибудь, все равно кто, я или не я, не имело значения, так что можно было не беспокоиться.
Солнце стояло на полдне. Мы пообедали на скалистом островке уже почти в открытой, широкой части озера. Когда мы пристали к берегу, оказалось, что кто-то до нас успел сложить очаг на голой гранитной плите над водой, вокруг валялся мусор, консервные банки, апельсиновая кожура, комок просаленной протухшей бумаги – след человека. Так собаки мочатся на забор – этих людей бескрайняя водная гладь и ничья земля словно побуждали оставить свой знак, подпись, обозначить новые пределы своих владений, и для этой цели у них не было ничего, кроме мусора.
Я подобрала все, что там валялось, и сложила в кучу в сторонке, чтобы потом сжечь.
– Вот мерзость, – сказала Анна, – Как ты можешь к этому прикасаться?
– Признак свободной страны, – произнес Дэвид. – В Германии при Гитлере всюду было чистенько.
Топор нам не понадобился, по всему острову было полно сухих сучьев – сброшенных деревьями нижних ветвей. Я вскипятила воду и заварила чай, и еще у нас был куриный бульон с лапшой из пакетиков, сардины и консервированное яблочное пюре.
Мы сидели в тенечке, окуриваемые белым дымом, горьким от горящих апельсиновых корок, как вдруг ветер переменился. Я отцепила котелок с чаем, принесла и стала разливать; в котелке плавал пепел и иголки.
– Джентльмены! – провозгласил Дэвид, подняв жестяную кружку. – Королеву и королеву мать! Я как-то сказал так в одном баре в Нью-Йорке, и три англичанина вздумали лезть в драку, они решили, что мы янки и оскорбляем их королеву. Но я им объяснил, что она и наша королева тоже, у нас есть право, кончилось дело тем, что они поставили нам выпивку.
– Я считаю, – сказала Анна, – что по справедливости надо уж было обложить заодно с королевой и герцога.
– Нечего разводить тут женское равноправие, – отозвался Дэвид, сощурившись, – не то мигом вышвырну тебя на улицу. Я у себя дома не потерплю суфражисток, они проповедуют выборочную кастрацию, это их боевой клич, они рыщут по улицам кровожадными стаями, с садовыми ножницами в лапах.
– Присоединимся? – предложила мне Анна.
Я ответила:
– Я считаю, что мужчины должны быть выше женщин. – Но никто не услышал моих истинных слов; Анна поглядела на меня как на предательницу и вздохнула.
– Ай-яй! Ты, значит, прошла идеологическую обработку?
А Дэвид сказал:
– Поступай ко мне, возьму сверх штата! – И потом, обращаясь к Джо: – Слыхал? Ты выше.
Но когда Джо в ответ только крякнул, он язвительно посоветовал мне;
– Ты бы его озвучила, что ли. А то еще можно надеть на него абажур и сделать проводку, вышла бы отличная настольная лампа. Он у меня на курсах прочтет в будущем семестре лекцию на тему: «Как общаются между собой керамические изделия». Представляете, входит человек в аудиторию и два часа молчит, то-то будет бешеный успех.
И тогда Джо слабо, но все-таки улыбнулся.
Накануне ночью я искала у него спасения. Если мое тело все же способно к эмоциям, ответным реакциям, сильным движениям, то, может быть, отдельные красные грушевидные синапсы, голубые нейроны, радужные молекулы сумеют проникнуть и в голову через перетянутую шею, через запертое горло? Боль и удовольствие, говорят, идут рядом, но мозг в основном нейтрален, нечувствителен, как жировая ткань. Мысленно я примеривала, перебирала чувства: радость, покой, вина, освобождение, любовь и ненависть, ответ, перенос; что чувствовать – это как что носить; смотришь на других и запоминаешь. Но был один только страх, опасение, что я неживая; не чувство, а его отрицание, разница между тенью от булавки и уколом – в школе, прикованная к парте, я колола себе руки кончиком пера или стрелкой от компаса, инструментами познания, словесности и геометрии; ученые обнаружили, что крысы предпочитают боль отсутствию ощущений вообще. Обе мои руки в сгибе локтя были усеяны точечными ранками, как у наркоманов…
Тебе вводят иглу в вену, и ты летишь вниз, как ныряешь под воду, прорезая слои темноты, все глубже, глубже; когда я очнулась от наркоза и увидела свет, бледно-зеленый сначала, потом обычный, солнечный, я ничего не помнила.
– Не приставай к нему, – сказала Анна.
– А может, я на этот раз организую ускоренные курсы, – продолжал Дэвид, – для бизнесменов: как открывать центральный разворот «Плейбоя» одной левой рукой, держа правую наготове для действий. И для их жен: как включать телевизор и одновременно выключать собственные мозги. Это все, что надо знать, а теперь, дети, можете идти домой.
Но он не хотел, он сам нуждался в спасении, ни он, ни я не отважились облачиться в плащ, сапоги и майку доброго супермена из комиксов, мы оба боялись неудачи; мы лежали спиной друг к другу и притворялись, будто спим, а за фанерной перегородкой Анна творила свою безбожную молитву. Дамские романы про чистую любовь, на обложках всегда розовое личико в крупных каплях слез, точно тающее фруктовое мороженое. А журналы для мужчин посвящены удовольствиям, машинам и женщинам с кожей гладкой, как поверхность шарниров. Ну и пусть, даже лучше, что можно ничего не чувствовать.
– Твоя беда, что ты ненавидишь женщин, – сердито сказала Анна и выплеснула в озеро остатки чая из своей кружки; раздался короткий всплеск.
Дэвид ухмыльнулся.
– Пример так называемой запоздалой реакции, – сказал он. – Ущипни Анну за задницу – и через три дня услышишь визг. Не огорчайся, ты, когда злишься, становишься такая аппетитная.
Он подполз к ней на четвереньках, потерся колючей щетиной о ее щеку и спросил, как бы ей понравилось, если бы на нее покусился дикобраз.
– Знаете анекдот? – тут же спросил он. – Как любят дикобразы? Ответ: осторожно!
Анна улыбнулась ему, словно дефективному ребенку.
В следующую минуту Дэвид вскочил на ноги и заплясал на высоком мысу, потрясая сжатым кулаком и крича во всю глотку: «Свиньи! Свиньи!» Оказалось, это какие-то американцы проезжали на моторке в деревню, вскидываясь и ныряя в волнах и вздымая крылья брызг, на корме и на носу у них билось по флагу. Сквозь ветер и стук мотора им не слышно было его слов, они решили, что он их приветствует, и с улыбкой помахали в ответ.
Я вымыла миски, залила костер, вода на раскаленных камнях зашипела, мы собрались и поплыли дальше. Поднялось волнение, на открытом плесе запрыгали белые гребни, лодку сильно качало, приходилось напрягать силы, чтобы держать ее носом к волне; по темной воде за нами тянулся пенный след. Весло упирается в воду, в ушах свист ветра, и воздух, и пот, и напряжение мышц до боли – мое тело живет!
Ветер слишком разошелся, надо было менять курс; мы переплыли к подветренному берегу и пошли вдоль него, держась как можно ближе к земле, повторяя извилистые очертания скал и отмелей. Так было, конечно, гораздо дальше, зато деревья укрывали от ветра.
Наконец мы добрались до узкого залива, за которым начинался волок; времени, по солнцу, было около четырех, нас сильно задержал ветер. Я надеялась, что сумею найти начало тропы, оно было, я знала, на том берегу залива. Мы обогнули мыс, и я услышала звук, это был звук человеческий. Сначала будто заводили подвесной мотор, потом словно рычание. Электропила. Теперь они уже были видны, двое мужчин в желтых касках. Они оставляли позади себя след – древесные стволы, сваленные в воду через равные промежутки, срезанные ровно, как бритвой.
Изыскатели бумажного комбината или правительственные, от электрической компании. Если электрической, тогда ясно, что это означает: опять будут поднимать уровень озера, как тогда, шестьдесят лет назад, – они размечают новую береговую линию. Она отступит еще на двадцать футов, но только теперь деревья валить не будут, это вышло слишком дорого, их оставят гнить под водой. Наш огород зальет, но дом останется, холм превратится в размываемый песчаный островок, окруженный мертвыми стволами.
Когда мы проплывали мимо, они подняли головы, равнодушно посмотрели на нас и тут же снова вернулись к работе. Передовые лазутчики, разведка. Шелест и треск – когда дерево, покачнувшись, начинает заваливаться, гул и плеск – когда оно падает. По соседству от них торчал вбитый в землю столб, на стесанной древесине свежие красные цифры. Это озеро для них не имело значения, им важна вся система. Резервуар на случай войны. И я ничего не могла сделать, я здесь не жила.
Берег в том месте, откуда начинался волок, был забит плавником, обомшелым, гнилым. Мы работали веслами, сколько было возможно, продираясь среди осклизлых бревен, потом вылезли и пошли, не разуваясь, по воде, таща по мелководью лодки. Для лодок это гибель – обдираются днища. Рядом с нашими были заметны еще чьи-то недавние следы, содранная краска.
Мы разгрузили лодки, я привязала, как полагается, весла вдоль бортов. Они сказали, что берут на себя палатки и каноэ, а мы с Анной пусть потащим рюкзаки, остатки от обеда, рыболовные снасти и банку с лягушками, которых я наловила утром, и еще кинокамеру. Дэвид настоял, чтобы мы ее взяли с собой, хотя я предупреждала, что мы можем перевернуться.
– Нам надо отснять всю пленку, – спорил Дэвид. – Срок проката кончается через неделю.
Анна возразила:
– Да там не будет ничего такого, что тебе нужно.
Но Дэвид сказал:
– А ты откуда знаешь, что мне нужно?
– Там есть индейские наскальные рисунки, – сказала я. – Доисторические. Захотите, сможете их снять.
Еще одна достопримечательность, вроде «Бутылочной виллы» или семейки лосиных чучел, диковина как раз для их коллекции.
– Ну да? – обрадовался Дэвид. – Правда? Вот это здорово!
А Анна сказала:
– Бога ради, не подначивай ты его.
Они в первый раз перебирались волоком; нам с Анной пришлось помочь им поднять и уравновесить на плечах каноэ. Я предложила им проходить по двое, сначала с одной лодкой, потом со второй, но Дэвид не соглашался, он непременно хотел, чтобы все было как полагается. Я сказала, чтобы они шли осторожнее, если каноэ съедет на один бок и его вовремя не отпустить, можно сломать шею.
– Чего ты беспокоишься? – отозвался Дэвид. – Не доверяешь нам, что ли?
Тропу давно не расчищали, но на влажных местах виднелись глубокие следы, отпечатки подошв. Следы двух людей, они вели только в одну сторону, а обратно – нет: кто бы это ни был, американцы, может быть, шпионы, но они все еще находились там.
Рюкзаки были тяжелые – трехдневный запас пищи на случай, если погода испортится и мы застрянем; лямки врезались в плечи, я шагала, наклонившись под грузом вперед, хлюпая мокрыми туфлями.
Тропа вела круто вверх, через скалистый гребень, водораздел, а оттуда вниз, спускаясь среди папоротников и молодых деревцев к вытянутому озерку, топкой луже, которую нам предстояло переплыть, чтобы добраться до второго волока. Мы с Анной подошли к воде первыми и сняли рюкзаки; Анна успела выкурить полсигареты, прежде чем с гребня спустились Дэвид и Джо, их заносило из стороны в сторону, как лошадей в шорах. Мы поддержали лодки, и они, скрючившись, выбрались из-под них, красные, задыхающиеся.
– Ей-богу, лучше плавать рыбой в воде, – сказал Дэвид, утирая лоб рукавом.
– Следующий волок короче, – утешила я их.
Озеро было все заляпано листьями кувшинок, среди них тут и там торчали желтые шарики цветов с толстой курносой сердцевиной. Коричневая вода кишела пиявками, я видела, как они лениво извивались у самой поверхности. А если заденешь веслом близкое дно, выскакивали пузырьки газа, образовавшегося от падения растительных остатков, и лопались, распространяя вонь тухлых яиц или кишечных газов. В воздухе было черно от комариных туч.
Мы доплыли до второго волока, помеченного старой зарубкой на дереве, почерневшей и почти неразличимой. Я вышла из каноэ и подержала его, пока Джо перебирался с кормы на нос.
Она была у меня за спиной, я почуяла запах, еще не видя ее, а потом услышала жужжание мух. Запах был как от гниющей рыбы. Я обернулась: она висела вниз головой, тонкий синий нейлоновый шнурок, перекинутый через ветку, крепко спутал ей ноги, раскрытые крылья обвисли. Она глядела мне в лицо одним вытекшим глазом.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
– Ну и запах, – сказал Дэвид. – Что это?
– Мертвая птица, – ответила Анна, она двумя пальцами зажимала нос.
Я сказала:
– Это цапля. Они не съедобные.
Непонятно, чем ее убили – пулей, камнем в голову, палкой? Здесь для цапель рай, они могут прилетать на мелководье ловить рыбу, стоя на одной ноге и нанося удары длинным, как копье, клювом. Этой, видно, даже не дали взлететь.
– Годится для нас, – сказал Дэвид, – можно будет пустить после рыбьей требухи.
– Дерьмо, – буркнул Джо. – Воняет.
– Вонь на пленке не передается, – сказал Дэвид, – а ты как-нибудь пять минут потерпишь. Видик смачный, не спорь.
Они принялись устанавливать камеру, мы с Анной сидели на рюкзаках и ждали.
Я увидела на цапле навозного жука, овального, иссиня-черного; когда камера застрекотала, он спрятался в перьях. Жук-стервятник, жук-могильщик. Но почему они ее так подвесили, славно линчевали, почему просто не выбросили, как ненужную вещь? Чтобы показать всем, что они могут, что обладают властью убивать? А то ведь от нее никакого проку – красивая, конечно, птица, но издалека, ее нельзя ни приручить, ни приготовить на обед, ни научить разговаривать по-человечьи, единственное, что они могут с ней сделать, – это уничтожить.
Пища, рабство или труп – выбор ограниченный; рогатые, клыкастые отсеченные головы по стенам бильярдных залов, рыбьи чучела – трофеи. Это все, конечно, американцы; они прошли тут, мы их еще могли встретить.
Второй волок был короче, но тропа сильно заросла; листья топорщились, сучья торчали, словно нарочно преграждая путь. Свежеобломанные ветки, древесина обнажена, как трубчатая кость в открытом переломе, затоптанный папоротник – они побывали тут, гусеничные следы их подошв глубоко впечатались в грязь маленькими кратерами, провалами. Начался спуск, прорези озера просвечивали между стволами. Я думала о том, что я им скажу, что тут можно сказать? Спросить: зачем? – не имеет смысла. Но когда мы прошли волок и вышли к воде, их там не оказалось.
Озеро представляло собой узкий полумесяц, дальний конец был скрыт от глаз. Lac des Verges Blanches, белые березы росли купами у самой воды, обреченные в конечном итоге на гибель от древесного рака, но еще не теперь. Ветер качал их верхушки, он дул поперек озера. Водная гладь морщилась, маленькие волны шлепали о песок.
Мы снова уселись в лодки и поплыли туда, где озеро изгибалось, я помнила, что там открытый берег и можно устроить лагерь. По пути я заметила несколько заброшенных бобровых хаток, похожих на старые ульи или прошлогодние стожки; я запомнила их, окунь любит подводные переплетения.
Мы добирались сюда дольше, чем я рассчитывала, солнце уже ослабело, налилось красным. Дэвид хотел сразу же заняться рыбной ловлей, но я сказала, что сначала надо поставить палатки и набрать дров. На этой стоянке тоже был мусор, но давний, этикетки на бутылках неразборчивые, консервные жестянки проржавели, Я собрала все это и захватила с собой, чтобы зарыть за деревьями, там, где буду копать отхожую яму.
Слой листьев и игл, слой корней, сырой песок. Что меня всегда особенно пугало в городах, это белые, зияющие, как нули, унитазы в чистых, выложенных кафелем чуланчиках. Уборные со сливом и пылесосы, они гудели, и что в них попадало – исчезало навсегда, я когда-то даже воображала, что существует такая страшная машина, в которой исчезают и люди тоже, пропадают невесть куда, эдакое подобие фотоаппарата, похищающего не только душу, но и тело. Рычаги, кнопки, защелки – побеги той страшной машины, как цветы из подземных корней; кружочки и овальчики, зримая логика, и нельзя знать заранее, что случится, если надавишь.
Я показала им, где вырыла яму.
– А на что же садиться? – капризно спросила Анна.
– На землю, – сказал Дэвид. – Тебе полезно, укрепишь немного мускулатуру.
– А сам-то! – Анна ткнула его в живот и произнесла, подражая ему: – Обдряб.
Я опять открыла и разогрела консервы, фасоль, горошек, мы ели и пили чай с дымком. А когда я спустилась к воде мыть миски, то с плоского камня увидела среди кедровых стволов в дальнем конце озера бок палатки, их бункер. На меня были направлены бинокли. Я почувствовала лучи взглядов, почувствовала перекрестие прицела у себя на лбу, стоит сделать один неверный шаг.
Дэвиду не терпелось скорее получить то, за чем приехали, за что деньги плачены. Анна сказала, что останется в лагере, рыбалка ее не интересовала. Мы дали ей аэрозоль от комаров и втроем с удочками втиснулись в зеленое каноэ. Банку с лягушками я спрятала на корме, под рукой. На этот раз лицом ко мне сидел Дэвид, а Джо расположился на носу, он тоже собирался удить, хотя и не имел лицензии.
Ветер стих, озеро стало оранжево-розовым. Мы шли вдоль берега, над нами нависали прохладные березы, ледяные столпы. У меня слегка кружилась голова, слишком много воды и солнечного сияния, лицо горело, как после ожога, как память о минувшем дне. А перед глазами, чуть зажмуришься, – подвешенная за ноги мертвая цапля. Надо было ее похоронить.
Мы подплыли к ближайшей бобровой хатке, причалили, Я открыла коробку со снастью и нацепила приманку на удочку Дэвида. Он насвистывал в радостном возбуждении.
– А что, может, у меня бобер клюнет, а? Национальная эмблема. Вот что надо было поместить на государственном флаге, а не какой-то там кленовый лист: взрезанного бобрика. Я такому знамени всей душой готов поклоняться.
– Но зачем же его взрезать? – удивилась я. Это было все равно что свежевать кота, вздор какой-то.
Он посмотрел на меня с досадой.
– Я пошутил.
Но я не улыбнулась, и тогда он сказал:
– Где ты только росла? Это на блатном языке неприличная часть человеческого тела. Да здравствует наш родной кленовый бобрик! Смачно, а? – И, отпуская леску, фальшиво запел:
В стародавние дни из британской дали
К нам прибыл Вулф, блестящий герой,
На недругов он пошел горой,
И развеял мрак, и завел бардак
На просторах канадской земли.
Пели у вас это в школе?
– Рыбу распугаешь, – сказала я, и тогда он умолк.
Мертвый зверь – часть человеческого тела. Интересно, какую часть человеческого тела представляет цапля, что им понадобилось ее убить?
Я припомнила старый буксир, который плавал здесь в прежние времена, за ним тянулись плоты, из оконца каюты махали люди, солнце, синее небо – великолепная жизнь. Но она оказалась недолгой. Однажды весной мы приехали в деревню, а буксир лежит на берегу у казенной пристани, брошенный. Мне хотелось посмотреть, какой же он вблизи, домик у него на палубе, и как там все внутри. Я представляла себе маленький столик со стульчиками, раскладные кровати, которые опускаются от стен, на окне занавески в цветочек. Мы забрались туда, дверь была не заперта, но внутри оказались голые доски, даже некрашеные, а мебели никакой, печку и ту сняли. Единственное, что нам удалось найти, – это два ржавых бритвенных лезвия на подоконнике и скабрезные карандашные рисунки на стенах.
Я давно забыла про те рисунки; но, само собой разумеется, они были магические, как и наскальные изображения в пещерах. Человек рисует на стенах то, что для него важно, за чем он охотится. Еды у них было вдоволь, нет надобности рисовать зеленый горошек в банках и аргентинскую тушенку, а вот в чем они испытывали нужду во время своих скучных, отнюдь не идиллических плаваний туда-сюда по озеру, когда делать совершенно нечего, только в карты дуться, им, наверно, осточертела эта жизнь, ползанье взад-вперед с плотами на привязи. Теперь они уже, наверно, умерли или состарились, они небось там все ненавидели друг друга.
Окуни клюнули у обоих одновременно. И тот и другой сражались как львы, удилища гнулись чуть не пополам. Дэвид в конце концов вытащил свою рыбину, а у Джо она ушла под корягу, запутала леску и оборвала.
– Эй, – окликнул меня Дэвид, – прикончи вот моего.
Окунь был свирепый, он бился и прыгал по днищу лодки, с присвистом выстреливая струйкой воду из-под выступающего рыла, то ли со страху, то ли от ярости, трудно сказать.
– Сам давай, – ответила я и протянула ему нож. – Я же тебе показывала как.
Стук металла по кости, по бесшейному голово-тулову, нет, я больше не могла, не имела права. Она не нужна нам была, наша естественная пища – консервы. Мы совершали акт насилия ради спорта, для развлечения и удовольствия, активный отдых на лоне природы, как они говорят. Но это уже больше не могло служить справедливым основанием. Это объяснение, но не оправдание, как любил повторять отец, всегдашняя его присказка.
Пока они любовались плодом преступления Дэвида, трупом, я вынула из ящика для снастей банку с лягушками и отвинтила крышку, они выбирались и плюхались в воду, зеленые, в черных леопардовых пятнах, золотоглазые, спасенные. Было в школе: у каждого на парте лоток, на нем лягушка, источающая эфирный дух, распластанная, как салфеточка для завтрака, все органы на виду, их рассматривали по очереди и отсекали; вырезанное сердце, все еще медленно екающее, будто кадык при глотании, и не выступило на нем никаких букв – знаков мученичества; неаппетитный шнурок кишечника. Заспиртованная кошка, краска в кровеносных сосудах, красная в артериях, синяя в венах – за стеклом в больнице, у гробовщиков. Найдите, где находится мозг дождевого червя, завещайте ваше тело на нужды науки. Все, что мы проделываем с животными, мы можем сделать и друг с другом, мы на них сначала практикуемся.
Джо перебросил мне свою оборванную леску, и я, порывшись среди блесен, отыскала ему новый поводок, свинцовое грузило, новый крючок – сообщница, соучастница.
Из-за мыса выплыли американцы, двое в серебристой лодочке, они держали курс прямо на нас. Я пригляделась, определяя, что за персонажи: эти не относились к типу толстопузых и пожилых, которые предпочитают моторные лодки и чтобы с проводником, эти помоложе, подтянутые, с открытыми загорелыми лицами астронавтов – лакомый сюжет для иллюстрированных журналов. Поравнявшись с нами, они широко растянули рты, обнажив двойные ряды зубов, белых и ровных, будто искусственных.
– Берете? – спросил передний с западным акцентом; у них это традиционное приветствие.
– Уйму, – отозвался Дэвид с ответной улыбкой. Я приготовилась к тому, что сейчас он им что-нибудь ляпнет, эдакое оскорбительное, но он больше ничего не прибавил. Парни дюжие.
– Мы тоже, – сказал передний. – Мы здесь уже дня три-четыре, и все время клюет, не переставая, вылавливаем полную норму каждый день.
На борту их лодочки, как у всех у них, был наклеен звездный флажок, чтобы мы знали, что находимся на оккупированной территории.
– Ну пока, – сказал задний, и они проплыли мимо нас к следующей бобровой хатке.
Лакированные удилища, лица непроницаемые, как космические скафандры, зоркий снайперский взгляд, конечно, цапля – это их рук дело. Вина отсвечивала на них, словно серебряная фольга. В мозгу у меня всплывали разные случаи, которые мне про них рассказывали: как одни набили поплавки своего гидроплана незаконно выловленной рыбой, у других машина была с двойным дном, и там на искусственном льду – двести озерных форелей, инспектор рыбнадзора обнаружил их по чистой случайности. «Безобразная страна, – жаловались они, когда он отказался брать взятку. – Никогда больше сюда не приедем». Они напивались и на своих мощных глиссерах гонялись для смеху за гагарами; гагара нырнет, а они сразу задний ход, не давали ей взлететь, и так – пока не потонет или не попадет под лопасть их винта. Бессмысленное убийство, такая игра. Им после войны было скучно.
Закат гас, с противоположного края небес поднималась тьма. Мы повезли наш улов обратно, теперь уже четыре рыбины, и я срезала раздвоенный прут, чтобы продеть сквозь жабры.







