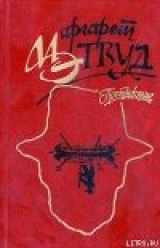
Текст книги "Постижение"
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Закат, алый, как тюльпан, постепенно тускнел, делался телесным, пленчатым. Теперь остались в окне только полосы, сиреневые и лиловые, небо рассечено квадратами оконной рамы, а там, дальше, – переплетением ветвей, наложением листа на лист. Я в постели, под одеялом, сброшенная одежда валяется на полу, скоро он будет здесь, долго они не выдержат.
Тихий разговор, шорох собираемых карт, бульканье, плевки – чистят зубы. Кто-то втягивает воздух и дует – лампа погашена, карманные фонарики водят лучами по потолку. Он открывает дверь, нерешительно останавливается на пороге, гасит фонарик, после того, что было утром и днем, он не знает, как ко мне подойти. Я притворяюсь спящей, он ощупью пробирается по комнате, неслышно, как по мху, и расстегивает молнию своей шкуры.
Он думает, что я страдаю, и хочет устраниться, отворачивается от меня; но я протягиваю руку, провожу ладонью по его телу, от неожиданности он вздрагивает, он не знал, что я не сплю. Через минуту он поворачивается ко мне, напрягшись, охватывает меня обеими руками, и я чувствую запах Анны: крем для загара, розовая пудра, сигаретный дым, но это мне не мешает, мешают другие запахи; простыни, шерсть, мыло, химически обработанные звериные кожи – здесь я не могу. Я сажусь, спускаю ноги с кровати.
– Ну что опять? – шепчет он.
Я тяну его за руки.
– Не здесь.
– Господи!
Он пробует уложить меня обратно, но я зацепляюсь ступнями за ножки кровати.
– Ничего не говори, – прошу я.
Тогда он тоже вылезает из постели и идет за мной из этой комнаты в большую, через большую к дверям. Я отпираю сетчатую дверь, затем деревянную и беру его за руку: там, снаружи, – опасность, от которой я ограждена, а он нет, надо, чтобы он находился поблизости от меня, в радиусе.
Мы идем через двор, босые и голые, луна только встает, и в ее серо-зеленом свете его тело белеет, белеют стволы деревьев и белые овалы его глаз. Он движется, как слепой, высоко перешагивая через пятна тени, больно спотыкаясь о неровности земли, он еще не выучился видеть в темноте. Мои щупальца-ноги и свободная рука чуют путь, обувь – преграда между землей и прикосновением. Та-там! – как два удара сердца, это кролики предостерегают друг друга и нас. На том берегу – сова, голос перистый, когтистый, черное на черном, в сердце кровь.
Я ложусь, но так, чтобы луна была у меня по левую руку, а отсутствующее солнце – по правую. Он опускается на колени, он дрожит, листья надо мной и вокруг влажны от росы, а может быть, это озерная вода просочилась сквозь камни и песок, мы у самого берега, плещутся мелкие волны. Надо будет ему погуще зарасти шерстью.
– Ну что ты? – спрашивает он, – Что с тобой?
Я кладу ладони ему на плечи, он мускулистый и неясный, силуэт без лица, волосы и борода точно грива, освещенная сзади луной. Он поворачивается, наклоняется надо мной, взблескивают глаза, его бьет дрожь, это страх, или напряженная плоть, или холод. Я тяну его книзу, волосы и борода падают на меня, как растения, губы мягче воды. Я чувствую его тяжесть, теплый камень, почти живой.
– Я люблю тебя, – говорит он мне в шею, из катехизиса.
Он сжал зубы, медлит, он хочет, чтобы было как в городе, барочные завитушки, замысловатые и умственные, как компьютер, но я не хочу ждать, удовольствие – это лишнее, животные не испытывают удовольствия. Сейчас как раз время, я спешу.
Он содрогается, и тогда я ощущаю, как мой погибший ребенок всплывает во мне, прощает меня, подымается со дна озера, где так долго был пленником, глаза и зубы у него фосфоресцируют, зубы заходят друг за друга, скрещиваются, как пальцы, он развивается, расцветает, обрастает щупальцами. На этот раз я управлюсь одна, устроившись в углу над ворохом старых газет или лучше над кучей сухих листьев, листья чище. Дитя выскользнет легко, как яйцо, как котенок, я его оближу и перегрызу пуповину, кровь вернется в родную землю; и полная луна будет смотреть и притягивать. А утром я смогу его разглядеть, он будет весь покрыт шелковистой шерсткой, божество, я не научу его ни единому слову.
Я крепко обнимаю его, глажу по спине, я благодарна ему, он отдал мне часть себя, в которой я нуждалась. Теперь отведу его обратно в дом, здесь на нас со всех сторон давят темные силы, как глубокая вода давит на ныряльщика, а уж там можно будет его отпустить.
– Все хорошо? – спрашивает он. Он лежит и успокоенно дышит. – Тебе хорошо?
Он спрашивает о двух совершенно разных вещах, а я отвечаю ему «да» на третий, незаданный вопрос. Надо, чтобы никто не узнал, а то они опять со мной это сделают, привяжут к машине смерти, машине пустоты, ноги в железной раме, тайные ножи. На этот раз я им не дамся.
– Ну и ладно, – говорит он. Опираясь на локоть, он пальцами и губами успокаивает меня, проводит по щеке, по волосам. Потом ложится рядом, льнет к моему плечу, для тепла; он опять весь дрожит.
– Черт, – говорит он. – Ну и холодище. – И потом боязливо: – Ну так ты как? Да?
Это он спрашивает про любовь, ритуальные слова: люблю ли я его? Но я не могу заплатить выкуп, даже ложью. Мы оба ждем моего ответа. Слышен ветер, шелест древесных легких, со всех сторон плещется вода.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Когда я просыпаюсь, уже день, мы опять в постели. Он не спит, поднял голову; разглядывал меня спящую. Улыбается, улыбка довольная, сытая, раздувает бороду, как. горло у поющей жабы, наклоняется ко мне, хочет поцеловать. Он так ничего и не понял, думает, что победил, деянием своей плоти набросил мне петлю на шею, поводок, привезет обратно в город, будет привязывать к заборам и дверным ручкам.
– Проспала, – говорит он и придвигается ко мне, но я смотрю на солнце, время позднее, что-то около половины девятого. В большой комнате слышно побрякивание металла о металл, они уже поднялись.
– Не спеши, – говорит он, но я отталкиваю его и одеваюсь.
Анна стряпает, скребет ложкой по сковороде. Она одета в свою лиловую блузу и белые брюки клеш, городское облачение, и розовый грим закрывает ей лицо, как забрало.
– Я решила, что пока похозяйничаю, – говорит она. – Чтобы вы, дети, могли поспать подольше.
Она, конечно, слышала ночью, как открывались и закрывались двери; она демонстрирует улыбочку, дружественную, заговорщицкую, и я понимаю, что там мелькнуло у нее в голове: она, мол, разок прилегла с Джо, и пожалуйста, благодаря ее стараниям мы с ним помирились. Тоже спасительница мира, всех на это тянет: мужчины спасают мир пушками, женщины телесами, любовь побеждает все, победители любят всех – миражи из слов.
Она раскладывает по тарелкам завтрак, консервированные бобы, обычная утренняя еда вся кончилась.
– Бобы и свинина – музыкальная пища, чем больше съедим, тем громче посвищем! – декламирует Дэвид и хохочет, точно утка крякает, паясничая с притворным самодовольством.
Анна поддерживает его, подыгрывает – кооперация. Она ударяет его вилкой по пальцам и говорит:
– Безобразник! – Но тут же спохватывается и прячется за трагической маской: – Много времени у тебя займет… ну, все это дело в деревне?
– Не знаю, – отвечаю я. – Навряд ли особенно много.
Мы складываем рюкзаки, и я помогаю снести вещи на берег, мои – тоже: портфель, набитый чужими словами, и холщовый сверток с одеждой, ничего этого мне больше не понадобится. Они сидят на мостках и разговаривают; Анна курит, последняя сигарета из ее запаса.
– Черт, – говорит она, – скорей бы уж добраться до города. Сигарет купить.
Я еще раз подымаюсь по ступенькам в обрыве, хочу посмотреть, не забыли ли они чего-нибудь. Сойки на своем месте, скачут с ветки на ветку, кричат, подают сигналы – общаются; при моем появлении перебираются повыше, они все еще не решили, можно мне доверять или нет. Дом стоит в том же виде, в каком был, когда мы приехали. Появится Эванс, и я захлопну замок.
– Надо поднять из воды лодки, пока он не приехал, – говорю я им, сойдя к мосткам. – Их место в сарае.
– Будет исполнено, – отвечает Дэвид и смотрит, который час. Но они не встают с места, они вытащили камеру и обсуждают свой фильм. Рядом стоит сумка на молниях, в которой они возят кинооборудование, и штатив, и катушки с пленкой в жестянках. – Я считаю, недели через две-три можно начать монтаж, – произносит Дэвид, играя профессионала. – Как приедем, сразу отдалим проявить.
– Последней пленки еще немного осталось, – говорит Анна. – Что же вы ее-то не снимете? Меня сняли, а ее нет.
И смотрит на меня, из ноздрей и рта у нее идет дым.
– А вот это идея, – говорит Дэвид. – Мы все фигурируем в фильме, кроме нее. – Он оценивающе приглядывается ко мне. – Только вот куда бы нам ее воткнуть?
Немного погодя они встают, поднимают из воды красное каноэ и, держа один за нос, другой за корму, уносят вверх. Я остаюсь на мостках вдвоем с Анной.
– У меня нос не лупится? – спрашивает она и трет его пальцем. Потом достает из сумочки круглую позолоченную пудреницу с фиалками на крышке. Открывает ее и обнажает передо мной свое второе «я»: обводит кончиком пальца рот, правый уголок, левый уголок, потом отвинчивает розовую трубочку помады, ставит точку на скулах и постепенно размазывает их, изменяя свой овал лица, верша единственный вид магии, который ей доступен.
Она восседает на рюкзаке, будто одалиска на пуфике, щеки нарумянены, вокруг глаз черные тени, красна как кровь, черна как ночь – изрядно помятый рисунок, сама срисована с какой-то женщины, а та тоже была подражанием несуществующему оригиналу, ангелу с гладким женским телом, витающему в тех же небесах, где Господь Бог есть круг; подражание пленной принцессе, которая томится в чьем-то мозгу. Бедная узница, ей нельзя ни есть, ни испражняться, ни плакать, ни родить. Она снимает или надевает одежду – плоский картонный гардероб, при лампе-вспышке совокупляется с мужским торсом, в то время как мозг ее наблюдает из застекленной кабины управления в другом конце комнаты, на лице ее сменяются гримасы восторга и упоения, и это – все. Ей не скучно, у нее нет других интересов.
Анна сидит, в ее глазницах тени, череп со свечой. Она защелкивает пудреницу и гасит окурок о доски; я вспоминаю, как она плакала, карабкаясь по песчаному откосу, это было вчера, а теперь она кристаллизовалась. Машина действует постепенно, отнимает от человека понемногу, и остается одна оболочка. Пока они ограничивались умершими, это еще ладно, мертвые за себя постоят, быть полумертвыми много хуже. Они и друг друга умерщвляют, сами того не ведая. Я расстегиваю молнию на их сумке и вынимаю жестянки с пленкой.
– Что это ты делаешь? – спрашивает Анна равнодушно.
Стоя в ярком солнечном свете, я выматываю пленку и опускаю спиралями в озеро.
– Это ты зря, – говорит Анна, – Они тебя убьют.
Но сама не вмешивается и не зовет их.
Вымотав всю пленку, я открываю сзади объектив камеры. Пленка в воде, отягощенная кассетами, оседает кольцами на песчаное дно; невидимые пленные образцы уплывают в озеро, как головастики: Джо и Дэвид, как лесорубы, над покоренным бревном, скрестив руки на груди; Анна нагишом, прыгающая в воду с мостков, одна рука вскинута над головой, сотни крохотных голых Анн, которые не будут больше томиться в стеклянных баночках по полкам.
Я разглядываю ее, хочу увидеть перемены, вызванные освобождением, но зеленые глаза на эмалевом лице смотрят все так же.
– Зададут они тебе, – говорит она мрачно, как пророчица. – Зря ты это сделала.
Они уже появились наверху над нами и спускаются за второй лодкой. Но я быстро подбегаю к ней, переворачиваю днищем вниз, забрасываю внутрь весло и тащу по мосткам к воде.
– Эй! – кричит Дэвид. – Ты что делаешь?
Они уже почти спустились, Анна наблюдает за мной, кулак у рта, не может решиться: сказать им или нет, молчание – соучастие.
Я сталкиваю лодку кормой в воду, приседаю, прыгаю в нее и отпихиваюсь от мостков.
– Она вашу пленку выбросила, – докладывает Анна у меня за спиной.
Вонзаю весло в воду, не оборачиваясь, понимаю, что они заглядывают с мостков в озеро.
– Вот дрянь! – стонет Дэвид. – Ах дрянь, надо же, какая дрянь! Ты почему ее не остановила?
Только у песчаного мыса я оглядываюсь, Анна стоит, равнодушно свесив руки, она ни при чем; Дэвид опустился на колени и выуживает из воды пленку, вытягивает горстями, как спагетти, хотя понимает, что это бесполезно – все уже уплыло.
А Джо там нет. Он вдруг появляется на верху песчаного мыса, бежит, спотыкается. В бешенстве выкрикивает мое имя, будь у него камень под рукой, он бы его в меня запустил.
Каноэ скользит, унося нас, вдвоем, за мыс, за склоненные деревья, прочь с их глаз. Теперь уже поздно им бежать за красным каноэ и плыть в погоню; им, наверно, это и в голову не пришло, неожиданное нападение приносит победу, потому что порождает у противника растерянность. Цель моя ясна. По-видимому, этот план уже давно сложился у меня в голове, еще не знаю, с каких пор.
Я веду лодку под самыми деревьями, лодка и руки в одном движении, амфибия; сзади вода смыкается, не сохраняя следов. Суша изгибается, и мы делаем поворот, здесь узкость, протока, а потом берега раздаются – и я буду в безопасности, спрятана в прибрежном лабиринте.
Тут в воде камни, большие бурые валуны, темнеющие, как грозовые тучи, как угроза, – надежное заграждение. Берега справа и слева крутые – отвесные скалы, увитые ползучими растениями. Дно, а когда-то берег, косо повышается, здесь теперь так мелко, что лодке с мотором не пройти. Еще один поворот – и мы в заливе, собственно, это – топь, со всех сторон окруженная сушей, тонкий слой тепловатой Воды, из черной растительной гущи высовывают головы камыши и рогозы и торчат культи пней – все, что осталось от высоких, как мачты, деревьев. Сюда я когда-то повыбрасывала мертвых и вымыла банки и бутылки.
Моя лодка качается на воде, дальше грести нет смысла, там завал: деревья, которые не успели срубить, когда подымали воду, лежат на боку, бледно-серые, судорожно выставив выбеленные, оголенные короны корней; на размокших стволах поселились растения, питающиеся распадом, – багульник и насекомоядная росянка, ее крохотные, с ноготок, листики утыканы красными волосками, а из лиственных розеток подымаются белоснежные цветки – плоть мошек и комаров, пресуществленная в лепестки, метаморфоза.
Я ложусь на дно своего каноэ и жду. Стоячая вода набирает жар; с берега, из лесу, слышно птиц; дятел, еще где-то дрозд. Сквозь деревья проглядывает солнце; болото вокруг меня парит, кипит, энергия распада воплощается в рост, в зеленое пламя. Я вспомнила ту цаплю: теперь она уже превратилась в насекомых, лягушек, рыб, в других цапель. Мое тело тоже подвержено изменениям, растительно-животное существо во мне разрастается, выпускает нити; и я благополучно переправляю его через жизнь к смерти; я размножаюсь.
Меня разбудил приближающийся стук мотора. Это там, на озере, Эванс, надо полагать. Я вытаскиваю каноэ на берег, привязываю чалку к дереву. С этой стороны они меня не ждут, но я должна удостовериться, что они в самом деле уехали, не то еще сделают вид, будто уплыли, а сами останутся и затаятся, чтобы поймать меня, когда я вернусь, это на них похоже.
Лесом тут не больше четверти мили, Иду, пригибаясь под ветвями, смотрю, чтобы не оступиться, не сбиться с давно проложенного зашифрованного следа, который ведет к бывшей лаборатории, к банкам на полках; если не знать, что тропа проходит здесь, нипочем ее не углядеть.
Когда Эванс пристает к мосткам, я уже нахожусь поблизости, лежу на животе за поленницей и прижимаю голову к земле. Вижу их сквозь стебли травы.
Они нагибаются, укладывают вещи в моторку, интересно, мои тоже? Одежду, наброски рисунков…
Стоят, разговаривают с Эвансом, голоса тихие, не разобрать – должно быть, объясняют ему, придумали, наверно, что-нибудь, какое-нибудь происшествие, а то ему непонятно, почему меня нет, А может, строят планы, разрабатывают стратегию, как меня поймать. Неужели они действительно уедут, махнув на меня рукой, скроются в катакомбах большого города, а меня признают пропавшей без вести и задвинут в дальний угол своей памяти, вместе со старой одеждой и вышедшими из моды словечками? И скоро я буду для них таким же позапрошлым днем, как стрижка ежиком и песни времен второй мировой войны – так, полузабытое лицо на фотографии школьного выпуска или медалька, снятая у пленного противника; сувенирчик, а может даже и того смутней.
По ступеням поднимается Джо. Он кричит. Анна кричит тоже, пронзительно, как поезд перед отправкой. Зовут меня, выкрикивают мое имя. Но уже поздно. У меня больше нет имени. Все эти годы я старалась быть цивилизованной, но из этого ничего не вышло, а притворяться – с меня довольно.
Джо идет вокруг дома и пропадает из виду. Проходит минута – он появляется снова и начинает спускаться по ступеням к остальным, он ступает тяжело, понуро, под тяжестью поражения. Должно быть, он наконец понял.
Залезают в лодку. Анна задерживается на миг, оборачивается, смотрит прямо туда, где я, лицо у нее в солнечном свете растерянное, странно расстроенное. Неужели она меня видит и хочет помахать рукой на прощание? Но остальные протягивают руки и втаскивают ее в лодку – издалека это выглядит почти любовно.
Лодка, чухчухая, выплывает кормой вперед на середину залива, Мотор взвыл, и она, задрав нос, срывается с места прочь. За рулем – равнодушный жестковыйный Эванс в клетчатой ковбойке, настоящий американец, они теперь все американцы. Но они действительно уезжают, уехали, у меня в ушах еще тонко звучит отдаленный вой, затем – тишина. Медленно подымаюсь на ноги, тело у меня затекло от неподвижности, на голой коже колен отпечатались прутики и листья.
Иду к обрыву и оглядываю берега, нахожу место, пролив, в котором они скрылись. Проверяю, удостоверяюсь. Все правда: я осталась одна; этого я и хотела – чтобы никого, кроме меня, тут не было. С любой разумной точки зрения, это – полная нелепость. Но разумных точек зрения больше не существует.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Они заперли двери и дома, и сарая. Это работа Джо, он, наверно, решил, что я поплыву на своем каноэ в деревню. Хотя нет, он сделал это со зла. Напрасно я оставила ключи висеть на гвозде у притолоки, надо было положить к себе в карман. Но только глупо с их стороны думать, что они могут помешать мне проникнуть в дом. Скоро они уже будут в деревне, сядут в машину, покатят в город. Интересно, что они сейчас обо мне говорят? Что я сбежала? Но бегством было бы уехать вместе с ними, правда – здесь.
С верхней ступеньки крыльца я достаю до подоконника и заглядываю внутрь. Холщовый рюкзак с моими вещами перенесли сюда, вон он лежит на столе рядом с портфелем; здесь же Аннин детектив, последний, слабое утешение, но все же утешение, смерть ведь логична, всегда есть мотив. Она, наверно, потому их и читала – по соображениям теологическим.
Солнце спряталось, небо потемнело, похоже, что собирается дождь. Вдали над горами громоздятся тучи, как зловещие молоты, занесенные над наковальней; будет, наверно, гроза. А может, она и не разразится, тучи иногда ходят вокруг по нескольку дней кряду, и все их никак не прорвет. Мне надо попасть в дом, проникнуть со взломом к себе домой, влезть через окно, как лазили мы когда-то в детстве.
Под навесом лежит тачка, она всегда хранилась там вместе с дровами, два шеста и досочки, набитые поперек, похоже на приставную лестницу. Достаю ее и приставляю к стене под окном, под тем, которое без комариной сетки. Рама держится изнутри на четырех крючках, придется выбить четыре угловых стекла. Бью камнем, отвернув голову и зажмурив глаза, чтобы не пораниться осколками. Потом просовываю руку, осторожно, чтобы не задеть острые края, откидываю все четыре крючка, выставляю и спускаю на стоящую под окном кушетку оконную раму. Если бы можно было попасть в сарай, я бы отверткой отвинтила скобы, на которых висит дверной замок; но сарай без окон. Там и топор, и мачете, и пила, все железные инструменты.
Спускаюсь ногами на кушетку, с кушетки на пол. Проникла, Сметаю на совок битое стекло, потом ставлю раму на место. Неудобно будет лазить через окно и при этом каждый раз вынимать раму, но другие окна забраны комариной сеткой, а разрезать ее мне нечем. Можно будет попробовать ножом: если придется удирать, то лучше через задние окна, она ближе к земле.
Ну так. Я добилась своего. Что же дальше? Стою посреди комнаты, прислушиваюсь; ветра нет, тихо, озеро и деревья затаили дыхание.
Чтобы чем-то заняться, распаковываю рюкзак, достаю свои вещи, развешиваю их на стене в своей комнате. Мамина кожаная куртка на старом месте, последний раз я ее видела в комнате Анны, они ее перевесили. Единственный звук – мои шаги, топот подошв по доскам.
Что-то надо было делать дальше, но сила моя иссякла, пальцы пусты, как перчатки, глаза не видят, я осталась без руководства.
Сажусь к столу и перелистываю старый журнал: пастухи вяжут себе носки, непогода дубит кожу на их лицах, женщины, в кружевных корсетах, с ярко накрашенными губами, держат на головах корзины с бельем и улыбаются, чтобы показать, какие у них зубы и как они счастливо живут; плантации каучуконосов, заброшенные храмы, обвитые буйной зеленью безмятежные каменные боги. На обложке кружок – след от мокрой чашки, может быть, вчерашний, а может, десятилетней давности.
Я открываю банку с персиковым компотом и съедаю две желтые волокнистые половинки, с ложки каплет сладкий сироп. Потом ложусь на диван, и лицо мне черной повязкой перечеркивает сон без сновидений.
Проснувшись, вижу, что скрытый источник света за окном переместился дальше к западу, похоже, что уже поздно, часов, наверно, шесть, пора ужинать, единственные часы были у Дэвида. Но у меня есть чувство голода, негромкое нытье изнутри живота. Вынимаю раму и лезу наружу, одну ногу ощупью, осторожно ставлю на неустойчивую перекладину тачки, расцарапав колено, прыгаю вниз. Надо бы сколотить лестницу, да только нет никаких орудий. И досок, тоже.
Иду в огород. Забыла захватить нож и миску, ну да они и не понадобятся, обойдусь пальцами. Отпираю калитку, вхожу, вокруг меня – ограда из металлической сетки, за оградой – деревья, поникли, будто подняли; все, что растет внутри, кажется серым в вечерних сумерках; воздух тяжелый, давит. Принимаюсь выдергивать лук и морковь.
Наконец я плачу, это впервые, я смотрю со стороны, как у меня это получается; сижу на корточках возле салата, он уже зацвел, дыхание у меня прерывается, тело напряжено, влага наполняет рот, вкус рыбный. Но я не скорблю, я их обвиняю: «Как вы могли?» Они ведь нарочно, они были властны над своей смертью, просто решили, что пора уйти, и ушли, воздвигли эту преграду. А не подумали, каково будет мне, кто обо мне позаботится? Я возмущена, что они это допустили.
– Я здесь! – кричу я. – Вот она я!
Голос все тоньше, пронзительнее, сначала от досады, затем от страха, что нет ответа; был такой случай: мы играли в прятки после ужина, и я спряталась слишком хорошо, слишком далеко, меня не могли найти. Древесные стволы все на одно лицо – такой же толщины, такого же цвета, невозможно отыскать собственный след; надо ориентироваться по солнцу и держаться одного направления, куда ни пойдешь, рано или поздно выйдешь к воде. Главное – не потерять голову с перепугу, не ходить кругами.
– Я здесь!
В ответ – ничего. Утираю соль с лица, пальцы у меня в земле.
Если я сильно захочу, если помолюсь, они ко мне вернутся. Они и сейчас здесь, я чувствую, они ждут, спрятавшись за поворотом на тропинке или в высокой траве за оградой, они упираются, не идут, но, где бы они ни затаились, я смогу заставить их выйти из укрытия.
Растопила печку и готовлю себе ужин, не зажигая света. Накрывать на стол незачем: ем ложкой прямо из кастрюли и со сковородки. Грязную посуду буду складывать, пока не соберется побольше, а когда помойное ведро наполнится, спущу его в окно на веревке.
Снова вылезаю наружу и высыпаю птицам в кормушку остатки консервированного мяса. Тучи, темно-серые, густые, теснятся со всех сторон, наваливаются сверху. Поднялся ветер, его порывы проносятся над озером, как содрогания, далеко на юге темной полосой идет дождь. Всполохи света, но грома нет; летят пригоршни листьев.
Иду по дорожке к отхожему домику, заставляю себя идти не спеша, не подпуская близко страх, глядя на него со стороны. Запираю изнутри дверь на крючок, я дверей боюсь, ведь сквозь них не видно, я боюсь, как бы она вдруг не распахнулась от ветра, эта дверь. Обратно под уклон бегу, бегу, а сама велю себе остановиться: я уже не маленькая, я уже выросла.
Сила моя меня бы защитила, но она ушла, иссякла, от нее теперь проку не больше, чем от серебряных пуль или крестного знамения. Но дом меня укроет; вон он уже виднеется в конце дорожки. Забравшись в окно, опять навешиваю раму, пристегиваю крючки, загораживаюсь решеткой оконных переплетов. Но четыре стекла выбиты, чем закрыть отверстия? Пробую заткнуть смятыми листами из журналов и альманахов, но ничего не выходит, дырки чересчур велики, комки бумаги не держатся и падают на пол. Были бы у меня гвозди и молоток.
Я засветила лампу, но из разбитого окна сквозит, язычок пламени дрожит и синеет, и, кроме того, когда горит лампа, не видно, что делается снаружи, Задуваю ее и сижу в потемках, слушая, как шумит ветер. Но дождя нет.
Потом я подумала, что надо лечь спать. Я не устала и днем выспалась, но больше делать все равно нечего. У себя в комнате долго стою, сама не понимая, отчего мне боязно раздеться: может быть, боюсь, как бы они не вздумали вернуться за мной, тогда придется быстро удирать; но в грозу они Не поедут, Эванс разбирается в таких вещах, он знает, что открытая вода – самое опасное место, все дело в электричестве, и тело, и вода – хорошие проводники тока.
Отворачиваю и подвязываю штору, чтобы было побольше света. У окна на гвозде висит кожанка моей матери, но в ней – никого, она пустая. Я прижимаюсь к ней лбом. Запах кожи, запах потери, невосполнимости, Но я не могу об этом думать. Ложусь на постель прямо в одежде, и через минуту в крышу ударяют первые капли дождя. Сначала накрапывает, потом начинает барабанить, сливается в лавинный грохот, обступает со всех сторон. Я чувствую, как озеро поднимается, заливает отмель и крутой берег, деревья обрушиваются в воду, точно подмытые песчаные башни, вздевают кверху корни, дом сходит с фундамента и плывет, качаясь, качаясь…
Среди ночи меня будит тишина, дождь перестал. Тьма непроглядная, я ничего не вижу, пытаюсь пошевелить хоть пальцем – и не могу. Волнами накатывает страх, подступает, как звук шагов; я не знаю, откуда он исходит, он окружает меня со всех сторон, одевает, как броня, как моя напрягшаяся от страха кожа. Они хотят проникнуть в дом, хотят, чтобы я открыла окна и дверь, они не могут сами. Вся их надежда на меня, но я их больше не узнаю; каким бы путем они ни вернулись, они уже не будут прежними. Я этого хотела, я их вызвала, их появление логично; но логика – это стена, возведенная мною, и по ту сторону находится ужас.
Надо мной постукивают по крыше пальцы капели, вода с деревьев. Я слышу дыхание, затаенное, пристальное, не внутри дома, но повсюду вокруг.







