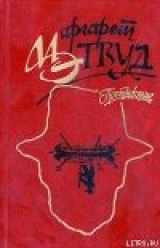
Текст книги "Постижение"
Автор книги: Маргарет Этвуд
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Вся беда в этой шишке, которая торчит сверху на нашем теле. Я не против тела и не против головы, меня только возмущает шея, из-за нее создается ложное впечатление, будто они раздельны. Не прав язык: тело и голова должны обозначаться одним словом. Если бы голова начиналась прямо от плеч, как у червя или лягушки, и не было бы этой перетяжки, этого обмана, на тело бы не смотрели сверху вниз и не манипулировали бы им, как роботом или марионеткой, тогда бы, наверно, уразумели все-таки, что раздельно друг от друга не могут существовать ни голова, ни тело.
Затрудняюсь сказать точно, когда именно я начала подозревать правду о себе и о них, о том, кто я и во что превращаются они. Отчасти понимание явилось мгновенно, как разворачиваются вдруг флаги, как вырастают в одночасье грибы, но она всегда была во мне, эта истина, и нуждалась только в расшифровке. Отсюда, где я нахожусь теперь, мне представляется, что я всегда и все знала, время сжимается, как мой кулак на колене, я держу в нем все разгадки и решения и силы осуществить то, что от меня теперь требуется.
Я плохо видела, нескладно переводила – языковые трудности, надо было мне говорить на своем языке. В опытах, которые ставили над детьми, отдавая их на воспитание глухонемым нянькам, запирая в чуланы, лишая слов, было обнаружено, что после определенного возраста ум уже не способен усвоить никакой язык; но откуда им знать, может быть, ребенок изобретал свой собственный язык, только о его существовании никто, кроме самого ребенка, даже подозревать не мог. Это все было в зеленом пособии для старшеклассников «Твое здоровье», там еще имелись иллюстрации, фотографии кретинов и людей с гипофункцией щитовидной железы, калек и уродов с черными полосами поперек лица, наподобие повязки на глазах у осужденных преступников; только в таком виде нам сочли пристойным показать обнаженное человеческое тело. Все остальное было диаграммы, цветные чертежи с прокладками из прозрачной бумаги, а на ней обозначения и стрелки: яичники – лиловые морские существа, матка – груша.
Сквозь закрытую дверь ко мне доносятся голоса и шлепанье карт по столу. Консервированный смех, они носят его с собой, такие микропленочки на катушках, и кнопка включения спрятана где-нибудь на груди. С мгновенной перемоткой.
В тот день, когда Эванс уехал, мне было сначала не по себе: на острове небезопасно, мы тут как в ловушке. Они этого не понимали, но я-то знала, я несла за них ответственность. Я постоянно чувствовала наблюдающие за нами глаза, его близкое присутствие под прикрытием лиственной завесы – сейчас выскочит или, наоборот, бросится с треском убегать, заранее не угадаешь, я все время думала о том, как их оградить; они в безопасности, покуда держатся вместе; возможно, что он и безобиден, но быть уверенной нельзя.
Мы кончили обедать, и я понесла крошки в кормушку для птиц. Сойки уже проведали, что в хижине появились люди; сообразительные птицы, они понимали, что человек возле кормушки означает пищу; а может быть, среди них еще оставалось несколько долгожителей, которые помнили мою мать, как она стояла с вытянутой рукой. Две или три настороженно держались с краю, дозорные.
Джо вышел следом за мной и смотрел, как я рассыпаю крошки. Потом он взял меня за локоть и нахмурил брови, это могло означать, что он хочет со мной поговорить, для него речь – трудное дело, целое сражение, слова выстраивались колонной, спрятанные в бороде, и выползали по одному, тяжелые и неуклюжие, как танки, пальцы его сдавили мне руку – предваряющий спазм, но тут появился Дэвид с топором.
– Эй, хозяйка, – сказал он, – что-то, я смотрю, у вас поленница – от земли не видать. В самую пору поработать захожему молодцу.
Ему хотелось сделать что-нибудь полезное; и правильно он сказал, если нам жить здесь целую неделю, понадобятся еще дрова. Я велела ему поискать сухой стояк, но только не чересчур старый и не гнилой.
– Слушаюсь, мэм, – сказал он и отвесил мне клоунский поклон.
Джо взял маленький топорик и пошел вместе сДэвидом. Они ведь городские, как бы не оттяпали себе ступни, хотя это был бы выход из положения, мелькнуло у меня в голове, тогда бы, хочешь не хочешь, пришлось уезжать. Но насчет него их можно было не предостерегать, они вооружены, он это сразу заметит и убежит.
Когда они ушли по тропе и скрылись из глаз, я сказала, что пойду полоть грядки в огороде – тоже полезная работа, которую надо было сделать. Я хотела быть все время чем-то занятой, соблюдать хоть видимость порядка, и скрывать свой страх и от них и от него. Страх имеет особый запах, как и любовь.
Анна почувствовала, что предполагается ее участие, бросила детектив и притушила сигарету, выкуренную только наполовину, у нее теперь была дневная норма. Мы повязали головы косынками, и я отправилась в сарай за граблями.
Огород был через край залит солнцем, в нем было жарко и душно, как в парнике. Мы опустились на колени и стали выдергивать сорняки; они не давались, держались за землю, тянули за собой большие комья или же обламывались и оставляли в почве свои корни, чтобы потом возродиться; я выкапывала их из прогретой земли руками, перепачканными зеленой растительной кровью. Показались овощи, бледные, угнетенные, чуть не до смерти удушенные. Мы с Анной граблями собрали вырванную траву в кучи и оставили между грядками вянуть и медленно умирать; потом ее сожгут, как ведьму на костре, чтобы не воскресла. Появилось несколько комаров и слепней с радужными глазами и жалами, как раскаленные иглы.
Работая, я время от времени подымала голову, оглядывала забор, газон, но никого не было. Может быть, его и узнать-то нельзя будет, преображенного старостью, безумием, лесом, – куча изорванного сопревшего тряпья, лицо в шерсти и палых листьях. История, думала я, бежит быстро.
Годы ушли у них на то, чтобы устроить огород, местная почва оказалась чересчур песчаной и худосочной. Этот вытянутый участок искусственного происхождения, плод трудов, – компост, перелопаченный с черной болотной грязью и лошадиным навозом, который они привозили на лодке из зимних лагерей лесосплавщиков, когда там еще держали лошадей, для того чтобы подволакивать бревна к замерзшему озеру. Отец с матерью таскали навоз в больших корзинах на носилках, два шеста, а поперек набиты доски, один держит спереди, другой – сзади.
Я еще помнила более ранние времена, когда мы жили в палатках. Где-то вот здесь мы нашли наше ведро, в котором хранились куски сала, ведро было разодрано и смято, как бумажный пакет, на краске следы когтей и клыков. Отец как раз отправился в далекую экспедицию, он часто тогда уезжал изучать состояние лесов для бумагоделательной компании или для правительства, я никогда толком не знала, на кого именно он работал. У матери оставался запас еды на три недели. Медведь вломился в продуктовую палатку через заднюю стенку, мы слышали ночью, он перетоптал яйца и помидоры, содрал крышки с консервных банок, разбросал хлеб в упаковке из вощеной бумаги и побил банки с джемом, мы утром спасли, что смогли. Единственное, к чему он не проявил интереса, была картошка, и мы как раз сидели у костра и завтракали этой самой картошкой, когда он вдруг материализовался на тропе, брел, принюхивался, грузный, плоскостопый, похожий на оживший клыкастый Меховой коврик: вернулся за добавкой. Мама встала и Пошла ему навстречу; он остановился и издал отрывистый рык. Она крикнула ему одно слово – что-то вроде «брысь!» – и замахала руками, и тогда он повернулся к ней задом и потопал обратно в лес.
Эта картина осталась у меня в памяти: мама со спины, руки вскинуты, будто она хочет взлететь, и перед нею устрашенный медведь, Потом, рассказывая этот случай, она говорила, что напугалась до смерти, но я не могла в это поверить, она так уверенно, твердо держалась, словно знала всесильное волшебное заклинание – слово и жест. Она тогда была в своей кожаной курточке.
– Ты принимаешь пилюли? – вдруг ни с того ни с сего спросила Анна.
Я вздрогнула и подняла на нее глаза. Целую минуту соображала, зачем ей надо это знать. Раньше такие вопросы называли личными.
– Перестала, – ответила я.
– Я тоже, – мрачно сказала она, – Кого я знаю, все бросили. У меня тромб в ноге образовался, а у тебя что?
На щеке у нее была грязь, розовый грим расплавился от жары, как асфальт.
– Я стала плохо видеть, – ответила я. – Все как в тумане. Мне сказали, что месяца через два пройдет, но ничего не прошло.
Чувство было такое, будто вазелин в глаза попал, но этого я ей не сказала.
Анна кивнула; она дергала сорняки, словно волосы рвала.
– Сволочи, – говорила она, – такие умники, могли бы, кажется, придумать что-нибудь, чтобы действовало и не убивало. Дэвид хочет, чтобы я опять начала их принимать, он говорит, это не вреднее аспирина, но ведь следующий раз тромб может образоваться в сердце, мало ли где. То есть я лично рисковать не намерена.
Любовь без страха, секс без риска – вот чего им надо, и им это почти удалось, они почти что сумели, но, как в цирковом фокусе и в грабеже, «почти что успех» означает провал, и мы опять оказались там, откуда начинали. Любовь и предосторожности, предохранение. Ты предохранялась? – спрашивают они, но не до, а после. Когда-то секс имел запах резиновых перчаток, и теперь опять то же самое, нет больше этих удобных зеленых пластиковых упаковочек, с помощью которых женщина могла притворяться, что она по-прежнему естественное циклическое существо, а не химическая машина. Но скоро создадут искусственную матку, я даже и не знаю, хорошо это или плохо. После первого ребенка я ни за что больше не хотела рожать, это уж чересчур – пройти через все, и впустую, тебя запирают в больницу, сбривают с тебя волосы, связывают тебе руки и не дают смотреть, не хотят, чтобы ты понимала, хотят тебя уверить, что здесь их власть, а не твоя. Втыкают в тебя иглы, чтобы ты ничего не слышала, ты словно свиная туша, и все наклоняются над тобой: техники, механики, мясники, студенты, неловкие или насмешливые, практикующиеся на твоем теле, ребенка достают вилкой, будто соленый огурец из банки с рассолом. А после этого накачивают тебе в жилы красную синтетическую жидкость, я видела, как она капала через трубочку. Больше никогда в жизни не позволю делать со мной такое.
Его рядом со мной не было, не помню почему; должен был бы быть, ведь его была идея и его вина. Но он приехал за мной потом на своей машине, не понадобилось брать такси.
Из лесу у нас за спиной доносилось постукивание топоров; несколько ударов, повторенных эхом, потом тишина, и снова несколько ударов топора, потом смех одного из них, и опять эхо. Эту береговую тропу вокруг острова проложил брат, гулко ухая топором и шурша в зарослях клинком мачете. За год до того, как уехал.
– Может, хватит? – спросила Анна. – По-моему, у меня сейчас будет солнечный удар.
Она села на пятки и вытащила недокуренную половину своей давешней сигареты. Я думаю, ей хотелось еще немножко поговорить со мной по душам, хотелось рассказать о своих болезнях, но я продолжала полоть. Картофель, лук; клубничная грядка заросла безнадежно, с ней нам не справиться, да и клубника все равно уже сошла.
За оградой в высокой траве появились Дэвид и Джо, они несли за два конца одно тонковатое бревно. Вид у них был гордый; идут с добычей. Бревно было все в затесах, они с ним сражались не на шутку.
– Эй! – крикнул Дэвид. – Как работается на плантации?
Анна встала.
– Проваливайте, – сказала она, щурясь на них против солнца.
– Да вы почти ничего не сделали, – не сдавался Дэвид. – Тоже мне огород.
Я смерила их топорную работу наметанным глазом моего отца. Он обычно пожимал им руки и при этом хитро прикидывал: умеют ли работать топором, что знают о навозе? А они стояли смущенные, умытые, в аккуратной одежке, плохо понимая, что от них требуется.
– Молодцы, – похвалила я их.
Дэвид хотел, чтобы мы принесли камеру и прокрутили несколько футов пленки: они с Джо несут бревно. Для «Выборочных наблюдений». Он сказал, что это будет его блистательный кинодебют. Джо сказал, что мы не умеем обращаться с камерой. Но Дэвид возразил, что всех-то делов нажимать кнопку, это и дебилу доступно, и потом, если получится не в фокусе или передержано, это даже лучше, добавится элемент случайности, вроде как художник брызгает краску на холст, это будет органично. Но Джо спросил: если мы испортим камеру, кто за это заплатит? Кончили тем, что они после нескольких попыток кое-как воткнули в бревно топор и по очереди позировали друг другу, стоя со скрещенными на груди руками, одна нога на бревне, точно это какой-нибудь лев или носорог.
Вечером мы играли в бридж двумя старыми здешними колодами, чуточку даже засаленными, одна колода с синими морскими коньками на рубашках, другая – с красными. Дэвид с Анной – против нас с Джо. Они без труда выигрывали: Джо не знал толком, как в это играют, а я не играла тысячу лет. Да я и никогда не умела по-настоящему, мне больше всего нравилось начало, когда поднимают розданные карты и разбирают их по порядку.
Потом я подождала Анну, чтобы вместе идти в нужник; обычно я шла первая и одна. Мы обе взяли по фонарику; от них под ноги падали охранительные круги слабого желтого света и двигались перед ступающими ногами. Какие-то шорохи, жабы в сухих листьях, один раз дробно простучал по земле лапой кролик. Пока знаешь, что это за звуки, не страшно.
– Жалко, я не взяла свитера потеплее, – сказала Анна, – Не знала, что тут так холодает.
– В доме есть плащи, – предложила я ей. – Попробуй надень какой-нибудь.
Когда мы вернулись в дом, мужчины уже лежали в постелях; они не трудились таскаться в такую даль, когда темнело, мочились прямо на землю. Я почистила зубы, Анна села снимать грим при свете свечи и поставленного на попа фонарика; лампу они, ложась, задули.
Я пошла к себе и разделась; Джо что-то забормотал в полусне, я обвила его рукой.
Снаружи был только ветер и шумящие на ветру деревья, больше ничего. На потолке стоял желтый кружок от Анниного фонарика, похожий на мишень; он сдвинулся с места, это Анна пошла к себе в комнату, и мне стало слышно, все, что там происходит, – паническое дыхание Анны, словно на бегу, потом включился голос, не обычный ее голос, а искаженный, как искажено было, должно быть, при этом ее лицо, жалобный, молящий, точно нищенский: «Ради Бога! Ради Бога!» Я засунула голову под подушку, не хотелось этого слышать, скорей бы уж все было кончено, но там все продолжалось. «Замолчи!» – шепотом твердила я, но она не замолкала. Она молилась самой себе, можно было подумать, что никакого Дэвида там с ней вообще нет. «Боже, о Боже, ну Боже!» А потом нечто иное, уже не слова, а чистая боль, прозрачная, как вода, вопль животного, когда захлопывается капкан.
Это вроде смерти, подумала я, плохо не само происходящее, плохо быть при этом свидетелем. Они, Наверно, тоже слышали нас. Правда, я молчу.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Закат был красный, красно-багровый, и назавтра было солнечно, как я и предполагала; когда нет радио и барометра, поневоле начнешь пророчествовать самостоятельно. Пошел второй день недели, я их зачеркивала в уме, как узник делает зарубки на стене своей камеры; такое чувство, будто я натянута, как веревка, высыхающая на солнце, то обстоятельство, что он до сих пор не появился, только увеличивало вероятность его появления в любую минуту. Седьмой день маячил еще где-то далеко впереди.
Мне хотелось увезти их с острова, защитить их от него, защитить его от них, оградить всех от знания – того и гляди, они разбредутся осматривать остров, затеют прокладывать новые тропы, они уже маялись от безделья, пищей и топливом запаслись, больше заняться совершенно нечем. Всходило солнце, плавно плыло к закату, сами собой перемещались тени, беспредельное небо, пустые неоглядные дали, только редкий самолет прогудит в вышине, облачный росчерк, – для них это, наверно, не жизнь, а баюканье в колыбели.
Утром Дэвид удил с мостков и ничего не выудил; Анна читала, она уже принялась за четвертый или пятый детектив. Я вымела полы, швабру опутала паутина из светлых и темных нитей: это мы с Анной причесывались перед зеркалом; потом я попробовала поработать, Джо сидел на лавке у стены, обхватив руками колени, как гном на лужайке, и смотрел на меня. Подымая голову, я всякий раз встречала взгляд его глаз, синих, точно острия шариковых ручек, точно очи супермена; даже отвернувшись, я чувствовала, как его рентгеновское зрение проникает мне под кожу, ощущала легкое покалывание, будто он меня просвечивает. Трудно было сосредоточиться. Я перечитала две сказки: про короля, который научился разговаривать по-звериному, и про живой источник, но не пошла дальше грубого наброска человеческой фигуры, что-то вроде футболиста; предполагалось, что это великан.
– В чем дело? – спросила я наконец, откладывая кисть, сдаваясь.
– Ни в чем, – ответил Джо. Он снял крышку с масленки и стал пальцем протыкать в масле дырки.
Мне бы уже давно надо было сообразить, что происходит, надо было покончить с этим, положить конец еще в городе. С моей стороны было нечестно оставаться с ним, он привык, поймался на эту удочку, а я и не подозревала, он тоже. Если перестаешь различать разницу между удовольствием и страданием, значит, яд вошел тебе в кровь. Это моя вина, это я скормила ему огромные дозы пустоты, а он оказался не подготовлен, для него это чересчур сильное снадобье, он должен был пустоту чем-то заполнить, так люди, запертые в абсолютно пустом помещении, начинают видеть какие-то узоры.
После обеда они сидели и выжидательно смотрели на меня, словно надеялись, что я сейчас раздам им цветные карандаши и пластилин, или организую хоровое пение, или скажу, в какие игры им играть. Я порылась в прошлом: чем мы занимались в хорошую погоду, если не было никакой работы?
– Хотите, поедем по чернику? – предложила я.
Предложила будто приятное развлечение; на самом-то деле это та же работа, только в ином обличье, а для них – игра.
Они с радостью ухватились за новинку.
– Вот это смак! – одобрил Дэвид.
Мы с Анной наготовили бутербродов с арахисовым маслом, потом все намазали носы и мочки ушей Анниным лосьоном от загара и вышли из дому.
Дэвид и Анна сели в зеленое каноэ, а мы поплыли в том, что потяжелее. Они так и не научились толком грести, но сегодня ветра почти не было. Мне приходилось прилагать уйму усилий, чтобы лодка не рыскала, Джо не умел держать курс и не хотел в этом признаваться, отчего править было еще труднее.
Мы кое-как обогнули каменный мысок, к которому ведет по берегу тропа, и очутились посреди архипелага островков; в сущности, это верхушки затопленных холмов, вероятно, они образовывали единую цепь до того, как был поднят уровень озера. Островки все слишком малы, чтобы иметь отдельные названия; некоторые – просто торчащие из воды скалы, на них теснятся два-три дерева, крепко вцепившись в скальную породу узловатыми корнями. На одном таком острове, немного дальше, находилась колония серых цапель. С воды, далее совсем близко, ничего не видно, надо приглядываться: птенцы в гнездах держат свои змеевидные шеи и ножи-клювы совершенно неподвижно, не отличишь от сухих веток. Все гнезда лепились на одном засохшем дереве, на старой белоствольной сосне, расположенные кучно в целях взаимной безопасности, как домики на городской окраине. Цапли, если могут достать друг друга клювом, сразу затевают драку.
– Видишь их? – кивнула я Джо.
– Кого? – не понял он. Он выбивался из сил и обливался потом, ветер здесь был встречный. Сколько он ни вглядывался, ни задирал голову, он заметил их только тогда, когда одна взлетела и снова опустилась на дерево, для равновесия распустив крылья.
Дальше за цапельным островом был еще один, побольше, плоский, на нем росло несколько смолистых сосен, прямые, как мачты, оранжевые стволы вздымались над клочковатыми зарослями черничника. Мы причалили, привязали лодки, и я раздала каждому по железной кружке. Черника только-только начала поспевать, темные точки рябили среди зелени кустиков, как первые капли дождя на водной глади. Я взяла свою кружку и стала собирать ягоду над самым берегом, здесь она поспевает раньше.
Во время войны, или это было уже позже, нам платили по центу за кружку; тратить деньги было не на что, я сперва даже не понимала, что это за металлические кружочки: листья с одной стороны, а с другой – отрубленная человеческая голова.
Я вспоминала тех, других, они тоже сюда приезжали. Их и тогда уже на озере было немного, власти поместили их где-то в другом месте, в резервациях, но одно семейство осталось. Каждый год в черничный сезон они появлялись на озере на наших ягодных местах, словно материализуясь из воздуха, скользили по воде в старом ветхом челне, впятером, вшестером: на корме – отец, голова сморщенная, в каких-то отростках, как сухой клубень; мать – похожая на тыкву, волосы спереди до макушки сбриты; остальные – дети и внуки. Подплывут к берегу посмотреть, много ли ягоды, совсем близко, лица бесстрастные, недоступные, но при виде нас снова берутся за весла и скрываются за ближним мысом или в соседней бухте, будто их и не было. Где они жили зимой, никто у нас не знал, но один раз мы, проезжая, видели на шоссе двух ихних детишек, они стояли у обочины с кружками черники, продавали. Мне только теперь пришло в голову, что они, должно быть, нас ненавидели.
У меня за спиной зашуршали кусты, на берег спускался Джо. Он присел рядом на камень, кружка наполнена дай Бог на треть, много листьев и недозрелых, зелено-белых, ягод.
– Отдохни немного, – сказал он мне.
– Еще минутку.
Я уже почти кончила. Было жарко, от озера отражался слепящий свет; ягоды на солнце были такой синевы, что казались освещенными изнутри. Они падали в кружку тяжело и влажно, как капли воды.
– Нам надо пожениться, – сказал Джо.
Я бережно поставила полную кружку на камень и посмотрела на него, заслонив ладонью глаза. Меня разбирал смех, это прозвучало так не к месту, казалось бы, зачем столько мороки, казенная словесность, клятвы. Притом он перепутал порядок, он ведь еще не спрашивал, люблю ли я его, а этот вопрос должен идти раньше, я бы тогда была подготовлена.
– Зачем? – спросила я, – Мы и так живем вместе. Для этого не требуется выправлять документы.
– А я считаю, надо, – сказал он.
– Да разницы же никакой, – возразила я. – Ничего не изменится.
– Тогда чего же?
Он придвинулся ближе, он рассуждал логично, он чем-то угрожал мне. Я обернулась, ища подмоги, но те двое были на другой стороне островка, розовая рубашка Анны ярким пятнышком рдела на солнце, точно флажок бензозаправочной станции.
– Нет, – привела я единственный аргумент, которым можно опровергнуть логику.
Он потому и настаивал, что я не хотела, ему приятно было бы, чтобы я пожертвовала своим нежеланием, отвращением.
– Иногда мне кажется, – проговорил он, четко расставляя слова на равном расстоянии одно от другого, – что ты на меня плевать хотела.
– Да нет же, – возразила я, – я на тебя плевать не хотела.
Похоже ли это получилось на признание в любви? Одновременно я соображала, хватит ли тех денег, что у меня в банке, и сколько времени уйдет на то, чтобы собраться и съехать с квартиры, подальше от керамической пыли, от гнилого подвального духа и от чудовищных человекообразных горшков, которыми он ее заставил, и скоро ли можно снять новое жилище? Докажи свою любовь, говорят они. Ты хочешь, чтобы мы поженились? Нет, давай с тобой переспим, А хочешь просто так спать с ним – нет, давай поженимся. Что угодно, лишь бы моя взяла, лишь бы заполучить в руки трофей и потом размахивать им на своем мысленном параде победы.
– А я вижу, что хотела, – повторил он не столько сердито, сколько обиженно, а это хуже, с его гневом я могла бы сладить. Он вырастал у меня на глазах, становился чужим и трехмерным; подступал страх.
– Послушай, – сказала я, – я уже была один раз замужем, и ничего хорошего из этого не вышло. И ребенок у меня был. – Мой последний козырь, только не нервничать. – Второй раз я этому подвергаться не хочу.
Я говорила правду, но слова выходили у меня изо рта механически, словно у говорящей куклы, у которой веревочка на спине и вся речь записана на пленку, потянешь – разворачивается с катушки, слово за словом, все по порядку. Я всегда смогу повторить то, что только что сказала: я пыталась – и потерпела неудачу, теперь у меня иммунитет, я не такая, как все, я увечная. Не то чтобы я от этого не страдала, но я сознавала свою убогость, такой уж я человек. Замужество вроде пасьянсов или кроссвордов: либо у тебя лежит к этому душа, как, например, у Анны, либо же нет. И я на опыте удостоверилась, что моя душа к этому не лежит. Малая нейтральная страна.
– У нас было бы иначе, – сказал он, пропустив мимо ушей мои слова про ребенка.
Когда я выходила замуж, мы заполняли анкету: имя, возраст, место рождения, группа крови. Мы регистрировались на почте, нас поженил мировой судья, и с бежевых стен благосклонно смотрели писанные маслом портреты бывших почтмейстеров. Мне запомнились запахи: конторский клей, потные носки, от раздраженной делопроизводительницы пахло несвежей блузкой и дезодорантом, а из соседней двери тянуло холодом дезинфекции. День был жаркий, когда мы вышли на солнце, то сначала не могли смотреть, а потом увидели взъерошенных голубей на затоптанном газоне перед почтой, они копошились вокруг фонтана. Фонтан был скульптурный: дельфины, а посредине херувим без половины лица.
– Ну, вот все и позади, – сказал он, – Теперь тебе лучше?
Он обвил меня руками, защищая от чего-то, от будущего, и поцеловал в лоб.
– Озябла? – спросил он. У меня так дрожали ноги, что я едва стояла, и появилась боль, медленная, как стон. – Пошли, – сказал он. – Сейчас доставим тебя домой. – Он приподнял и повернул к свету мое лицо, вгляделся. – Надо бы тебя, наверное, донести на руках до машины.
Он говорил со мной как с больной, а не с новобрачной. В одной руке я держала сумку или чемодан, другую сжала в кулак. Мы пошли на голубей, и они взлетели вокруг нас, пернатое конфетти. В машине я не заплакала, я не хотела на него смотреть.
– Я знаю, это неприятно, – сказал он. – Но все-таки так будет лучше.
Буквально такими словами. Гибкие пальцы на рулевом колесе. Оно поворачивалось, правильный круг, шестеренки сцеплялись, включались, мотор тикал, как часы, глас разума.
– Зачем ты со мной это сделал? – не выдержала я. – Ты все-все испортишь.
И сразу пожалела, будто наступила случайно на маленького зверька, он вдруг сделался такой несчастный: он отрекся от своих, как я считала, принципов, предал их во имя собственного спасения от меня за мой же счет, и вот ничего у него не вышло.
Я взяла его за руку, он не отнял ее и сидел понурый, как выжатая половая тряпка.
– Я недостаточно хороша для тебя, – произнесла я слова-девиз, выбитые на скрижалях счастья. Я поцеловала его в висок. Я тянула время, и потом, я его боялась: взгляд, который он на меня бросил, когда я отодвинулась, выражал растерянность и бешенство.
Мы сидели за проволочной сеткой в загородке; Джо в песочнице спиной к нам сгребал песок в большую кучу. Он уже съел свою порцию пирога, а мы, остальные, еще жевали. В доме невозможно было находиться из-за жары: печь топилась целых два часа. У них были фиолетовые рты и синие зубы, обнажавшиеся при разговоре и смехе.
– В жизни не ел пирога вкуснее! – провозгласил Дэвид. – Мамочка моя такие пекла.
Он причмокнул и всем видом изобразил восхищение, как актер телерекламы.
– Перестань, – пристыдила его Анна. – Не можешь расщедриться хоть на один паршивый комплиментик.
Дэвид вздохнул и откинулся назад, к стволу дерева, ища глазами поддержки у Джо. Но от Джо ничего не дождался и тогда воздел глаза к небу.
– Вот она, жизнь, – произнес он, помолчав. – Нам надо основать здесь колонию, то есть коммуну, объединиться еще с несколькими людьми и отказаться от семьи – ячейки ядерного города. А что, здесь неплохо, если только вышвырнуть этих сволочных свиней, американцев. И будем спокойно жить-поживать.
Ему никто не ответил; он снял один ботинок и стал задумчиво скрести себе подошву.
– По-моему, это бегство от жизни, – вдруг сказала Анна.
– Что именно? – переспросил Дэвид с видом раздраженного долготерпения, будто его прервали на полуслове. – Вышвыривание свиней?
– Да ну тебя к черту, – отмахнулась Анна. – Ты сам ни в жизнь не согласишься.
– О чем ты говоришь? – вскипел Дэвид, изображая негодование.
Но она молчала, обхватив колени и выдыхая через ноздри сигаретный дым. Я поднялась и стала собирать тарелки.
– Не могу спокойно смотреть, когда она наклоняется, – сказал Дэвид. – У нее аппетитный зад, тебе не кажется, Джо?
– Можешь взять его себе, – буркнул Джо, разравнивая песочную гору, он все еще злился.
Я соскребла присохший край корочки и бросила в печку, потом вымыла тарелки, вода сразу сделалась красновато-синяя, венозного цвета. Притащились и они, в карты играть было лень, уселись вокруг стола и стали читать детективы и старые журналы – «Маклин» и «Нэшнел джеогрэфик», там были номера девятилетней давности. Я их все уже прочитала, поэтому засветила свечку и пошла в комнату Дэвида и Анны взять еще.
Чтобы дотянуться до полки, мне пришлось влезть на кровать. На полке высилась стопка книг, я сняла ее целиком и опустила на стол, к свечке. Сверху был слой обычного чтива в бумажных переплетах, но под ними лежали вещи, которым там явно было не место; коричневый кожаный альбом, который должен был находиться в городе, в сундуке, вместе с мамиными нетронутыми свадебными подарками: почерневшими серебряными вазами и кружевными скатертями; и еще старые блокноты, в которых мы рисовали, когда шел дождь. Я думала, она их давно выбросила; интересно, кто из них все это сюда привез?
Блокнотов было несколько; я села на кровать и открыла первый подвернувшийся, чувство у меня было такое, будто я заглядываю в чей-то чужой дневник. Рисунки брата; красно-оранжевые взрывы, солдаты, взлетевшие на воздух, оторванные ноги, руки, головы, самолеты, танки, должно быть, он тогда уже ходил в школу и разбирался в международном положении: на машинах сбоку – крохотные свастики. Дальше шли летучие человечки в плащах-крыльях и исследователи других планет, он, помню, часами растолковывал мне эти рисунки. Вот они, забытые мною фиолетовые леса, и зеленое солнце с семью алыми лунами, и чешуйчатые живые существа с колючими хребтами и щупальцами, и растение-людоед, пожирающее неосмотрительную жертву, похожую на воздушный шар, изо рта у нее, как пузырь жевательной резинки, выдувается вопль: «Помогите!» На помощь спешат остальные исследователи, оснащенные оружием будущего: огнеметами, револьверами с раструбом, лучевыми пушками. А на заднем плане – их межпланетный корабль, так весь и топорщится аппаратурой.







