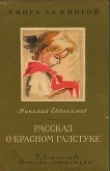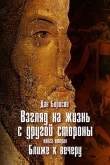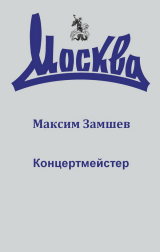
Текст книги "Концертмейстер"
Автор книги: Максим Замшев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Он оттянулся до телефона, набрал номер.
Долгие длинные гудки.
Его босые ноги впитывали прохладу паркетного пола. Тапочки, которые ему утром дала мать, как назло, не попадались на глаза. Наверное, под кроватью. Он нагнулся, пошарил рукой. Так и есть.
Вспомнилось, что Светлана Львовна предлагала ему перед сном пижаму. Интересно, какая же это пижама? Неужели его? За столько лет она не избавилась от его вещей? Ждала, что он вернется… Как-то не складывалось все это в голове в единую картину: мать никогда не искала его, но хранила его вещи? Между тем холод уже запустил по телу мелкие мурашки.
Зря он отказался. Пижама сейчас бы не помешала.
Рубашка, брюки и свитер, нежно обнимавшие спинку основательного стула, напоминали ему о том, что здесь он гость и ему когда-нибудь предстоит одеться и уйти…
Может, крикнуть мать и все же попросить какую-нибудь домашнюю одежду? Димка, похоже, по росту такой же, как он, и наверняка у него что-нибудь имеется. Может быть, она Димкину пижаму и имела в виду. И не стоит ничего придумывать?
– Мама! – получилось неожиданно громко. Непрочная тишина квартиры покачнулась от этого звука, как от мощной волны, а сам Арсений словно столкнул внутри себя под откос давно стоявший на запасном пути поезд.
Сколько лет он уже не звал ее!
Пространству вокруг него потребовалось некоторое время, чтобы вобрать в себя его крик, а потом, будто из небытия, вернуть его негромкими фортепианными звуками «Мимолетности» Сергея Прокофьева.
Арсений, как был в майке и трусах, встал и как загипнотизированный пошел на это чуть неуклюжее чередование аккордов, быстро поняв, что дед играет не на своем рояле в кабинете, а на его пианино, стоявшем в гостиной. Инструмент идеально настроен, отметил Арсений. Значит, кто-то заботился о нем все эти годы. Старый Норштейн неспроста выбрал именно этот прокофьевский цикл.
Эта первая «Мимолетность» давным-давно, как раз в год, когда родился Димка и они с дедом невольно отделились от другой, всецело занятой малышом части семьи, никак не получалась у Арсения. Мудрый педагог Артобалевская задала Арсению несколько пьес из цикла, планируя, что он сыграет их на школьном концерте в честь 8 Марта и что это даст ему новый толчок в осмыслении музыкального пространства. Арсений быстро справился с прокофьевскими квазивиртуозными штучками, играл бойко и пламенно, гармонично вплетая в музыкальный пир солнечного маэстро характерный сдержанный лиризм. Но только самая первая вещь никак не давалась. Особых технических каверз она не таила, но форма все время разваливалась, особенно в начале. Как Артобалевская ни билась на уроке, все впустую. Какая-то незримая преграда мешала мальчику проникнуть в музыкальную тайну первой «Мимолетности».
Лев Семенович, конечно, слышал, что Арсений что-то не то творит с прокофьевскими замыслами, но полагал, что феноменальная музыкальная интуиция мальчика выведет его из этого лабиринта невнятицы.
Уже до концерта в честь Международного женского дня оставалось совсем чуть-чуть, а «Мимолетность» все ускользала из-под пальцев Арсения, улетая от него на такое расстояние, с какого он не мог ее различить, вобрать в себя во всей прихотливости аккордов, ангельской суеты сбивчивых мотивов, своевременности подголосков, тембровой полифоничности насыщенных нотных пластов.
И вот однажды дед, прямо посреди его домашних занятий, положил ему руку на плечо и предложил пойти прогуляться. Арсений недоуменно вскинул брови, запротестовал, мол, нет времени, концерт на носу, но Лев Семенович настоял.
Тьма с привычной усталостью конца зимы уже воцарилась в вечной советской столице, воцарилась не как тиран, а как просвещенный монарх, оставив своим подданным белый свет фонарей, вялые проблески несколько сиротских и чересчур громоздких витрин, приглушенный свет домашних окон как надежду на грядущую весеннюю демократию. Снег в том году скукожился непривычно рано и затаился в своей, в черных оспинках, болезни во дворах, в углах домов, в основании своенравных городских возвышенностей. С одного из таких возвышений спускался их дом. Арсений, когда был маленький, даже удивлялся, почему дом не съезжает с этой горки, пока отец не объяснил ему, что есть такая наука – градостроение и она все всегда предусматривает.
Дед и внук, выйдя из подъезда, свернули налево и сразу оба чуть не полетели на коварно скользком предвесеннем асфальте. Не ясно, кто кого удержал, дед внука или внук деда, но оба в итоге все же устояли на ногах и взаимно напутствовали друг друга в последующей осторожности.
Миновав край дома, они прошли красивую, но безбожно заброшенную церковь с нелепой табличкой около входа «Исторический архив». Чуть левее, через дорогу, темнело здание Телеграфа, отталкивая от себя вечерний шелестяще-влажный воздух казенным освещением из громадных окон.
Дед не произносил ни одного слова, а Арсений послушно ждал. Он никогда не торопил взрослых, если догадывался, что они собираются поведать ему нечто важное.
Между тем Лев Семенович остановился, задумался, поглядел в сторону близкой улицы Горького, где перемещались люди в основном с опущенными в землю глазами, куда-то мучительно спешащие и ничего вокруг не замечающие. Показалось, что он чуть отшатнулся от этой человеческой неостановимой бессмыслицы и пошел в противоположную сторону. Арсению подумалось, что если бы он остался стоять, дед не сразу бы и заметил…
Улица Огарева обрастала своими домами постепенно, в разное время. После 1917 года новая власть приспосабливала старые городские усадьбы со всеми их флигелями под свои нужды, иные превращая в дома с многонаселенными коммуналками, а другие в гражданские и военные учреждения. Вдали улица Огарева упиралась в улицу Герцена, и в перспективе могло показаться, что это тупик.
– А в какой тональности написана первая «Мимолетность»? – вдруг спросил Лев Семенович, словно его обуял приступ склероза и он не в состоянии вспомнить то, что прекрасно раньше знал.
– Почему ты спрашиваешь, дедушка? – Арсений с тревогой впился глазами в упрямый профиль. – Ты что, забыл? Во фригийском ми миноре.
– А ты в этом уверен? – Лев Семенович, не замедляя шага, повернулся к Арсению и подмигнул ему с дурацкой, как почудилось Арсению, фамильярностью.
Мальчик сосредоточился: что имеет в виду его дед, композитор, знавший Прокофьева лично, разбирающийся в его музыке лучше, чем в чем-либо другом? Сергей Сергеевич поделился с ним какой-то тайной? Но какой? Ми минор. Фригийский. Он стал представлять в голове музыку. Почти уже ненавистную ему, никак в него не вмещающуюся и этим причиняющую боль.
– А тебе не кажется, что ми здесь не только первая, но и пятая ступень? – Лицо Льва Семеновича приняло почти победоносное выражение.
Арсению потребовалось несколько секунд, чтобы смириться с услышанным…
– Это двутональная тема… Она и в ля, и в ми… Все переменчиво. Понимаешь?
Арсений не понимал, но очень хотел понять…
– А как ты думаешь, почему? – Дед говорил как артист, словно в него вселились тени артистов МХАТа, когда-то живших в этом переулке, в доме 1а, называемом «Сверчок», в память о мхатовской постановке по роману Диккенса «Сверчок на печи».
Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей. Вас я не зову!
– Так себе стишки, как теперь кажется. Да и Бальмонт, эмигрант, полушарлатан… – дед вдруг осекся, как будто испугался наговорить лишнего. – впрочем, дело не в Бальмонте, а в том, что именно эти его стихи вдохновили Прокофьева на цикл. Ты вообще представлял себе время, когда это сочинялось? Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый год! Война, все неустойчиво, все живут как по инерции, но эта инерция иногда такая мощная, что невозможно остановиться. Все впечатления мира потеряли логику и связь друг с другом. Все по отдельности. Все неуверенно. Все походят на младенцев, толком не осознавших, что родились, но уже что-то бормочущих. Почва уходит из-под ног. И скоро уйдет совсем. Одной тональности нет. Это никакой не фригийский ми минор. Это и ми, и ля. И в то же время не ми и не ля.
Ни до, ни после того вечера Арсений не помнил деда таким отчаянно убедительным. Пока они шли по Герцена, чтобы повернуть на Нежданову и замкнуть круг прогулки, дед еще вспоминал, как они любили тут гулять с бабушкой, когда только познакомились, в 1924 году. Но это он уже говорил не для него, а для себя. Видимо, чтобы успокоиться.
Дома Арсений наконец сыграл первую «Мимолетность» как надо, с ощущением тревоги, которая, борясь с собой, к концу пьесы становится новой сияющей простотой.
Это была их общая музыкальная победа. Настоящая, заслуженная, с тем чувством удовлетворения, когда немножко покалывает в животе, а грудь стиснута счастливым присутствием чего-то нездешнего.
И вот теперь, спустя столько лет, дед опять заиграл эту первую «Мимолетность».
Арсений аккуратно присел в кресло за спиной играющего старика. не по-стариковски выглядит сзади его фигура: спина прямая и не напряженная, плечи не дряблые, шея – с ровной окантовкой седых волос – благородно высокая, прямо для стоячего белого воротника концертной рубашки. Закончив первую «Мимолетность», Лев Семенович снял руки с клавиатуры, повернулся к Арсению и, хитро прищурившись, спросил:
– Я тебя разбудил?
Потом, изменившись в лице и резко поднявшись, почти вскочив:
– Ты же так замерзнешь? Я тебе сейчас что-нибудь принесу…
Арсений сидел, поеживаясь; странный, не холодный озноб волнами бежал по его телу, но это являлось свидетельством не болезни, а волнения, причем волнения исцеляющего. Музыка Прокофьева, насыщенно-нежная и по-человечески цельная, сейчас соединила в нем тот февральский день 1968 года, когда они с дедом кружили между улицами Горького и Герцена, с сегодняшним, в котором горечи было хоть отбавляй, но прокофьевская двутональность понемногу эту горечь исчерпывала.
Он вдыхал запах мебели, ковровой пыли, обоев и робко, сам себе веря, твердил про себя: я дома! Дед между тем орудовал в шкафу, то доставая, то убирая обратно какие-то вещи. Наконец нашел черный, весьма новый на вид с белыми полосочками на брюках и свитере спортивный костюм.
– Вот! Твоя мама подарила мне его пять лет назад, на семидесятипятилетие, но я его так и не надевал. Мне кажется, тебе будет по размеру…
* * *
– К чему придумали эти чайники со свистком? – без всякого раздражения посетовал Лев Семенович. – Такой отвратный писк. Но Светлана в восторге от него. Говорит, на редкость удобная вещь. Необъяснимо.
Они с Арсением уже в третий раз кипятили воду: все никак не могли наговориться, все никак не могли напиться чаю.
– Дед, а ты до сих пор каждое утро приседаешь немыслимое количество раз?
Арсений в извлеченном из гардеробного небытия спортивном костюме походил на члена какой-нибудь советской сборной в отпуске.
– А как же! – Дед разливал кипяток по чашкам, куда до этого плеснул насыщенной и пахучей заварки. – Ровно столько раз, сколько мне лет. Так положено…
– Ну ты титан! – Арсений бросил в кружку два прямоугольничка кускового сахара.
Предложение деда побаловаться на кухне чайком Арсений воспринял с энтузиазмом. Он действительно озяб. Выпить чего-нибудь горячего явно лишним не будет.
Окно в кухне, единственное в их квартире, выходило в то хаотичное скопление невысоких строений между их домом и домом на улице Горького, которое и двором-то не назовешь. Войдя вслед за дедом на кухню, Арсений приник к изрисованному морозом стеклу и засмотрелся вниз. Контуры непонятных кургузых зданий, около которых, сколько себя он помнил, гужевались окутанные табачным дымом дворники, грузчики, официанты, повара и прочая обслуга ресторана Дома композиторов, сверху смотрелись не так нелепо, как если мимо них приходилось проходить, и даже содержали в сочетании своих линий намеки на некоторую гармонию. Сейчас на их низких крышах плотно лежал снег, выравнивая и исправляя просчеты тех, кто все эти безобразия проектировал. Как давно он не наблюдал этой картины! Помнится, в Доме композиторов служил пожилой вахтер Григорий, питавший к маленькому Арсению удивительную любовь, приводившую к тому, что у мальчика в карманах неизменно скапливались разные сосалки и ириски. Интересно, он еще жив? Надо спросить у деда.
На вопрос Арсения о судьбе вахтера Лев Семенович ничего толком не ответил, сказал только, что давно его не видел.
Нынешний длинный, как многочастное произведение, разговор деда с внуком разительно отличался от тех, что они вели при своих тайных встречах в эти одиннадцать лет. В тех жило что-то незаконное, неправильное, порождающее недоговоренности, сводившее все к простой идентификации факта общения, к констатации того, что им еще есть о чем поболтать. Теперь же они могли обсудить все, что хотели, без страха, что это станет известно Светлане, без ужаса, что по каким-то причинам они перестанут иметь возможность видеться.
Первым делом без обиняков Арсений выяснил у деда, как развивались события, пока он спал.
Лев Семенович весьма подробно описал внуку, как мать звонила в Бакулевский, как нервничала перед этим звонком, как в итоге ей там сказали, что Олега перевели в общую палату и завтра его можно будет навестить. Старому композитору надо было, чтобы Арсений зацепился за эту информацию и так, потихонечку, шаг за шагом, восстанавливал в себе образ потерянной матери, потерянной семьи, потому что, не создав сперва что-то внутри, как за всю свою жизнь убедился Норштейн, невозможно сотворить что-то путное во внешнем мире.
– Она собирается его посетить? – Арсений вдруг разволновался: не в слишком ли сильный шок превратится для отца это возможное посещение той, которая в свое время изгнала его.
– Пока попросила, чтобы мы втроем, я, ты и Дима, съездили к нему. Сама вроде пока осторожничает.
– Прямо попросила? Какая прелесть! – все одиннадцатилетнее варево обиды заклокотало в Арсении и чуть не выплеснулось в нечто оскорбительное, но он сдержался.
– Не будь строг к ней чересчур. Жизнь и так к ней не так уж милосердна.
– А где она сейчас?
– Пошла к Генриетте. Ты же помнишь Платовых…
– Нельзя было перенести?
– Ты должен ее понять. Твое сегодняшнее появление произошло так внезапно. Генриетта – ее самая давняя подруга. Возможно, ей необходимо с ней поделиться. Думаешь, она не переживала все эти годы?
Арсений горестно покачал головой: знал бы дед подлинную причину их семейной драмы, причину по имени Волдемар Саблин. Интересно, он уже вышел на свободу? Сколько ему в итоге дали? Наверное, если поискать, то у матери целая связка его писем. А жив ли он вообще? В своих нечастых, но яростных размышлениях о пропагандисте «Архипелага ГУЛАГ», пойманного на этом и привлеченного к ответственности, Арсений никогда не рассматривал возможность того, что он уже мертв. А ведь не так уж это и невероятно.
Вспомнив о Саблине, о тех днях, когда он случайно из окна котельнической высотки увидел его идущим с мамой по Большому Устьинскому, о своем тогда горячечном состоянии и о посещении Владимирского отделения КГБ, Арсений расстроился. Не из-за того, что эти воспоминания возвращали его к тому отчетливо ужасному, что гонишь от себя при любом намеке, – пожалуй, он не ответил бы сейчас на вопрос, кто ему был более омерзителен: сломавший его семью Саблин, владимирские бабушки-стукачки, донесшие о его интересе к злосчастному Волдемару в органы, когда он пытался его разыскать, или же похожие на строгих кукол, опасно вежливые офицеры КГБ, мурыжившие его на допросе почти шесть часов, – просто он понимал: если позволит сейчас этим обесцветившимся, но не потерявшим угрожающую жестокость образам всплыть из дальних уголков памяти, куда он их так усердно заталкивал все эти годы, беды не миновать: сила этих проклятых прошлых обстоятельств может снова вытолкнуть его из родного дома. А этого позволять нельзя. Без боя нельзя сдаваться. Коль уж он пришел сюда.
Изменившееся ненадолго выражение лица Арсения Лев Семенович истолковал как признак недоверия к материнской искренности и поспешил его разуверить:
– Мне почему-то кажется, что она завтра с нами пойдет в больницу.
Когда люди вынужденно перестают бывать вместе столько, сколько это им необходимо, все силы обычно уходят на то, чтобы не терять друг друга из вида. В этом стремлении не оторвать от сердца того, кто тебе важен, чаще всего не остается пространства для того настоящего интереса к отдельной от тебя жизни близкого человека. Главное – не позволить течению дней и лет уничтожить эту близость, постоянно затверждая ее звонками, встречами, письмами, полными вопросов о здоровье и о делах, на которые никто толком никогда не отвечает. Темой разговоров Арсения и Льва Семеновича во время их тайных встреч в Москве все эти одиннадцать лет оставалась музыка. Все годы, кроме последних двух, Арсений играл деду вновь выученные произведения, а дед высказывал свои соображения. Один раз, когда Олег Александрович приезжал с Арсением в Москву, они обедали в ресторане Дома литераторов, но за едой, как известно, люди говорят лишь о необременительном. После своего вопроса-претензии, почему дед не вмешался и никак не противостоял семейной катастрофе, Арсений не возвращался к этой теме, страшась разворошить этот загрязнивший всех членов их семьи сор, а Лев Семенович в свою очередь никогда не заводил разговор о сломанном пальце и обо всем, к чему это привело.
Два года Арсений не приезжал в Москву, два года он не разучивал ничего нового – все бесполезно! – а Лев Семенович все эти два года терзался от этого. Неужели внук устал и сдался, и всю жизнь будет аккомпанировать другим, забирающим всю славу и успех, оставляющим его на заднем плане? Это не его судьба, он вундеркинд. Иногда Лев Семенович просыпался ночью, будто от какого-то укола, и долго лежал, не в силах смириться со своей беспомощностью.
И вот теперь они чаевничали на кухне. Там, откуда с уходом Олега Храповицкого из супружеской спальни на одинокий диван начался ползучий, обретающий с каждым днем злую силу их кошмар, им предстояло принять друг друга с добавлением прожитых врозь одиннадцати лет, о которых они по большому счету, несмотря на запретное общение, все же взаимно не ведали, и попробовать что-то изменить к лучшему.
Разумеется, Арсений не собирался посвящать деда во все, что творилось с ним в Ленинграде: слишком много в нем скопилось взрослого, чего дед вовсе не обязан одобрять. Искренность их прежних отношений в его школьные годы определялась существованием в одной стихии, где все события не происходят, а звучат. Другой жизни у Арсения тогда и не было. Так, чепуха. Общение с одноклассниками, с соседями по дому, какие-то утомительные подростковые забавы с композиторско-музыковедческими отпрысками в Доме творчества композиторов в Рузе, куда дед и бабушка обязательно возили его летом на месяц, опекунская возня с младшим братом. Когда ему подошел срок в кого-нибудь влюбиться, отец подписал то письмо против Сахарова и Солженицына, все сдвинулось, перепуталось, сломалось, и это закупорило все его эмоции в прочной колбе разочарований, вынудило делать только то, на что хватает сил, а именно заниматься, заниматься, заниматься, готовиться к конкурсу Чайковского.
После их с отцом переезда в Ленинград, после первых месяцев неуемной тоски, пока город продирался к нему, а он к городу, пока его естество приготавливалось к первой взрослой смене действия и декораций, жизнь накинулась на него с такой рьяностью, как накидываются билетеры на опоздавших на симфонический концерт.
Замечает ли дед, как он изменился?
Но Льва Семеновича больше волновало другое. Ведь и он, как это ни нелепо звучит в его возрасте, многое поменял в себе, и, скорее всего, не к лучшему. И при встречах с Арсением прилагал немало усилий, чтобы внук не заподозрил, что его дед-композитор теперь и не композитор никакой и уже много лет ничего не сочиняет. И дело здесь не в старении. Тогда, до отъезда Арсения, он еще совсем недавно закончил большую симфонию с хором «Памяти Брукнера», которую с блеском исполнил оркестр Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина, и собирался приступить к работе над произведением, которое, как он загадывал, станет для него главным: двойным фортепианным концертом по мотивам «Героя нашего времени» Лермонтова. Какой был замысел! Каждая часть концерта симметрична части романа. А между частями речитативный акапельный хор исполняет куски просто-таки сотканной из звуковых аллюзий лермонтовской прозы. Куски он подобрал. Но они не пригодились. Замысел так и не воплотился. Он собирался посвятить концерт жене, наивно полагая, что это если не спасет, то продлит ей жизнь. Но Маша умерла раньше, чем он закончил в эскизах первую часть, семья взорвалась, как атомная бомба, да еще и Кирилл Кондрашин бежал за границу, где четыре года назад умер. Кирилл, как никто, тонко и согласно авторскому духу интерпретировал музыку Норштейна. Но записи его почти все под запретом. Даже когда передают знаменитый концерт Ван Клиберна в Москве, о Кондрашине не упоминают, будто оркестр играет сам, без дирижера.
Уже немалое время он живет под гнетом бессмысленности бытия современных композиторов, ненужности и заведомой вторичности нынешней музыки. Его жизнь – это приседания утром, прогулки вдоль дома – вниз до Огарева, а потом вверх по Неждановой, – тревоги за младшего внука, сидения у вечернего бестолкового телевизора вместе с дочерью, ведущей с экраном бурные диспуты, и упорные попытки отвлечь себя от мысли, что то, как он и чем он живет теперь, продлится до самой его смерти, не принеся больше ничего нового.
«Как мне надо всем этим поделиться с Арсением! Но своевременно ли это? Не поселит ли это в нем презрение? Не разочарует ли его?» – сомневался Лев Семенович.
«Как жаль, что я уже два года ничего нового не учу. А то бы сейчас сыграл деду. Но зачем? Я неудачник. Не могу выбраться из того, что не пускает меня на сцену. И так будет всегда. Деду лучше не знать об этом», – уговаривал себя Арсений.
И все же они выплеснули друг другу все, что тяготило. Слишком уж полны они были этим. И испытали облегчение…
И ничего больше.
1949
Водку закусили черным хлебом с солью. «Как на кладбище». – Лапшин был единственным, кто от водки отказался. После той новогодней ночи он к спиртному вообще не прикасался. Ужасное воспоминание первого январского дня, когда он, проснувшись на Зеленоградской, испытал снова острейшую необходимость в морфии и с огромным трудом взял себя в руки, не позволяло ему больше впускать в себя ничего, что могло бы это воспоминание оживить, вызволить из той части памяти, где, как сухие, никому не нужные листья в собранных дворниками высоких кучах, томятся наши прошлые кошмары.
Франсуа, как и все, выпил залпом, что сыграло с ним злую шутку. Он закашлялся так, что Генриетте и Вере пришлось его сильно колотить по спине. Именно за этим занятием их застала вошедшая в комнату Людмила Гудкова, предмет их коллективных жгучих тревог.
– Чем это вы здесь занимаетесь? – удивленно спросила она.
Нескольких секунд хватило, чтобы настороженная, непонимающая тишина перешла в радостные восклицания.
До Людмилы как будто не доходило, почему ее все обнимают, целуют, усаживают за стол, наливают водки.
– Я не хочу сейчас водку. Зачем вы мне наливаете? – воскликнула она. – И что вы все здесь делаете?
– Это я всех пригласил. Мне показалось, сейчас это необходимо, – примирительно ответил Франсуа.
– И как ты их всех нашел? – не успокаивалась Гудкова. – Я просто поражена.
– У тебя в записной книжке были адреса. Прости, я не предполагал, что ты так расстроишься…
Гости начинали себя чувствовать с каждой секундой этого допроса все более неловко. А Шнеерович, никогда не теряющий склонности к афоризмам, особенно к нелепым, про себя съязвил: только что ее допрашивали, теперь она допрашивает.
– Это мы с папой посоветовали Франсуа так поступить, – подала голос Света Норштейн. – Раз такое случилось, лучше всем собраться вместе. Разве нет?
– А какого черта ты решаешь, кого позвать ко мне в дом? Позвала бы их к себе, раз такая сообразительная. Там бы и сидели. Или папа не разрешил? – Гудкова больше не сдерживала себя.
Света прищурилась, встала, выпрямилась и по слогам произнесла:
– Хорошо. Впредь буду так и делать.
Потом порывисто махнула рукой, сетуя на что-то или на кого-то. Получилось неуклюже. Ее это еще больше раздосадовало. И она выбежала из комнаты.
Через несколько секунд громко хлопнула входная дверь в квартиру.
– Ну, наверное, и мы пойдем, – поднимаясь, сказал Лапшин. – Слава богу, ты жива и здорова. Прости, что потревожили тебя.
Он давно искал повод уйти.
Людочка взглянула на бывшего одноклассника растерянно. Видимо, ей казалось, что после того, сколько она для него сделала и как ради него рисковала, он не станет вести себя столь примитивно и хотя бы попробует проникнуться ее чувствами. Она показала Шуре рукой, чтобы он сел. Показала весьма властно. Лапшин повиновался. Затем Гудкова нарисовала пальцами в воздухе прямоугольник, а потом изобразила рукой, что что-то пишет. Так она просила дать ей бумагу и ручку. Пока Франсуа искал, чертыхаясь, то, что требовала его будущая супруга, Генриетта посетовала:
– Зря мы так со Светой. Она хорошая. Очень хорошая. Надо было догнать ее. Может, я посмотрю? Вдруг она где-то еще здесь…
– Да уж дома она, – осекла приятельницу Прозорова. – Она же живет напротив. Чего ей на улице ошиваться в такой холод?
Генриетта не стала возражать.
Франсуа наконец нашел какие-то тетрадные листы, извлек из шкафа чернильницу и перо. Люда размашисто и крупно, чтобы все сгрудившиеся вокруг нее могли прочитать, вывела: «Дома говорить небезопасно. Пойдем гулять…»
Все очень тихонько вышли в прихожую и начали одеваться. Страх и напряжение заставили их на миг поверить, что слишком шумные шаги и громкое одевание – почти преступление. Из своей комнаты высунулся сосед-инвалид, но, столкнувшись с таким количеством народу, убрался.
С кухни слышались звуки напряженного коммунального разговора, грозившего скоро перерасти в ругань.
Ступени лестницы серели от следов мокрых ног, перила неярко поблескивали от тусклого света ламп. Кто-то хлопнул дверью внизу, и стекла на площадках задребезжали.
Вскоре компания вывалилась в Борисоглебский. Все как-то замялись, не ведая, что теперь делать. Потом побрели гуськом, друг за другом, в сторону Гнесинского института. Людмила и Франсуа под ручку шествовали впереди.
Шел мелкий, по-городскому неконкретный, заставляющий отворачиваться от себя снег.
Наконец пробрались в какой-то двор, пустынный и тихий. Уселись на покосившейся скамейке, в спинке которой недоставало двух досок. Тут же к ним присоседились озябшие голуби и принялись вопросительно прохаживаться в неком отдалении в ожидании, что им что-то перепадет. Шнеерович вспомнил, что по дороге к Гудковой он купил сдобную булку и так ее не съел. Пернатым посчастливилось заполучить отменное лакомство, которое они поглощали с тихим клекотом, смешно толкаясь.
Гудкова присела на лавку. Остальные сгруппировались вокруг нее, словно закрывая от возможных соглядатаев. Люда чуть картинно провела рукой по лицу, потом попросила дать ей закурить. Быстрее всего папиросу вытащила Платова.
– Евгений арестован за антисоветские выступления. Где-то в Черновцах он что-то нагородил публично. Теперь органы разрабатывают его связи. Все мы под большим ударом были. Я отвела его как могла… – она поморщилась, всхлипнула, глубоко затянулась, закашлялась.
Франсуа нагнулся к ней, взял руками за щеки, повернул ее лицо кверху:
– Тебя пытали? Скажи, скажи. Я этого так не оставлю.
Люда силой убрала его руки и вскрикнула:
– Нет, нет! Ты что? Не вздумай вмешиваться в это. Тебя вышлют. В один миг. И объяснять ничего никому не станут.
Франсуа пристыженно отошел на шаг. Шнеерович в это время часто бил себя в грудь и причитал: «Какой ужас, какой ужас все это… какой ужас…»
Лапшин переминался с ноги на ногу и смотрел на бесприютную московскую землю.
Платова тоже закурила. Дым выпускала, чуть выпячивая нижнюю губу и выдувая кольца вверх.
– Не глупи, умоляю. – Гудкова продолжала наставлять Франсуа. – Ты уже наломал дров. Неужели ты не понимаешь, что собрать сегодня всех у меня – крайне неосмотрительно? Это почти признание коллективной вины. Не надо было идти на поводу у этой вздорной девицы. – голос Люды вдруг зазвучал жалобно и бессильно.
– Света хотела как лучше. Она очень искренняя. – Платова подала голос в защиту подруги.
– Не знаю, не знаю. Следователь так подробно мне пересказывал многие наши беседы.
– Что? – Франсуа, Платова, Прохорова и Шнеерович вскрикнули это почти одновременно.
– Не знаю, что! У кого-то язык слишком длинный. Не у этой ли болтушки Норштейн? И как-то уж подозрительно она себя вела сегодня. Вам не кажется?
Тишина на время установилась такая, что чудилось, слышалось трение снежинок о воздух. Хотя, конечно, никакого звука это трение не издавало. Просто поздняя осенняя пора накопила в себе целую прорву тоски и эта тоска протяжно и безнадежно ныла и в городских ландшафтах, и в головах людей.
– Люда права, – начала Прозорова, – наш сегодняшний сбор могут истолковать как признание вины. Времена сейчас сами знаете какие. Евгений по матери еврей. А борьба с космополитизмом идет полным ходом. Вон Шура с Мишей из консерватории вылетели.
– Тем более дико в чем-то обвинять Светлану, – Генриетта затушила папиросу о край лавки и, не найдя взглядом урны, щелчком отбросила окурок в снег. – Она добрая девочка. Немного экзальтированная, но не более. Им сейчас всем нелегко. Мама мне рассказывала, что у них в Минздраве такое творится! Евреев стараются уволить при любой возможности. Света – студентка. Ей тоже надо быть настороже. Выгонят за фамилию и не поморщатся.
Никто не стал с этим спорить.
Франсуа немного выпятил грудь вперед и вымолвил подчеркнуто бравурно:
– Что бы вы сейчас тут ни говорили, ужин отменять нельзя ни при каких обстоятельствах. Даже самых печальных. Предлагаю немедленно отправиться в ресторан! В «Метрополь»! Гульнем на славу. Когда еще соберемся все вместе?
– А почему нет? – Прозорова улыбнулась. – Они хотят, чтобы мы их боялись, а мы будем веселиться.
1985
Еще неделю назад Светлану пригласила в гости Генриетта Платова, попить чайку, потрепаться. Их дружба, пережившая немало потрясений, до сей поры не иссякла, хотя порой и прерывалась на неопределенное время. Лев Семенович поначалу не поощрял ее, помня давний отказ матери Генриетты Зои Сергеевны в просьбе устроить Марии Владимировне консультацию у хорошего кардиолога, но с годами острота обиды притуплялась, да и новые обстоятельства почти всегда сильнее старых. Зоя Сергеевна, кстати, в качестве заведующей приемной Минздрава прослужила до совсем недавнего времени. Ей удалось доказать свою незаменимость всем министрам, с которыми доводилось работать. И только совсем уж почтенный возраст побудил ее попроситься на покой. Перед Норштейнами она реабилитировалась в последние годы жизни Марии Владимировны, лично попросив главного онколога страны Николая Блохина содействовать тому, чтобы жена известного советского композитора получила все необходимое лечение. Академик Блохин просьбу выполнил. Светлана питала на этот счет особую благодарность, поскольку друг и однокурсник Волдемара как раз работал в онкоцентре. Он по просьбе Саблина постарался все обустроить так, чтобы ему самому наблюдать и лечить маму, и это почти то же самое, как если бы ее лечил и наблюдал сам Волдемар.