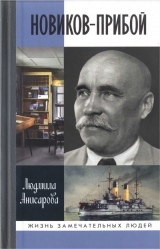
Текст книги "Новиков-Прибой"
Автор книги: Людмила Анисарова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Главная героиня рассказа – Фроська, мать двоих детей, «молодая баба, плотная, краснощёкая, с чёрными вызывающими глазами и задорным вздёрнутым носом». У неё простой, весёлый характер, она любит и попеть, и поплясать, но при этом верно ждёт с японской войны мужа Гаврилу, с которым жили они душа в душу. Перед уходом в солдаты ему выпадала должность лесника, и они уже мечтали о новой избе.
Но вот получено страшное известие о гибели мужа под Мукденом, и разрывается душа у соседей от причитаний Фроськи: «Ой, послушайте меня, соседушки спорядовые, приближенные! Не откиньте меня, вдову бесприютную с малыми детками бессчастными. Как пойдут мои сироты по миру шататься, милости у крещёных выпрашивать, постучат они под ваши окошечки, голодные и холодные, – приютите их в своих тёплых гнёздышках, обогрейте, обласкайте, уму-разуму научите…»
Напрасно соседи унимают Фроську. Она сознаёт лишь одно, что для неё теперь нет радости в жизни, что всё погибло, что никто и ничто не заглушит её горя: «Гаврик, Гаврик!.. На кого ты меня с детками спокинул? С кем я теперь буду крепкую думушку думать, с кем совет держать, с кем рассею злую кручинушку?.. В ком найду я великое желаньице? Без поры, без времени молодость моя прокатится, головушка моя печальная не вовремя состарится… Ой, Гаврик, Гаврик!.. Не придёшь ты больше к нам на своих резвых ноженьках, не улыбнёшься, не скажешь ласкова словечка… Дождички осенние, обмойте косточки моего дружочка, а ты, солнце красное, обсуши их, а ты, мать-земля родная, сохрани их до Божьего суда!..»
Память о Гавриле живёт в сердце вдовы, но приходится думать о будущем. Сколько муки вкладывает она в свою мысленную речь к первому мужу, принимая решение выйти за другого – за вдовца Лариона, не знающего, как после смерти жены выходить ребёнка: «Прости меня, мой желанный Гаврилушка, што рано замуж выхожу. Для деток больше. А то опоры нет – не справиться нам одним… А тебе пошли, господи, хорошую жисть на том свете».
Описание своеобразного сватовства Лариона относится, по мнению Красильникова, к лучшим сценам рассказа: «Весенний пейзаж с нежной листвой берёзок, истовая беседа вдовца с мнимой вдовой, её смущение и тайная мечта о счастье, его искренность и, при всей внешней простоватости, чрезвычайная деликатность и сдержанность – всё это передано скупыми и точными мазками, с большим вкусом и психологически достоверно».
Но Фроське предстоит пройти через новое испытание – встречу с первым мужем. Эта встреча передана так, что, наверное, никогда, ни в какие времена не утратит своего потрясающего драматизма, своей эмоциональной силы. Там не много слов – в этом эпизоде, боли много…
Слова пойдут дальше, в разговоре Лариона, венчавшегося с Фроськой честь по чести, и Гаврилы, пришедшего за своей женой и детьми.
И не только Гавриле, а как будто всем инвалидам жестокой войны говорит Ларион, говорит без злобы, «от души», благодаря чему слова его становятся особенно справедливыми и убеждающими: «Погубишь только бабу и ребятишек. Не жизнь им с тобою. Да, не жизнь… Посмотри на себя и подумай – куда ты годен? Бояться тебя будут… И не жилец ты на белом свете. Может, год-другой промотаешься, а там и капут. Што тогда делать? Ты только смекни – сколько несчастных через тебя будет». Ларион советует Гавриле уйти куда-нибудь, скрыться, это единственный выход.
И «лишний» соглашается:
«…неуклюже протягивая Лариону руку, говорит упавшим голосом:
– Прощай, брат… Владей… Только не бросай…
Ларион, пожимая руку и не глядя солдату в глаза, сквозь слёзы отвечает:
– Я всё сполна сделаю… Не поминай лихом…
Гаврила подходит к жене.
– Ну, Фроська, больше не увидимся… Люби теперь другого…
У Фроськи дрогнуло сердце, вспыхнула горячая, как пламя, жалость к отцу её детей, так жестоко и несправедливо обиженному жизнью, – она упала перед ним на колени и горько заплакала:
– Гаврилушка!.. Болезный ты мой… Согрешила… Прости…»
И побрёл Гаврила неведомо куда. И сколько было их, таких бездомных скитальцев, на просторах России после каждой войны…
Одним из «каприйских» произведений Новикова-Прибоя является и миниатюра «Две песни», которая хранилась в рукописи в архиве писателя и была впервые опубликована только в 1977 году [14]14
В журнале «Огонёк» (1977. № 13) с сопроводительной заметкой И. Новикова.
[Закрыть]. Вероятно, сам автор считал миниатюру ученической, поэтому не включал её в свои сборники. Между тем эта прекрасная поэтическая зарисовка (написанная, безусловно, под влиянием ранней «ритмической прозы» Максима Горького) отличается отточенностью формы и стиля. Но обратимся прежде всего к её содержанию.
Сюжета, как такового, нет – есть грёзы и размышления русского эмигранта, вспоминающего, как довелось ему слышать две колыбельные песни. Одну пела молодая русская женщина, и песня эта была полна не только любви: вместе с любовью и нежностью изливалась она тягучей и щемящей тоской: «трепетала, как ушибленная птица, материнская скорбь в словах старых, издавна печальных, как родина её, сложившая эту песню».
Другую колыбельную пела своему ребёнку итальянка, и песня её звенела «жгучей зрелой радостью, и хвалой жизни, и блаженным восторгом…».
Неслучайно такими разными были две колыбельные: каждая из них была напитана соками своей родины.
«В песне чужого края славилась легко и улыбчиво великая заботливая жизнь, тёплая милая земля, возлюбленная света, славилась материнская участь, родная счастью. Пела женщина о полях, на которых почиет ласка лета, о морях, на которых её братья, загорелые моряки, правят гордые пути. О блаженстве жизни ликовала песня. О чём же было петь матери в стране, которую особенно дарит солнце, где века веков с исключительной любовью изо дня в день дышит солнечное богатство…»
Русская же песня, по мысли рассказчика, несёт в себе всю печаль своей отчизны, в ней трепещет «пленная удаль, охмелённая неоглядными пирами и скованная кандалами». В ней «мятежно растут степные зовы, алеют молодые зори, но горькое бессилие обнимает её, душит».
Рассказчик не может справиться с навеянным колыбельной песней ощущением горя – своего и своей родины.
«„Господи, Господи, бедный я, бедная Россия… Одна скорбь, один стон…“ – молились уста. Замер Сергей так до утра…
Укоризненно глядела в окно седая схимница-ночь, и, как её тёмный, суровый взор, было всё вокруг чухло и горестно. Росла тяжким сводом жёсткая тишина. Плакал этой ночью Сергей. Над целым миром плакал, над собой, над родиной, над матерью за стеною…»
Извечная боль загадочной русской души. «Люблю отчизну я, но странною любовью…»
Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Достоевский… Блок. Бердяев. Есенин. Нельзя русскому писателю без муки. Никак нельзя. Иначе – не русский. Иначе – не писатель.
В каждой строчке миниатюры «Две песни» – глубокая, неподдельная тоска лирического героя и самого автора по далёкой родине, щемящая любовь к ней – «нищей, серой, согбенной, заплаканной», но всё равно родной, милой, манящей.
Говоря о художественных особенностях этого произведения, стоит отметить богатство языка, обилие красочных сравнений, эпитетов и метафор. «Незаметно тихо, как закатный ветерок, влюбленный в ночную сирень, родилась песня. И, как ветерок цветолюбивый, повеяла сладкой и грустной лаской чего-то небывало-доброго. Задышала сразу тем, что вечно грезится, что неуёмно желанно и – что несбыточно. Далёкая-далёкая и близкая, как тревожный ропот сердца, песня».
В каждом слове – огромная жажда писательства молодого автора, которому (вот оно, счастье!) позволено творить. Позволено самим Горьким! И – что, может быть, пока не совсем ясно осознаётся – позволено свыше.
Как уже было отмечено, влияние Горького просматривается в произведении довольно явно, и автор ничуть этого не скрывает. Очевидно, заворожённый в своё время ранними романтическими рассказами своего литературного кумира, он был уверен, что нельзя скупиться ни на чувства, ни на слова. Иначе какая же это литература? Кстати, в отличие от Горького Алексей Новиков, присовокупивший к своей фамилии именно там, на Капри, звучное и яркое дополнение «Прибой», останется истинным и истовым романтиком навсегда, до самых своих последних дней.
Когда уже Новиков-Прибой был любимым и одним из самых читаемых авторов в Советском Союзе, А. Золотарёв, вспоминая Капри, писал: «И если этому русскому писателю, выпестованному морем-океаном, японские острова подарили главную, увековечившую его литературное имя тему – тему Цусимы, если Британские острова сделали его талант выразительным и могучим, то изящно-скульптурному островочку Средиземноморья Силыч обязан победой над формой, лёгкостью и гибкостью своего стиля».
СНОВА – РОССИЯ. 1913–1917
Вскоре после отъезда Алексея Новикова на Капри Мария Людвиговна начала предпринимать попытки для того, чтобы уехать в Россию. Дело это было трудное. Поскольку её отец был политическим эмигрантом, то рассчитывать на получение российского паспорта она не могла – решила попробовать получить французский на основании документов о её рождении в Париже. В консульстве пошли ей навстречу, но при этом поинтересовались, не пугает ли молодую девушку поездка в такую дикую, мрачную страну.
Мария Людвиговна с сыном приехала в Петербург. Её французский паспорт гарантировал ей неприкосновенность, и ей удалось провезти с собой важные документы, которые она передала революционерке Вере Засулич.
Прежде чем устроиться на работу в контору пишущих машин фирмы «Жорж Блок», Мария Людвиговна решила посетить родственников своего мужа и отправилась с сыном в Матвеевское. Она знала, что сначала нужно добраться из Петербурга до Москвы, потом до станции Пичкиряево, а там, вероятно, взяв извозчика, они с Толей доедут и до самого села. В Пичкиряеве она надеялась на короткий отдых в каком-нибудь… не кафе, конечно (в пути она уже поняла, что Россия несколько отличается от Англии и Франции), ну, трактире, например.
Не было в Пичкиряеве ни кафе, ни трактира, ни извозчика. Одинокая лошадь с телегой стояла. Хозяин, сообразив, что с иностранки можно взять денег побольше, согласился везти в Матвеевское. Правда, долго качал головой: не близкий, мол, путь.
Приезд в Матвеевское «англичанки» стал событием. Всё село (оно хоть и глухое было, но не маленькое: больше трёхсот дворов!) приходило посмотреть на жену-красавицу Алексея Силыча Новикова. Вон какую кралю себе за морями нашёл!
Когда Мария Людвиговна только в дом зашла (ведь не ждали, не гадали!), на стене сразу две фотографии красивых японок приметила, но ничего не спросила. А уж к утру проворная жена Сильвестра Мария (тёзки они все оказались: и обе невестки, и покойная свекровь) карточки-то эти прибрала подальше, чтобы гостью дорогую не расстраивать.
Когда после пребывания на Капри Алексей Новиков нелегально вернулся в Россию, ему пришлось сначала отправиться в родное село, где, как это ни странно, легче было выправить настоящий паспорт. Затем Новиковы обосновались в Москве и жили в семье писателя Тимофеева, товарища Алексея по Капри.
После долгих скитаний начинать жизнь в России было непросто. Прежде всего требовался хотя бы какой-нибудь регулярный заработок. Новиков обратился в Московское книгоиздательство писателей, которым руководил Николай Семёнович Клестов-Ангарский.
Революционер Николай Клестов начал свою издательскую деятельность во время революции 1905 года. Проживая в Москве на нелегальном положении после побега из омской тюрьмы, он опубликовал серию политических брошюр, три тома «Капитала» К. Маркса, первый в России небольшой сборник статей В. И. Ленина.
В начале 1909 года полиция разыскала Клестова, и он снова был отправлен по этапу в Сибирь, на берега Ангары (отсюда и его политический псевдоним).
После трёх лет, проведённых в тюрьме и ссылке, Клестов возвратился в Москву, где вместе с Вересаевым организовал книгоиздательство писателей, в которое вступили на паях Телешов, Бунин, Серафимович, Тренёв.
Книгоиздательство находилось в особняке по Никитскому бульвару, 8. Ныне это Дом журналиста, который в 1920–1938 годах назывался Домом печати.
Клестову, загруженному не только издательской, но и партийной работой, требовался помощник. И кандидатура обратившегося к нему Новикова, молодого писателя, прошедшего школу Горького, вполне его устраивала. Он понравился руководителю издательства сразу: весёлый, общительный, напористый. Незнаком с издательским делом? Ничего, освоит.
Надо сказать, что дела в издательстве были несколько запущены. Привыкший к дисциплине и организованности, Новиков с энтузиазмом взялся за наведение порядка. Прежде всего, он создал картотеку, в которую внёс все сведения о писателях, работающих с их издательством; завёл отдельные папки для переписки, договоров, корректуры. Алексей Силыч навёл образцовый порядок не только в бумагах – позаботился он и о рабочем помещении: настоял на ремонте. Лучшего помощника трудно было себе представить, и Ангарский очень скоро начал доверять Новикову все дела в издательстве, оставляя его за себя на время своих отлучек из Москвы.
Сохранившаяся переписка Новикова и Ангарского позволяет судить о том, насколько оживлённой и динамичной была работа издательства:
«Май 3-го дня 1914 года.
Дорогой Николай Семёнович!
Сообщу кой что о наших делах: 1) Выдал Сургучёву аванс в 300 рублей. Предложил ему вступить пайщиком, он охотно согласился. Деньги за пай просит вычесть из гонорара за пьесу. Он просил Вам передать, что материал на 3-й том может доставить только к январю следующего года. Кстати, вчера в газетах была заметка, что его пьеса запрещена цензурой. Узнав об этом, перепугались, но здесь, вероятно, какое-нибудь недоразумение, ибо в „Осенних скрипках“ совершенно нет ничего такого, за что могли бы её запретить. 2) Бунину за корректуру заплатил. Он спрашивал, когда принесут корректуру „Диониса“. Но об этом я ничего не знаю. Жду Ваших распоряжений. 3) Внесла свой пай Вера Николаевна Муромцева, в понедельник принесёт деньги в книгоиздательство. 4) Ремонт производится, я распорядился выставить окно, которое служило дверью к соседям, а все двери запер. Таким образом, за книги можно не беспокоиться. 5) Вересаеву по счету уплатил, а Сергееву-Ценскому пошлю в понедельник. 6) Продажа книг понемногу идёт. 7) Завтра переезжаю на жительство в книгоиздательство. Пока довольно. О всех делах буду сообщать своевременно. А пока до свидания. Привет Лидии Осиповне. Ваш Ал. Новиков».
Одной из удач весны 1914 года стала для Алексея Новикова публикация его рассказа «Попался» в газете «Смелая мысль», которая начала выходить в Петербурге с 14 мая. Рассказ был помещён уже во втором номере газеты. Правда, просуществовало это издание только до 6 июня. Всего вышло девять номеров, причём некоторые из них были конфискованы.
Рассказ «Попался» Новиков написал в январе 1913 года на Капри.
Матрос второй статьи Круглов, невысокий и тщедушный, покупает на камбузе у повара остатки матросского супа, чтобы накормить больную, одинокую старуху, которая когда-то приносила на продажу в экипаж хлеб, а теперь вот слегла и некому ей помочь.
Спрятав под шинель котелок, Круглов спешит к булочнице. Сворачивая с главной улицы в переулок, он сталкивается с капитаном 2-го ранга Шварцем, известным своей строгостью.
Вскинувший правую руку для приветствия и машинально дёрнув левую из кармана, которой он через карман и держал котелок с супом, Круглов вылил суп на брюки. Возмущённый Шварц, обнаружив в карманах матроса ещё и хлеб, свирепеет: «Воровством занимаешься! Казённое добро таскаешь!»
Круглов пытается объяснить, кому он нёс обед. Не поверивший матросу офицер требует отвести его к булочнице.
Они попадают в тёмный, сырой подвал. Это настоящая горьковская ночлежка, где никому нет дела до умирающей булочницы. Нищета, беспомощность одинокой старухи потрясают Шварца. А ещё он искренне удивлён поступком матроса:
«– За доброту твою – хвалю. Молодец!
– Рад стараться, ваше высокобродье!
Офицер сделал серьёзное лицо:
– Подожди стараться! Слушай дальше! А за то, что нарушил закон…
Он затруднялся, какое наказание применить к провинившемуся. Нужно было покарать матроса надлежащим порядком, но ему, точно тяжёлый, несуразный сон, мерещилась уродливая, затхлая жизнь подвала и одинокая, забытая богом и людьми старуха. Совесть офицера смутилась, а вместе с нею поколебалась всегдашняя твёрдость и уверенность.
– Да, вот как… – идя рядом с матросом, удивлялся он сам себе.
Простить матроса совсем он тоже не мог: против этого протестовало всё его существо».
Офицер никак не может выговорить слова о наказании, думая о том, что «быть может, во всём мире нашёлся один лишь человек, этот нескладный матрос, который пожалел старуху, умирающую в чужом доме, среди чужих людей».
Наказание, по мнению Круглова, Шварц назначил нестрогое.
Простой сюжет, выстроенный в основном на диалогах, практически не обременённый никакими авторскими рассуждениями и оценками, потрясает своей безыскусной правдой, снова и снова заставляет читателя вспомнить обо всех «униженных и оскорблённых». Рассказ вызывает, с одной стороны, протест, скорбь, сострадание, а с другой – наполняет чувством огромной симпатии одновременно к двум неплохим людям: тщедушному матросу Круглову и благополучному офицеру Шварцу.
С помощью немногих художественных средств (буквально несколько эпитетов и скупой внутренний монолог) автору удаётся показать строгого и справедливого отца-командира, которые никогда не переводились в российском флоте.
Этот короткий рассказ, несущий огромный заряд гуманизма, написан в лучших традициях мариниста Станюковича и русской классики, одна из ведущих тем которой – тема маленького человека – звучит здесь просто и ясно, доходя в любые времена до самого сердца читателя и отзываясь в нём тем самым важным, без чего нет жизни, – любовью к ближнему своему…
Поскольку семья Ангарского проживала в двух маленьких комнатах на первом этаже того же дома, где находилось издательство, Алексей Силыч после работы часто заходил к своему начальнику и они продолжали вести разговоры о корректурах, гонорарах, продажах издаваемых книг.
Николай Семёнович относился к молодому писателю с искренней симпатией, с радостью приветствовал его появление в своём доме: «А вот и победитель бурь пожаловал!» С восторгом встречала Алексея Силыча и маленькая дочка Ангарского Маша. Она оставляла свои игрушки и, пристроившись где-нибудь в уголке, ловила каждое слово бывалого моряка, всегда оживлённого и бодрого, попыхивающего самокруткой, вставленной в длинный мундштук. Гибель русских моряков в Цусимском сражении (об этом говорили особенно часто) трогала её маленькое сердечко, и она напряжённо вслушивалась в подробности, замирая от ужаса и жалости. Не всё понимая, Маша пыталась рассудить, прав ли её отец, постоянно говоривший гостю: «Напишите же вы книгу. Это так необходимо. Важнейшая веха, которую нужно знать потомкам».
Желание напечатать рассказы Алексея Новикова Ангарский выразил при первой же их встрече. Однако Алексей Силыч решил повременить, поскольку считал, что над ними ещё необходимо работать. Тем не менее, не откладывая дело в долгий ящик, он довольно скоро принёс в издательство рукопись «Морских рассказов».
В рукописи Новикова встречались шероховатости, неудачные фразы. Но в целом его рассказы производили яркое и сильное впечатление. Автор писал о том, что пережил и что хорошо знал. В его рассказах привольно плескалось бескрайнее море, притягивающее человека и красотой, и крутым нравом, и одновременно звучала та «суровая правда», которую отметил Горький в рассказе «Порченый».
На очередном заседании книгоиздательства Ангарский выступил с предложением выпустить сборник Новикова. Предложение было активно поддержано Вересаевым, Сергеевым-Ценским, Тренёвым, Телешовым. Однако возник вопрос о необходимости выбора псевдонима для начинающего писателя, поскольку в издательстве уже выходили книги другого Новикова – Ивана Алексеевича.
Ещё на Капри Алексей Силыч примеривал к себе звучный псевдоним «Прибой», которым когда-то подписывал свои яркие статьи капитан 2-го ранга Кладо. По совету Вересаева он объединил свою фамилию с этим словом-символом: оно как нельзя лучше подходило для автора, пишущего о море.
Итак, Новиков-Прибой – это имя должно было появиться на обложке первой книги Алексея Силыча, который тщательно готовил её к изданию, а потом с волнением ждал выхода. Но книге этой не суждено было появиться на свет. С началом империалистической войны усилилась царская цензура, и типографский набор сборника рассказов, автором которых был по-прежнему неблагонадёжный Новиков, осенью 1914 года был рассыпан.
Весной 1915 года Екатерина Павловна Пешкова, хорошо помнившая Новикова-Прибоя по Капри, помогла ему устроиться начальником одного из санитарных поездов Земского союза; чуть позже на другом поезде стала работать и Мария Людвиговна Новикова, которая позже вспоминала:
«Годы 1915–1918 мы с Алексеем Силычем проработали на санитарных поездах Земского союза на должностях заведующих хозяйством санитарных поездов. Поезда наши ездили на фронтовые позиции за ранеными и больными и развозили их по разным городам в тылу России. Так, в течение трёх с лишним лет нашей работы на санитарных поездах мы исколесили всю Россию и побывали почти во всех главных городах страны».
В 1916 году в первом номере журнала «Новый колос» был опубликован очерк Новикова-Прибоя «Погрузка раненых», который даёт нам, во-первых, довольно полное представление о том, как протекала во время империалистической войны (подзаголовок очерка: «Империалистическая война 1914–1916 гг.») жизнь Новикова-человека, а во-вторых, показывает, что Новиков-писатель находит время не просто фиксировать текущие события, а художественно их осмысливать.
Вот автор рассказывает о том, как земский санитарный поезд остановился в 15 верстах от места, где «идёт кровопролитный бой, слышен грохот артиллерии, видны вспышки разрывающихся снарядов». И тут же его суть и призвание художника не позволяют не нарисовать соответствующую картину холодной туманной ночи, свидетельницы и участницы жестокого, противоестественного действа под названием «война»: «Небо беспросветно, заволоклось тучами. Мутный свет фонарей не в силах разогнать тьму, воздух точно наполнен чадом – всё в нём смутно и неопределённо».
Очередная военная ночь не предполагает ни отдыха, ни покоя: «В полумраке, громыхая, тяжело пыхтят паровозы, передвигая составы, разъединяя и сцепляя вагоны. То и дело раздаются короткие свистки, удары буферов, выкрики людей. Между поездами мелькают разноцветные фонари стрелочников. <…> От движения вагонов и людей по холодной земле, то уменьшаясь, то увеличиваясь, ползают уродливые тени. Обозы, опоражнивая вагоны, нагружаются военными припасами и сейчас же отъезжают, скрываясь в глубине ночи. Беспокойно ржут лошади, сердито шумят, понукая их, солдаты, гремят повозки. Здесь нет ночного отдыха, под покровом тьмы идёт напряжённая работа, сводящаяся к одной лишь цели – опрокинуть и раздавить дерзкого врага».
Эвакуационный пункт заполнен ранеными, «здесь пленные перемешаны с русскими, офицеры уравнены с нижними чинами». Под глухие удары пушек, от которых вздрагивает здание, дребезжат стёкла, под крики и стоны раненых санитары и солдаты перетаскивают их в вагоны.
А дальше автор, для которого в дальнейшем, когда он уже станет известным беллетристом, всегда прежде всего будет важен необычный, интересный, занимательный сюжет, рассказывает трогательную историю братания врагов на поле боя.
Пышная и бойкая фельдшерица обращает внимание на русского и австрийца, которые, лёжа рядом, спокойно, по очереди покуривают одну папиросу:
«Первый, затянувшись раз-другой, заботливо подносит папиросу к губам недавнего своего врага.
– Кури, Яков, это успокаивает…
Австриец благодарно кивает головой».
Фельдшерица интересуется, откуда наш солдат знает имя раненого противника, тот степенно отвечает: «За целый день, чай, можно было познакомиться». Познакомились они «в поле», то есть во время боя. Любопытная фельдшерица, хоть и много у неё работы, присела рядом, допытываясь, как было дело.
«Солдат охотно рассказывает.
– Как бывает на войне: вышло распоряжение от начальства – жарь в атаку. Мы на рассвете так на немца попёрли, а те, увидамши нас, насупротив нас двинулись. Столкнулись. Они нас лупцуют, а мы их ещё пуще. Разъярились все – беда! Налетаю я на Якова. Я ему штыком в бок, а он – бац из винтовки! Прямо – в бедро. Оба свалились. Спасибо, что в яму попали – снарядом её вырыло, а то бы не быть в живых. Перевязал я себе бедро. Гляжу на своего австрияка – извивается, южит. Я к нему. Я и ему перевязал рану. Он руки мои целует, а сам слезами заливается. Тут уж меня совсем жалость взяла. Говорю ему: „Вот что, брат, как мы с тобой, значить, больше не вояки, давай заключать мир. Будем друзьями“. И троекратно поцеловались. Потом друг другу имена свои обозначили. Объясняю ему, что, мол, меня Андреем звать, а он, понявши, стучит себя в грудь и отвечает: „Якоб, Якоб“. По-нашему, значит, Яков. К вечеру наши отогнали неприятеля, а нас подобрали.
Андрей рассказывает всё это, показывает рукой на австрийца, а тот, догадавшись, о чём идёт речь, утвердительно кивает головой.
К Андрею подходят санитары, хотят уложить на носилки, но он просит, чтобы вместе с ним взяли и австрийца.
– Его после возьмём, – объясняют санитары.
– Без него и меня не берите, – заявляет он решительно.
Подходят ещё санитары, и две пары носилок уносят их обоих на поезд».
Но этой доброй истории автор сразу же противопоставляет иную: два других раненых врага, будучи едва живыми, оказавшись в одной телеге, под одной дерюгой, закончили жизнь смертельным поединком. Ко всему, казалось бы, привыкшие врач и санитары с ужасом и болью взирают на жуткую картину: «Руки, вцепившись друг другу в горло, давно уже закоченели, страшная гримаса застыла на их лицах, кажется, что они и мёртвые продолжают душить один другого».
Работа на санитарных поездах на продолжительное время отвлекла Новикова-Прибоя и от революционной, и от литературной деятельности.
Октябрь 1917 года. Обычно в биографиях советских писателей прописывалась стандартная фраза: «принял социалистическую революцию». Бывали оговорки. Например, про Есенина: «но по-своему, с крестьянским уклоном».
Во всех воспоминаниях о Новикове-Прибое октябрь 1917 года удивительным образом замалчивается. Как будто его не было. Чёрная дыра. Сразу – 1918 год, когда Новиков-Прибой попадает на Алтай.
Между тем в самые горячие дни Алексей Силыч находился в Петрограде. Правда, что делал он именно 25 октября 1917 года, – мы не знаем. Однако известно, что в ноябре А. С. Новиков баллотировался в Учредительное собрание от Тамбовской губернии по списку эсеров, но не был избран.
30 ноября 1917 года в газете «Земля и воля» был опубликован очерк Новикова-Прибоя «Озверели». Автор рассказывает о том, как жители деревни Кажлодка Спасского уезда Тамбовской губернии, намучившись от дезертиров-грабителей, поймав их, устраивают самосуд: избивают до смерти и полусмерти, а затем сжигают. Подробно рассказав об этой страшной казни, автор пишет: «Неслыханная война, которую мы ведём четвёртый год, эта ужасная кровавая бойня, очевидно, не могла не отразиться на человеческой психике. Люди окончательно озверели, точно отравленные ядом жестокости и насилия. Страшно становится жить».
В это же время Новиков-Прибой начал писать очерк «О погромах», в котором рассказывает, как в Салтыковской волости Тамбовской губернии крестьяне, разбив винокуренный завод князя Гагарина, растащили оттуда более десяти тысяч вёдер спирта: «Народ, забросив все свои работы по хозяйству, с жадностью набросился на дьявольское зелье». В результате этого погрома погибло около семидесяти человек, «опившихся спиртом».
Очевидно, этот неопубликованный очерк лёг в основу рассказа «Вековая тяжба», который будет написан позже, в 1922 году.
С 26 ноября по 10 декабря 1917 года в Петрограде проходил 2-й Всероссийский крестьянский съезд, на котором А. С. Новиков представлял партию эсеров. И уже 12 декабря газета «Земля и воля» опубликовала начало его записок «На крестьянском съезде», а 17 декабря – их продолжение.
С того момента статья «На крестьянском съезде» нигде никогда не упоминалась. И только в 1990 году кандидат исторических наук В. Лавров опубликовал её в «Правде», сопроводив необходимыми комментариями. Он пишет: «А. С. Новиков-Прибой предстаёт прежде всего российским интеллигентом из крестьян, писателем, следующим гуманистической и реалистической традиции классической русской литературы, человеком, глубоко переживающим за судьбу своей родины и своего народа».
В очерке «На крестьянском съезде» подробнейшим образом рассказывается о происходящих событиях:
«В Городской думе, где собрался крестьянский съезд, полно людей. Съехались сюда представители и от фронта, и со всей необъятной Руси – в серых шинелях, в поддёвках, в зипунах. Колыхаясь, клубятся в зале облака табачного дыма, но кажется, что это с улицы забрался сюда одурманивающий туман, отравив людей ядом ненависти друг к другу, помутив сознание. Весь зал разделился на две враждебные половины: справа сидят социалисты-революционеры центра и беспартийные, большею частью приехавшие от сёл и деревень; слева – большевики, максималисты, левые эсеры, явившиеся от военных организаций. Между той и другой половиной идёт непримиримая борьба. Когда одна сторона шумно рукоплещет своему оратору, другая – сильно негодует, поднимая свист, грозясь кулаками.
– Да здравствует Учредительное собрание! – кричат одни.
– Да здравствуют Советы! – неистово вопят другие.
Лица у всех возбуждены, глаза горят нескрываемой злобой.
Иногда кажется, что вот-вот одни пойдут стеною на других и кончится всё это всеобщей кровавой свалкой».
Этот сумбур продолжается несколько дней, «пока съезд окончательно не раскололся на две половины, из которых каждая стала заседать отдельно».
Писателя больше всего интересуют «кулуары, коридоры, ибо здесь высказываются все, никогда не стесняясь, здесь скорее можно уловить настроение массы». Вот одна из зарисовок:
«– Чёрт знает, что происходит! – собрав вокруг себя несколько человек, возмущается пожилой крестьянин, одетый в простую деревенскую шубу. – Люди столько лет боролись за Учредительное собрание, гибли за него по тюрьмам, в ссылке, гибли на виселицах и на-ка вот… Не надо, говорят, Учредительного собрания. Дай им Советы. В программе у тех же большевиков сказано, что выборы должны быть прямые. А как в Советы выбираются? Скажу про себя: меня сначала выбрали из деревни в волость, из волости в уезд, а уезд уже послал меня сюда. Выходит, вроде как по трём лестницам взбирался я на съезд. В той же программе говорится: должна быть одна палата. А тут что получается? Совет Рабочих, Совет Солдатских, Совет Крестьянских Депутатов. Трёхэтажная палата! Сам Ленин сказал, что Учредительное собрание создано у нас по самому лучшему избирательному закону. И вдруг ставят его ниже Советов, ниже этой трёхэтажной палаты, в которую нужно взобраться по трём избирательным лестницам! Советы – это наскоро сколоченные бараки, а Учредительное собрание – это дворец, одна красота.
– Вы, товарищ, не из кулаков будете? – обращается к крестьянину солдат-большевик».
В столовой на Фонтанке, где кормят депутатов, споры продолжаются:
«Один молодой человек, вихрастый, без передних зубов, в кургузом пиджаке, размахивая руками, рассуждает:
– Буржуазное правительство Керенского восемь месяцев морочило нам голову насчёт войны. А большевики сразу заключили перемирие.
– Для того только, чтобы начать войну на внутреннем фронте, – возражают ему противники».
За другим столом толкуют об ином:








