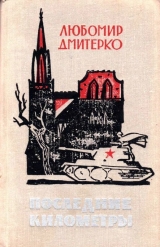
Текст книги "Последние километры (Роман)"
Автор книги: Любомир Дмитерко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– «Язык». Тут допросим, передадим данные по радио, а сами подождем наших.
– Понятно.
Он сказал это по-польски («зрозумяло») как-то особенно вдумчиво и заботливо. Интересный человек! Теперь при свете лампы Осика внимательнее присмотрелся к нему: кто же он, их спаситель, возникший из темноты?
Збигнев был, наверно, на два-три года старше Сергея, который в прошлом году отметил свой первый юбилей: четверть века. Лицо у Збигнева было изнуренным, с черными точечками угольной пыли.
– Утром пойдем ко мне, – сказал горняк. – Пройдем так, что нас никто не увидит. Я живу с мамой.
– А семья? – поинтересовался капитан.
– Какая семья! Когда началась война, мне едва стукнуло девятнадцать.
«Вот оно что! Он не старше, а моложе меня…»
– А я уже был коммунистом, – гордо завершил Збигнев короткий рассказ о себе. И быстро встал с места: Будем спать, потому что времени осталось мало.
Уснул и Збигнев. Только капитан Осика долго еще лежал и думал. Удалось ли Инне и ее подругам благополучно возвратиться на аэродром? Любит ли его Инна? А его чувство к ней – настоящее или нет? Доживут ли они оба до конца войны? А если и доживут, то что будет дальше? Сможет ли он возвратиться к своей специальности зоотехника? Устроит ли Инну – храбрую летчицу, девушку с поэтической душой – жизнь в каком-нибудь животноводческом совхозе на Черниговщине?
Эти мысли наконец оборвал сон.
Ранним утром шли они по тихому поселку. Осика, Лихобаб, Збигнев. Непейводе был дан суровый приказ: ждать. Воды и пищи у него достаточно. Если же в штольне покажутся немцы, разведчик знает, как ему действовать: последний патрон для себя.
Лихобаб шел позади, спокойный и равнодушный. Его, трам тарарам, не удивишь ничем! Ему к лицу одежда польского горняка, особенно берет. Вот бы появиться в этой одежде в Ростоках да предстать перед Нюсей!
В доме Збигнева они застали еще двух мужчин, которых заблаговременно предупредил Болеслав. Один представился горняком Яном Колендрой, другой – маркшейдером Рудольфом Шульцем. Немец? Да. Чистокровный ариец, а потому имеет знакомых в танковой дивизии «Рейх», тылы которой размещены в их поселке. В числе этих знакомых наиболее подходящей кандидатурой для разведчиков мог бы быть радист Эдмунд Фогель. Он всегда в курсе штабных новостей, через него проходят все распоряжения и приказы. Хотя Фогель прямо об этом не говорит, за такое расстреливают, но чувствуется, что он изверился в гитлеровской авантюре и понимает неизбежность катастрофы. К тому же он по уши влюблен в Габриэлу Шульц, сестру Рудольфа. Если ему гарантировать жизнь и будущее с любимой девушкой, он, наверное, расскажет о самом необходимом даже без принуждения.
Вошла женщина с бледным, осунувшимся лицом, похожая на Збигнева.
– Прошу, панове, гербату.
Морковное пойло, дымившееся в стаканах, трудно было назвать чаем. Выручила смекалка Лихобаба, который догадался рассовать по карманам шахтерской куртки часть сухого пайка. Рафинад и галеты всем пришлись по вкусу. За гербатой и утвердили заманчивый план, договорившись о деталях.
На девять часов был назначен первый сеанс радиосвязи со своими. Капитан Осика доложил командованию бригады о первых успехах десанта, а сам с огромной радостью узнал о том, что все девчата возвратились на базу. Правда, в самолете Инны авиамеханики обнаружили шесть пробоин от осколков зенитных снарядов.
Сначала все шло как по-писаному. Габриэлла Шульц заранее договорилась с радистом Фогелем о встрече на центральной площади селения возле единственного рассохшегося без воды фонтана.
– В нашем доме семейный праздник – день рождения брата, – сказала Габи, приглашая молодого человека в гости.
Эдмунд отказывался: совсем нет времени, да и подарка еще не приобрел. Но она все-таки настояла, уговорила.
Стол уже был накрыт. Фогель поздравил «именинника», поздоровался с поляками Збигневым, Яном, с любопытством взглянул на незнакомого высокого шахтера.
– Курт Зоннтаг, мой школьный товарищ, – представил Сергея Осику маркшейдер.
Друзья договорились не пугать радиста сразу, а сначала подпоить его и, если будет возможно, потолковать по-хорошему. На всякий случай в соседней комнате стоял начеку вооруженный Лихобаб.
Выпили за «именинника», его очаровательную сестру, за представителя вооруженных сил рейха Эдмунда Фогеля. С угреватого лица радиста не сходила снисходительная и высокомерная улыбка. Он решительно отодвинул рукой рюмку, чувствовалось, боится охмелеть. Габи, по условному знаку брата, плотнее придвинулась к Фогелю и, словно в шутку, выдернула из кобуры офицерский браунинг.
– Осторожно, заряжен! – строго предупредил Фогель.
Но револьвер был уже в руках Рудольфа.
– Что это значит? – поднялся радист. На его бледном как мел лице выступили капельки пота, щеки покрылись красноватыми пятнами. – Немедленно отдайте оружие!
– Отдадим! – пообещал Рудольф Шульц. – Садись!
– Милый Эдди! – подошла к Фогелю Габи. – Я люблю тебя и не хочу потерять…
Но он резко оттолкнул ее и рванулся к двери. Дорогу ему преградили оба поляка. Вошел Лихобаб с автоматом наизготовку. Эдмунд Фогель оглянулся:
– Западня… – прошипел он в отчаянии и упал на стул.
– Послушай, Фогель, – спокойно произнес маркшейдер. – Моя сестра любит тебя, это факт, иначе я не стал бы возиться с тобой, нашли бы кого-нибудь другого для этой беседы.
– Какой беседы? Чего вам нужно? – разъяренно взглянул он на Осику и Лихобаба.
– Это советские разведчики, – невозмутимо пояснил Шульц.
– Проклятье! – в глазах Фогеля теперь был панический страх.
– Так послушай же нас. Силезия окружена, твоя дивизия в котле. Еще день-два, и всем вам – конец. За что ты будешь умирать? За кого?
Радист молчал.
– За фюрера? За того, кто, пролив реки крови, принес нам гибель? Еще день, еще неделя – и все. Позорный конец.
– Неправда! – вдруг вскочил на ноги Фогель. – Ты паникер! Мы накануне триумфа! Нового огромного триумфа!..
– Я знаю, что ты имеешь в виду, – продолжал Рудольф.
– Не знаешь, не знаешь!.. – истерично воскликнул Фогель. – Это произойдет сегодня ночью. Пустите меня, я должен быть в штабе!..
Не для всех присутствующих последние слова таили весомое содержание. Но для Осики в них вместилось много.
Березовского разбудил Чубчик-Платонов. Ивану Гавриловичу снились родные Озерца: цветет вишня, привычно гудят пчелы, хлопочет возле ульев отец. Стариковское это, говорят, занятие, но отец еще с молодых лет любил пасеку, а пчелы признавали его своим хозяином. Интересно, как это пчела привыкает к человеку, безошибочно узнает его?
В мирное время, когда вот так будили его, просыпался медленно, с неосознанным сопротивлением, с неизменным: «А?», «Что?», «Что случилось?». Теперь вскочил, будто подброшенный пружиной.
– Майор Тищенко… – доложил ординарец.
– Из госпиталя? Что ему?
– На проводе, – только и мог объяснить Чубчик.
Иван Гаврилович схватил трубку.
– Тищенко? Где вы?
– На работе, – будничным тоном ответил майор.
– А госпиталь?
– Бежал… – И перешел к существу вопроса.
– Выходит, этот Осика не зря ест разведческий хлеб, – подытожил комбриг, выслушав сообщение майора.
И закружилась средь ночи штабная карусель. У танковой бригады и других частей, которые участвуют в операции, осталось два или три часа, чтобы, выждав момент, перейти на вариант номер два. Оба варианта – первый и второй – детально разработал штаб армии. Номер один – наступательный, если придется прорывать вражескую оборону самим, номер два – оборонительный, если вылазку сделает враг, пробиваясь на соединение с померанской группировкой. Следовательно, вводится в действие вариант номер два. Танки Бакулина и Чижова и самоходки Журбы занимали заранее определенные места засад, а свежий батальон Барамия должен быть готовым к контрнаступлению.
Гвардии майор Бакулин со своим Т-34 занял позиции как можно ближе к переднему краю немцев. Во дворе заброшенного помещичьего фольварка замаскировалась тридцатьчетверка начальника штаба Соханя, которую тоже решено было бросить в бой вместо сожженной машины Коваленко. Этой «коробкой» командовал сейчас лейтенант Белокамень, который только что возвратился из госпиталя. Обоим танкам и трем самоходкам приказано перекрыть гудронированную дорогу из Глейвица на Оппельн. Также тщательно контролировались остальные дороги – от селения к селению, от шахты к шахте, между заводами, фабриками, мастерскими, фольварками. Сетчатая паутина дорог, с одной стороны, способствовала врагу, давая возможность наступать одновременно в нескольких направлениях, а с другой – упрощала задачу обороны: наступление расчленялось на отдельные сектора, силы распылялись, их легче было отсекать и уничтожать по частям. Все будет зависеть от того, сумеет ли враг добиться успеха на первом этапе боя.
Командир бронетанковой дивизии «Рейх» генерал-лейтенант Карл-Иоганнес Брукнер досконально знал рельеф местности. Она затрудняла широкий маневр, поэтому он решил осуществить прорыв по трассе Глейвиц – Оппельн. Это направление, безусловно, предусмотрит советское командование и сосредоточит здесь основные огневые средства. Поэтому русских необходимо ввести в заблуждение: имитировать наступление на трассе, а тем временем обойти их позиции двумя боковыми дорогами. Только двумя, во избежание раздробления сил. На карте генерала Брукнера начерчено три направления. Прямая красная стрела – легенда главного удара, две извилистые – синяя и зеленая – по ним с боем прорвутся основные силы дивизии.
На красной стреле ударный кулак из пятерки «тигров». Маловато, но Силезия – не Курская дуга! Танки-гиганты протаранят оборону противника, вызовут на себя огонь, прорвутся в тыл и поднимут панику. Березовский сегодня нападения не ждет, поэтому вслепую бросится спасать положение. Пока на трассе будет идти бой, дивизия двумя обходными путями выйдет на оперативный простор.
План разработан до мельчайших деталей. Полки заняли исходные рубежи. Остается разве лишь помолиться богу, дабы помог он фатерлянду в эту тяжкую годину.
Карл-Иоганнес Брукнер поднял глаза на суровое распятие из кости, которое всегда возил с собой. Приобрел его он в безоблачные годы юношеских мечтаний, когда писал стихи, увлекался философией. Философ Фридрих Ницше и привел его к ефрейтору Адольфу Шикльгруберу. От «По ту сторону добра и зла» до «Майн кампф» – таков был его путь.
– Господь с нами!
Генерал окунулся в холодную влажность февральской ночи. Привычно взглянул на небо – погода летная – и неторопливо побрел к машине. Его догнал адъютант оберлейтенант Краузе, подхватил за локоть, помогая сесть в неуклюжий штабной автомобиль. Сел рядом, укрыл ноги генерала шерстяным пледом (память о Париже триумфального сорокового года) и дипломатично кашлянул в кулак. Брукнера, который хорошо знал привычки своего адъютанта, это насторожило.
– Ну, что там? – спросил он недовольно.
– В оперативном отделе исчез радист Фогель. Посылали на квартиру, говорят, из штаба не возвращался.
– Какое предположение?
– Дезертирство.
– Поздно, – вздохнул Карл-Иоганнес Брукнер. Трудно было понять, что он имеет в виду: поиски дезертира или изменение в плане операции. Так и не объяснив своей мысли, генерал приказал шоферу:
– На позиции!
Ровно в пять тридцать на полную мощность заработал радиоузел роты пропаганды дивизии СС «Рейх». На этот раз громкоговорители не вопили о новом уничтожающем оружии и близкой победе фюрера, не призывали советских воинов сдаваться в плен, суля сказочные выгоды. Из многочисленных репродукторов понеслись звуки бодрых походных песен и бравурных воинственных маршей. Взвились в небо сотни белых, желтых, красных, розовых и сиреневых ракет.
Под эту увертюру громыхающей лавиной колонна «тигров» двинулась по гудронированному шоссе, обстреливая его обочины. Советские танки, самоходки, противотанковые батареи пока молчали. Ведущий «тигр» медленно приближался к перекрестку.
И тогда заговорил противотанковый дивизион. Отдельные снаряды, попавшие в броню из легированной крупповской стали, не причинили «тигру» большого вреда. Яростно отплевываясь огнем, он двигался на позицию взвода Полундина, несколькими выстрелами превратив строение дорожного участка в груду обломков.
В это же время по дорогам, отмеченным на оперативной карте зеленой и синей стрелами, двинулись основные подразделения дивизии «Рейх». Пробиваясь сквозь огневые заслоны Отдельной танковой бригады, они направлялись к перекрестку. Этот узел дорог, перерезанный «тиграми», открыл бы им выход в тылы советских войск.
Иван Гаврилович тревожно наблюдал за боем, который, едва начавшись, разгорался с фантастической быстротой. Тьма скрадывала от глаз детали, но общая картина вырисовывалась четко и ярко. Комбриг стоял на броне танка гвардии капитана Барамия, батальон которого в бой пока не вступал, ожидая своей очереди. Еще миг – и ведущий «тигр» раздавит огневую точку Полундина. Хотелось крикнуть в мегафон, предостеречь, дать совет, но кто сейчас его услышит…
Полундин заговорил сам. Подпустив фашиста совсем близко, он прицельно ударил по гусеницам и смотровым щелям. Удар был точный. «Тигр» утратил зрение и ход. Но он еще был страшен в своем слепом гневе. Медленно поворачивая тупую голову-башню, он извергал огненную смерть, пока снаряд противотанковой пушки не заклинил ему башню.
Подбитый танк загородил путь остальным четырем, Не задумываясь, они пошли в обход – первые два через подворье фольварка, остальные – через придорожные заросли. После короткой огневой стычки с ними покончили Качан, Мефодиев и самоходки Журбы.
Неожиданно драматично сложилась ситуация в фольварке. Замаскированные тридцатьчетверки Бакулина и Белокаменя ничем не обнаруживали себя, немцы двигались вслепую. Этим и хотел воспользоваться Бакулин, чтобы пропустить их и ударить сзади по двигателю и бакам с горючим. Но Белокамень не понял его замысла. То ли изменила фронтовая выдержка, то ли погорячился наводчик Шульга, только они преждевременно открыли огонь и демаскировали себя. «Тигры» расстреляли их в упор.
Бакулин мгновенно оценил обстановку: «тигры» вырываются на промежуточную асфальтированную дорогу, ведущую к перекрестку. Но вот на перехват им спешат «коробки» Мефодиева и Качана, самоходки Журбы. Значит, комбриг заметил опасность. Взглянув на наводчика, Голубец понял его без слов и ударил по ближайшему «тигру». Мимо. Еще раз! На этот раз удачно: извилистой змейкой по вражеской броне побежал голубой огонек.
Бакулин спрыгнул на черную, покрытую лужами землю и побежал к расстрелянной «коробке» Белокаменя. На ходу сорвал с себя кожанку, макнул ее в лужу и начал сбивать пламя с тридцатьчетверки. Кожанка уже дымилась, а огонь не унимался. Вдруг Петро уловил характерный едкий запах – из переднего люка клубился черный дым. Там метался механик-водитель Степура, Облитый дизельным маслом, он горел, как живой факел. Комбат вытащил его и толкнул в лужу. Придя немного в себя, Степура начал кататься в холодной воде. Бакулин полез в танк. Среди стреляных гильз съежились наводчик Шульга и заряжающий Седых. Дым выедал Бакулину глаза…
– Товарищ комбат, они убиты, – услышал шепот пулеметчика Кочеряна.
– А ты ранен?
– Не знаю. Ударило в живот, кровь… Не знаю.
– А Белокамень? Где командир танка?
– Я тут, товарищ майор, – сквозь стон отозвался тот.
– Что у тебя?
– Нога…
Белокамень мог выбраться через верхний люк, но, видимо, надеялся чем-то помочь своим товарищам. Его израненная левая нога безвольно повисла.
– Знамя бригады у нас… – простонал Белокамень.
– У вас?
«Ах да, это же машина Соханя, принадлежавшая ранее Самсонову…»
– Где знамя?
Белокамень молчал. Наверное, потерял сознание.
– Знамя у меня… – задыхаясь, прошептал Кочерян.
Было невыносимо душно, угарно. Бакулин боялся угореть. К тому же в любую секунду мог произойти взрыв. Проверил пульс у Шульги, у Седых. Пульса не было.
– Кочерян, немедленно выбирайтесь наружу.
Ответа не было.
Бакулин взял из рук погибшего воина свернутое бархатное полотнище, взвалил себе на спину Белокаменя и сквозь пламя, которое уже охватило люк, вывалился на мокрую землю. Там ему помог Степура.
Едва успели они отползти за какое-то здание, сизый рассвет потрясло взрывом. Будто из вулканического кратера, метнулось вверх багровое знамя, перевитое траурными лентами маслянистого дыма.
Комбриг Березовский стоял на обгоревшем «тигре», подбитом взводом Полундина на скрещении дорог. Это была удобная позиция для наблюдения.
Бой не прекращался, растекаясь узкими ручьями по проселкам. Наткнувшись на сопротивление, бронированные полки генерала Брукнера не выполнили сурового приказа о компактности ударов – их расчленили удары танковых батальонов и артиллеристов Журбы. Невысокий энергичный подполковник Журба, командир артиллерии, в солдатской каске, в опаленном комбинезоне, доложил комбригу об успехах и нуждах артиллеристов.
Иван Гаврилович, несмотря на огорчительные потери, понесенные его подразделениями, в целом был доволен ходом боя. Теперь он ждал того переломного момента, который трудно предвидеть заранее, но который можно уловить интуитивно, благодаря опыту командира. Когда этот момент, по его мнению, наступил, комбриг ограничился одним коротким словом:
– Пора!
Давид Барамия, нервничая не меньше комбрига, мгновенно вскочил на броню своей тридцатьчетверки. Срываясь на фальцет, крикнул в мегафон:
– Вперед, орлы-ы-ы!!!
…В тот же самый день, под вечер, передовой отряд советских танков достиг шахтерского поселка Мациола Дольная. В поселке царил образцовый порядок. Его установила рабочая милиция, которую возглавил вырванный из гестаповских застенков Болеслав Офярек и его помощники товарищ Збигнев и Рудольф Шульц. Под их надзором был оставлен пленный Эдмунд Фогель для передачи армейской разведке. Осику, Непейводу и Лихобаба капитан Барамия принял на броню танков.
Танки держали курс на Глейвиц.
3
Галя Мартынова прибыла в Москву. С шумного Белорусского вокзала вышла на площадь, от которой начиналась улица Горького. По этой улице нужно было пройти к Садовому кольцу, здесь, неподалеку, проживала семья Самсонова.
В столице еще держалась зима, ночью выпал свежий снег, придав городу торжественную нарядность. Снег весело поскрипывал под сапогами, это подбадривало, настраивало на радужный лад. Все было здесь необыкновенным: и спокойный ритм города, и огромное множество людей, и их преимущественно гражданская одежда. Галя засматривалась на причудливые женские шляпки, на меховые шубки, о существовании которых, казалось, давно уже забыла. Однако в городе было много и военных. Где-то на полпути, между вокзалом и площадью Маяковского, она увидела на стройном гвардейце темную танкистскую шинель, и сердце ее вздрогнуло. Но нет, не он! Далеко отсюда Петр Бакулин!..
Галя шла медленно. Вещевые мешки, особенно тот, который с гостинцами для Самсоновых, врезались в плечи.
Натренированное ухо следило за воздухом – фронтовая привычка. Но небо было спокойно, в нем еле заметно покачивались аэростаты заграждения. Но вот неподалеку от площади Маяковского прохожие вдруг засуетились, началась толчея, как во время воздушной тревоги. Чтобы сориентироваться в обстановке, Галина опустила свою ношу на ступеньки крыльца невысокого старомодного здания и прислушалась. Нет, это не тревога!
Вооруженные автоматами конвоиры вели пленных фашистов. Бесконечная грязно-зеленая река текла по Садовому кольцу, сворачивая на улицу Горького, мимо Галины Мартыновой, очевидно на Белорусский вокзал.
Не только разношерстная толпа, в оцепенении застывшая по обочинам улицы, но и она, фронтовичка, впервые в жизни видела такое множество фрицев. Длинная немая колонна двигалась понурым позорным маршем, который отнюдь не напоминал тех напыщенных парадов из трофейной кинохроники, которые сержант Мартынова видела на экране полевой кинопередвижки. Безликие, худые и грязные, в обшарпанных, измятых, заляпанных грязью шинелях, в изорванных кожанках, с наброшенными на плечи замусоленными одеялами. Вот вам и высшая арийская раса!
Прошел час, полтора, два. А колонна двигалась без конца и края, будто что-то фантастическое, нереальное… Утомленная, измученная длинной дорогой, Галина присела на вещевой мешок, другой зажала в руке и сидела так с закрытыми глазами. Однообразный шорох изорванных сапожищ по истолченному снегу доносился до ее ушей, будто из очень далеких воспоминаний.
…Тамара Денисовна доставала из вещевого мешка подарки: металлические банки с американским колбасным фаршем, жестянки с консервированными черешнями – трофей из Обервальде, – плиточки французского шоколада, продолговатые блоки чайного печенья, квадратики пищевых концентратов, хрустящие синие пачки рафинада. Нашлись в мешке еще и изюм, урюк, инжир и другие деликатесы, присланные на фронт из Закавказья и Средней Азии.
Бледные губы Тамары Денисовны, к которым давно не прикасалась помада, плотно стиснуты, а из небольших серых глаз скатывались слезы, оставляя на щеках мокрые полоски.
Рядом стояла, словно в оцепенении, Валентина. В глазах ее, похожих на материнские, была боль, но Валентина не плакала.
Выложив продукты на стол, Самсонова присела на стул, вытерла платочком слезы.
– Спасибо… – тихо обронила она. – Спасибо, что не забываете.
Снова взяла в руки прочитанное уже перед этим письмо от командования, пробежала его глазами и отдала дочери.
– Спрячь, Валя. – И уже к Мартыновой: – Вы не откажетесь переночевать у нас?
Галина молча кивнула в знак согласия. Так и осталась она временно на Садово-Каретной.
На следующий день она написала два письма: коротенькое – в Кременчуг и пространное, обстоятельное, – на полевую почту. Вдвоем с Валентиной отправились на Центральный телеграф, надеясь, что оттуда письма пойдут скорее, чем из обыкновенного почтового ящика.
Знакомая площадь Маяковского. Ветер разорвал пелену туч, и город озарили косые солнечные лучи.
– Как много солнышка! – невольно вырвалось у Галины.
– Тебя это удивляет? – спросила Валя. – Разве на фронте нет солнца?
– Конечно, есть… Но мы… мы не любим его.
– Почему?
– Воздушная опасность.
– Ах, вот оно что!
Валентина не совсем понимала новую подругу. Воздушная опасность на протяжении одного-двух лет угрожала и Москве, но преимущественно ночью, когда солнца не бывает. Чтобы появиться над городом, вражеским эскадрильям нужно преодолеть заграждения могучей противовоздушной обороны, а этого им никогда так и не удалось сделать. Если же и прорывались, то лишь отдельные самолеты, сбрасывавшие бомбы торопливо, наугад.
– А что ты думаешь, глядя на солнце? – спросила Мартынова.
– Думаю о том, что мой отец уже никогда его не увидит. – И объяснила: – Он был солнцепоклонником. Помню, с малых лет, куда бы нас ни забросила судьба, а семьям военнослужащих часто приходилось менять местожительство, отец огораживал в летние дни домашний солярий и заставлял нас, особенно утром, загорать под ультрафиолетовыми лучами. Это я сейчас такая бледная, а в детстве совсем другим был цвет лица…
– Я тоже любила солнце, – призналась Галина. – Ведь у нас Днипро, пляж, песчаный, золотой, чудо! Но на фронте никто не любит солнце. При солнечной погоде непременно бомбят…
– Москву тоже бомбили, – сказала Валя с таким оттенком, будто была рада, что тоже испытала фронтовые невзгоды.
– Что-то не видно, – оглянулась вокруг Мартынова. – Все дома целы.
– Это здесь целы. А в других местах, например на Арбате, по-другому выглядит: театр Вахтангова начисто был сметен с лица земли. А на окраинах часто горело, я сама видела. С крыши нашего дома далеко видно.
– Охота тебе на крышу лазить.
– А как же! Мы ведь противовоздушную вахту несли. И я, и мать. Ты, наверное, думаешь, что мы тут потихоньку прозябали? Видела бы, как ночью, под рев сирен, рыщут по небу прожектора, как сыплются подлые «зажигалки», только успевай подбирать и тушить их. Не один дом сгорел бы, если бы не было вахты.
Слушая подругу, с любопытством оглядывая улицы Москвы, Галина всеми своими помыслами была на Одере. Виделся ей тяжелый танковый бой, пылающие «коробки», Петрусь в копоти и ссадинах (лишь бы только не раны), потом она снова вслушалась в горестное повествование Валентины и сказала:
– Да, всем досталось в эту проклятую войну… Ты учишься или работаешь?
– Учусь, – извиняющимся тоном ответила Самсонова. – В консерватории на дирижерском факультете.
– Ого!
Еще одну площадь миновали, поравнялись с памятником Пушкину.
– Вон там, – Валя рукой указала вниз, за памятник, – Арбат. Там упала бомба.
Так сержант Мартынова, прибывшая со станции Ченстохов в Москву, постепенно включалась в будни тыловой жизни…
Вот и Центральный телеграф – глыбистое здание, расположенное на углу широченной улицы и узкого переулка, запруженного пикапами и грузовиками. На эти машины грузили связки газет, обшитые мешковиной посылки, бумажные мешки с письмами.
Галя и тут не доверилась синенькому ящичку. Вошла в помещение, где стояли высокие деревянные ящики со специальным отверстием для писем и государственным гербом.
Опустив письма, Галя восторженно рассматривала главный зал телеграфа.
– Интересно? – спросила Валя.
– Здорово! – призналась связистка. – Какая же здесь сложная механика, сколько писем, газет, телеграмм… Ей-же-ей, здорово! – Галина даже прищелкнула языком. – Вот бы попрактиковаться.
– Устраивайся. Будем ходить вместе в театры.
Мартыновой не хотелось сейчас думать ни о работе, ни о театрах. Отдохнуть бы как следует, выспаться за все ночные тревоги и дежурства…
– Хочешь взглянуть на Московскую Государственную консерваторию имени Чайковского?
– Хочу.
– Тогда пошли.
По Газетному переулку прошли на улицу Герцена, и вот оно – величественное здание прославленной консерватории.
Мелодии Чайковского! Она вдоволь наслушалась их вечером, в филиале Большого театра, куда повела ее Валя. Шел балет «Лебединое озеро». Галина смотрела его впервые, а Валя, наверное, в сотый раз.
Перед этим Валентина с большим трудом уговорила гостью снять военную форму, которая в эшелоне за много дней пути измялась и загрязнилась. К счастью, в вещмешке сержанта Мартыновой нашлось голубое бархатное платье с белым воротничком и шевровые туфли. Но давно уже девушка отвыкла от высоких каблуков. Поэтому во время спектакля она тайком то и дело снимала туфли, давая отдых ногам. Хорошо, что в раздевалке у нее и шинель, и сапоги!
Публика очень пестрая – гражданские в гражданском, военные в своем, только она, дура, прислушалась к совету… Ведь гимнастерку можно было выстирать и просушить утюгом. Тогда не чувствовала бы себя не в своей тарелке.
Но вскоре она обо всем этом забыла. Под звуки очаровательной музыки балерины в белоснежных пачках в самом деле похожи были на игривых лебедей. И пошло, полилось, поплыло…
Когда занавес опустился, сержант Мартынова горячо хлопала в ладоши, что-то восторженно кричала, слившись в единое целое со всем залом.
В антракте к Самсоновой подошел высокий, стройный юноша. Называл ее вежливо и солидно: Валентина Михайловна. По обрывкам разговора нетрудно было догадаться, что они давние друзья и понимают друг друга с полуслова.
Второй акт был таким же чарующе-трогательным, а в антракте к ним снова подошел стройный юноша. Пригласил в буфет. Валентина официально представила их друг другу, назвав юношу молодым композитором Олегом Кондрацким.
– Я тоже побывал на фронте, – сказал композитор, когда они спустились в буфет. – Ездил с концертной бригадой.
– Олег был на Курской дуге, – дополнила его Валя.
– Да, да, – сказал он. – То, что я там увидел, не забуду никогда. – Его продолговатое худощавое лицо стало грустным и вдохновенным. – Обоянь, Солнцево, Прохорова… Самолеты, танки, звон, скрежет, огонь. И среди всего этого – человек. Я хочу воссоздать этот ужас и стойкость наших людей во Второй симфонии, которую заканчиваю.
В буфете продавали яблоки, крюшон и конфеты на сахарине. Они пили крюшон, ели горьковатые конфеты. Олег что-то энергично доказывал Валентине, которая спросила у него, скоро ли он закончит свою симфонию. Галина к их разговору не прислушивалась, снова улетев мыслями далеко.
Это было в самом деле похоже на сон. Пылающий танк старшего лейтенанта Коваленко, из которого вряд ли кто спасся, тральщики, которые пропахивают минные поля, самоходки, бьющие прямой наводкой по противотанковым укреплениям, встречные удары «тигров» и «Фердинандов», истерический вой пикирующих бомбардировщиков, охваченная пламенем и дымом земля. Это последнее, что вынесла Галина с собой оттуда. И вдруг этот зал, пестрая толпа зрителей, эта чарующая музыка…
Однако отчетливо чувствовалось: война присутствует и здесь. Об этом свидетельствовал и нетопленый зал, и полевые погоны на гимнастерках и кителях, и горькие конфетки на сахарине. А более всего – мысли и разговоры людей. Вот и Кондрацкий, оправдываясь перед своей подругой, уверял ее:
– Пишу, перечеркиваю, несу дирижеру и… забираю обратно. Это же не обычная война, поймите, это битва всего чистого и честного, что есть в человеке, против дикости и варварства. Я проштудировал Ницше, раздобыл и прочел «Майн кампф» и ужаснулся: какая чудовищная опасность угрожала человечеству. О нет! Либо я напишу что-то такое, что можно противопоставить фашистской философии звериных инстинктов, либо изорву и сожгу все до последнего клочка бумаги. Ибо иначе…
Галина не слышала конца его фразы – прозвучал третий звонок, и они направились в зал.
Но теперь музыка – мягкая, трогательная музыка Чайковского – почему-то не доходила до ее сознания. Галя мысленно была там, на далеком огненном рубеже, где сейчас сражалась ее бригада.
Даже у гардероба она не могла еще опомниться, не могла толком ответить Валентине, которая спрашивала ее о впечатлении, о постановке, не могла понять, почему она, собственно, тут.
Подбежал Олег – попрощаться. Ему нужно было встретиться с дирижером, договориться об очередной переделке своей симфонии.
…Над зимней Москвой сверкали голубые весенние звезды.
«Сегодня звезды сини, словно сливы, такие звезды выдумала ты!» – продекламировала Валя.
– Маяковский? – спросила Мартынова.
– Нет, Луговской.
Они пошли вниз, на Манежную площадь, к станции метро «Охотный ряд». В тусклом свете весенних звезд, будто на гигантском фотонегативе, выделялись темные силуэты Кремлевских башен. Рубиновые звезды на них были плотно завернуты в чехлы.
– Ты любишь его? – спросила Галина об Олеге.
– Наверное, – просто и искренне ответила Самсонова.
– А он тебя?
– Наверное. – И засмеялась.
– Почему же он так официально, по имени и отчеству?
– Стесняется.
– Чего, любви?
– А мы с ним о любви еще не говорили.
– То есть как?
– Так. Ищет меня, делится творческими замыслами, жалуется на неудачи, прислушивается к советам и – на этом все.








