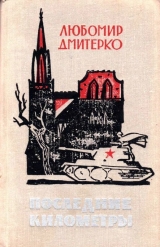
Текст книги "Последние километры (Роман)"
Автор книги: Любомир Дмитерко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Над дорогой стоял тяжкий смрад. На телеграфных столбах, сколько охватишь взором, качались трупы в болотной зеленой форме. На груди у каждого белела дощечка с черной надписью: «Файглинг» – «Трус». Это были те, кто понимал бессмысленность дальнейшего сопротивления.
– Вот оно как, – указал рукой Барамия.
– Вижу, – ответил комбриг. – Потому-то они так яростно и сопротивляются.
– До Берлина тридцать девять километров, – прочел на указателе Сашко Чубчик. Итак, будет еще тридцать девять боев.
– И сто тридцать девять в самом Берлине, – сердито сплюнул Барамия и произнес непонятные слова.
Сашко поинтересовался:
– На каком это?
– На мингрельском. Если бы не комбриг, я сказал бы тебе и по-русски.
Тем временем автострада оживала. Похоронная команда снимала и закапывала трупы повешенных. Прибыла санитарная летучка за ранеными, потом появились автоцистерны с бензином и дизельным горючим, машины с красными флажками – боеприпасы, интендантские фургоны с горячей пищей. Фронт и тыл подтягивались еще ближе к окончательной цели наступления. Главного наступления Великой Отечественной войны.
От большей части Новой имперской канцелярии остались обгоревшие стены и потрескавшийся мраморный цоколь. Американские «летающие крепости» и советские бомбардировщики изрядно покорежили казенную помпезность гигантского сооружения, которое по указанию фюрера проектировал главный архитектор рейха и рейхсминистр хозяйства Альберт Шпейер.
Словно крысы на тонущем судне, Гитлер и его ближайшие подручные забились в восемь комнаток-нор стального бункера, на глубине пятнадцати метров под землей.
Утром двадцатого апреля Гейнц Линге, личный слуга Гитлера со званием штурмбанфюрера СC, сделал очередную запись в своем дневнике: «Сегодня день рождения фюрера. Ему исполняется пятьдесят шесть. Выглядит очень плохо».
Сообразительный лакей завел себе эту тетрадь, будучи твердо убежденным в том, что каждое записанное в нем слово взойдет когда-то золотыми рейхсмарками и обеспечит ему беззаботную старость. Аккуратно закрыл дневник, положил в маленький ночной столик, запер ящик на ключ. Ждал, когда проснется хозяин.
Еще десять дней назад полтора десятка слуг были отправлены в баварские горы, в Оберзальцберг, куда сегодня должен переехать фюрер. Оттуда он будет руководить боями, которые спасут фатерлянд.
Наконец зазвенел звонок, и Линге бросился очертя голову. Возле спальни фюрера его встретил майор Альберт Борман, адъютант Гитлера, брат Мартина Бормана – казначея и фактического руководителя нацистской партии. Борман-старший и партийная касса находились в другом бункере, тут же, поблизости. Третий и последний бункер принадлежал комендатуре полуразрушенной Новой имперской канцелярии.
– Подожди минутку, – приказал слуге адъютант. – Фюрер чувствует себя плохо.
И бесшумно скрылся в соседней комнате-клетке.
Не через одну, а через целых тринадцать минут – Линге следил по часам для дневника! – из спальни выплыл приземистый доктор Морель с неизменным своим саквояжиком. В нем – Линге знал это доподлинно – шприц и удивительная мешанина лекарств, которыми жуликоватый Морель поддерживал гаснущие силы фюрера.
Гитлер сидел на постели, опустив на пол худые, узловатые ноги. Был он в длинной, до самых пят, ночной сорочке. Лицо пепельно-серое, под глазами тяжелые синие мешки, руки дрожат, особенно левая, контуженная взрывом бомбы заговорщиков.
– Доброе утро, мой фюрер! – поздоровался Гейнц Линге. – Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья и…
– Оставь, Линге, не нужно. Я свое здоровье отдал Германии. И здоровье, и жизнь. Давай одеваться.
Каждодневная процедура одевания была настолько знакома штурмбанфюреру, что он мог выполнять все необходимые движения с закрытыми глазами. Общаясь со своим властелином, Линге никогда не позволял себе излишней фамильярности. Но сегодня, в такой день, отважился на слова успокоения.
– Я хорошо знаю Оберзальцберг. Это поистине очаровательное местечко. Там…
– Никуда я не поеду, Линге. Слышишь, никуда! – И уже не для слуги, а для истории изрек: – Мы не капитулируем никогда!
Гейнц Линге оторопел. Как?! А слуги, поехавшие в Оберзальцберг для подготовки квартиры? Счастливцы! Теперь они, по крайней мере, среди гор, на свободе.
Он машинально подал черные штаны, коричневый китель с черной повязкой, сапоги… Если фюрер передумал, значит, что-то изменилось. Видимо, он будет руководить решающими боями отсюда!
В самом деле, с тех пор, как было решено переезжать на юг, то есть за десять последних дней, изменилось очень многое. Красные перешли в генеральное наступление. Оборонительные зоны немцев не выдерживали удара. Гул канонады доносился до окраин Берлина.
Замыкалось кольцо и с других сторон. В Вене красные, на верховьях Дуная – французы, на Эльбе – американцы, на окраинах Бремена и Гамбурга – англичане.
Оберзальцберг? Бесплодная фантазия, наивная мечта! Свой долг он выполнит до конца здесь, в Берлине.
Завтракал у Евы Браун. Она специально приехала сюда на день его рождения и заняла в бункере отдельную комнату.
Воспаленными от бессонницы глазами смотрел он на свою любовницу, на свою позднюю странную любовь единственного, по-настоящему верного ему человека во всей Германии. Вспомнил шумный Мюнхен, рекламное фотоателье Гофмана и ее – скромную сотрудницу, дочь старомодного учителя ремесленной школы. Их скупая любовь в нанятой квартире, длительные разлуки, ее сомнительное положение в обществе.
Чтобы доставить ему удовольствие, Ева включила «телефункен». Торжественный с артистическим надрывом голос Геббельса, слишком громкий для его мизерной фигуры, поздравлял немцев с днем рождения фюрера, призывал их верить в победу. Гитлер поморщился. Ева нажала на миниатюрный белый клавиш, приемник умолк.
…Через два часа, ослепленный солнцем, Гитлер выполз из укрытия. Еще раз увидел жуткие руины, под которыми теперь постоянно жил и дышал. Во дворе и в саду валялись обломки стен, мраморных плит, бронзовых канделябров. Деревья протягивали к нему изуродованные ветви и изломанные стволы: некоторые из них, вырванные с корнем, лежали, как мертвые солдаты на поле боя. «Проклятье! Ничтожный, жалкий немецкий народ, оказавшийся недостойным своего великого вождя!..»
Лицо его подергивалось, рот конвульсивно хватал пьянящий воздух, руки и плечи судорожно дрожали. А ему нужно было сделать еще один жест для истории: в изуродованном саду разрушенной канцелярии он, великий фюрер тысячелетнего рейха, должен был сегодня, в честь своей годовщины, принять делегацию гитлерюгенда.
Делегацию – два десятка мальчишек школьного возраста, наспех одетых в военную форму, – привел руководитель гитлеровской молодежи Берлина Артур Аксман. На трагикомической церемонии присутствовали Гиммлер, Геринг и Геббельс.
Перед Гитлером теснилась шеренга бледнолицых подростков с набожными и перепуганными глазами. Не было у них ни солдатской выправки, ни арийской осанки, ни тевтонского запала. А он пошлет их на смерть. В решающий бой. Прямо отсюда – к черту в зубы!
И не пожалел. Не испытывал ни малейшего сожаления или колебания. Если произойдет чудо, то немецкая нация достойна своего фюрера. Если нет, то немецкий народ слишком слаб, чтобы выдержать это историческое испытание, и единственное, чего он достоин – уничтожения!
Так фюрер думал.
А говорил обыкновенные, банальные слова о чести и долге солдата. Сначала бормотал глухо, неубедительно. Но постепенно разгорался. И вот уже его резкий, хриплый голос рычал в пустыне развалин так, словно он выступал перед гигантской, многомиллионной армией. Той самой армией, которую толкнул в могилу под Брестом, Смоленском, Одессой, Киевом, Севастополем, Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Новороссийском, Орлом, Курском, которую потопил в Дону, Днепре, Висле, Дунае, Одере…
– Мои солдаты! Воины великой Германии! – обращался он к кучке затравленных подростков. – Слава немецкого оружия еще будет греметь в победных битвах…
«Так и есть, – мысленно распекал себя разъяренный от злости Гиммлер, – профессор де Крини говорил правду: болезнь Паркинсона в ее классическом проявлении. Это болезненное, маниакальное состояние длилось годами. Я знал об этом. Еще было время, была возможность. Мы имели друзей по ту сторону фронта от Аллена Даллеса до папы Пия. Какого черта я колебался! Верность? Вряд ли. Чувство долга? Глупость! Страх? Видимо, прежде всего. Особенно после неудачного покушения в Растенбурге. А теперь поздно. Поздно, поздно, поздно…»
«Я ни в чем не могу себя упрекать, – размышлял Геринг. – Я издавна предчувствовал, что этот разъяренный сифилитик до добра нас не доведет. Но игра есть игра. Разве я ничего не выиграл? Из прозябающего летчика я превратился в сказочного богача. Передо мной склонялись короли и президенты. В мою постель охотно ложились самые привередливые красавицы мира. Я охотился на оленей в парках собственного имения. А теперь сам стану объектом охоты. Таковы законы борьбы…»
«Чудо будет, непременно будет, – упрямо убеждал себя Геббельс. – Гороскоп обмануть не может. Смерть Рузвельта – лучшее доказательство этому. На севере группу морских и сухопутных войск возглавит гросс-адмирал Дениц, объединившись с группой Штейнера, на юге еще прочно держится Кессельринг. С Эльбы в район Берлина подойдет девятая армия и вместе с двенадцатой нанесет удар по южному участку русских. Мы выстоим, пока появится новое секретное оружие. Немецкий дух не сломить никому!» Веря и не веря собственным мыслям, он оцепеневшими пальцами нащупывал в нагрудном кармане металлические капсулы, в которых притаились шесть смертельных доз цианистого калия: для жены и пятерых дочерей. Для себя – пуля…
И только наспех одетые в военную форму мальчишки не думали ни о чем. Совершенно ни о чем. Они пожирали глазами божественное видение. Думать их отучили с первых шагов жизни.
Двадцатого апреля советская дальнобойная артиллерия открыла огонь по Берлину. Две величайшие армии мира, которые до сих пор сражались на тысячекилометровых пространствах, сосредоточились на небольшой площади, вокруг одного города. Возможности маневра для танковых частей уменьшались с каждым километром.
Бригада Березовского наступала в направлении Цоссена, в подземелье которого размещался штаб сухопутных войск рейха. По данным разведки, штаб во главе с генералом Йодлем спешно эвакуировался в Потсдам, поближе к штаб-квартире фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, руководившего боями на Западном фронте.
Вокруг Цоссена мощные укрепления, и его решили обойти слева, через Луккенвальде. Батальоны Чижова и Барамия пробились сквозь противотанковые рвы и подвижные огневые заслоны, прикрывавшие подходы к небольшой речке. Комбригу показалось странным, что гитлеровцы словно бы охотно впустили наши тридцатьчетверки на прибрежный покосный луг. Взглянул на карту, которую держал перед собой, и понял маневр врага. Это была ненадежная, болотистая местность, естественная западня. Сверху заманчиво зеленели луговые травы, на бугорках уже зацвела желтоватыми звездочками заячья капуста, а ближе к берегу, сквозь сухую прошлогоднюю ботву пробивались свежие ростки травы. Но внизу, под всем этим, таилось болото. При помощи оптики хорошо было видно как всю эту поляну, так и замаскированные вражеские батареи на той стороне небольшой речушки, которая неподалеку отсюда впадала в систему озер, а из них вытекала дальше в Хафель и Эльбу. С тяжелыми боями, прорвав укрепления Шпрембергской возвышенности и с ходу форсировав Шпрее, бригада вползала в губительные трясины многочисленных болот и озер, которые гигантской подковой охватили город с юга – от Штраусберга до Бранденбурга.
Передние машины выскочили было на поляну и сразу же дали задний ход. Танк Барамия выдвинулся вперед и начал медленно пробираться по болотцу, выискивая пригодную дорогу. За ним пошли другие. Комбриг еще раз окинул взором карту. На ней были обозначены инженерные укрепления и огневая система противника. Именно в этом месте извилистая речушка делала наибольший изгиб, и заманчивый луг вытянулся впечатляющей дугой. Комбриг приказал:
– «Сорок шестой» и «пятьдесят девятый», стоп! Не вытягивайтесь в одну линию! Вас перебьют перекрестным огнем. Наступайте широким фронтом. Огонь, огонь по противоположному берегу!
Комбаты начали перегруппировывать роты. Но фашисты воспользовались этой минутной ошибкой. Вспышка за вспышкой – и уже усиливается огонь с обоих флангов.
Снаряды месят луг, попадают в тридцатьчетверки, искры и пламя сверкают и сразу же гаснут. У тридцатьчетверок крепкий панцирь, от большинства попаданий остаются лишь вмятины. Потом, когда закончится бой, они будут подсчитаны, сколько у кого – десять, двенадцать или больше. А сейчас бой в разгаре, и среди девяти снарядов может найти тебя тот единственный, последний…
Спасибо неугомонному, энергичному Журбе. Он своевременно подоспел со своими самоходками и обрушил прицельный огонь на головы фашистов.
Но танк Барамия загорелся.
Первым на помощь ему бросился Голубец. Когда Березовский прибыл к месту происшествия, Голубец и его товарищи уже погасили пожар. Им помогло то, что поблизости были небольшие озера.
В танке заклинило башню, пришлось вытаскивать экипаж через передний люк. Первым из него вывалился механик-водитель в тлеющем комбинезоне. Он был оглушен и произносил всего лишь одно слово: «Братишки… Братишки…» С этим словом упал на землю. Повторял его, катаясь по мокрой траве. Водителя оставили, он вскоре придет в себя. Другие хлопцы тоже отделались легкой контузией или царапинами. В самом тяжелом состоянии был комбат: ранение в области печени.
Голубец наложил Барамия повязку. Она сразу же пропиталась кровью. Раненый лежал на левом боку, на броне танка комбрига – его собственная тридцатьчетверка, облитая водой, окуталась даром, дышала еще не остывшим огнем. С каждой минутой комбату 3 становилось все хуже и хуже. Березовский, вызвав по радио Соханя, попросил его раздобыть санитарный самолет и прислать за раненым. Для посадки указал отлогую высоту, которую только что оседлал Полундин.
Собравшись с силами, Барамия заговорил:
– Плохо мне, понимаешь? Плохо. Отнесите меня на гору. На высокую гору. Откуда виден Берлин.
Всем стало горько. Они находились в болотистой долине, Берлин был совсем близко, но его еще никто не видел. Все они надеялись увидеть его завтра или послезавтра, у комбата такой надежды уже не было.
Комбриг взял раненого за руку, нашел пульс.
– Держись, Давид. Сейчас прибудет самолет. А Берлин от тебя не удерет.
Березовский приказал своему механику-водителю Нестеровскому осторожно вести танк на высотку, куда должен был приземлиться самолет.
Березовский остался на броне возле комбата с ординарцем Платоновым и стрелком-радистом Кардиналом. Танк медленно двигался по озимым хлебам. Грунт был мягкий, однако каждый толчок причинял муки раненому.
Танк забирался все выше в гору. В солнечном небе грохотали Пе-2, шли бомбить Берлин. Чубчик вынул носовой платок и, смочив его водой из фляги, приложил комбату к губам. Барамия молчал.
Остановились у автострады. С каждой минутой здесь все усиливалось, все нарастало движение. Бронетранспортеры с саперами спешили на помощь танкистам, впереди множество рек и озер, труднопроходимая местность, минные поля. Туда же командование перебрасывало понтонные части. Мчались санитарные машины и мотоциклы офицеров связи. Грохотали резервные танковые роты, подразделения мотопехоты, цистерны с горючим. Привычные фронтовые будни.
– Вот и хорошо, Давид. Сейчас прибудет самолет… – Березовского беспокоило упорное молчание комбата. – Давид! – Барамия не отвечал.
Сашко Чубчик потрогал платочек. Он был мокрый и холодный.
Комбриг склонил голову.
– Не дождался, бедняга, ни Берлина, ни самолета…
Он хотел снова вызвать начальника штаба, чтобы тот не беспокоился, самолет уже не нужен, как вдруг Чубчик, забравшийся на башню, крикнул:
– Товарищ комбриг, смотрите!
– Самолет?
– Берлин!
Это было невероятно. В бинокле вырисовывались какие-то фантастические стены, крыши, башни, а над всем этим – столбы огня и дыма.
Смотрели долго, до боли в глазах. Верилось и не верилось, что это Берлин, что вскоре всему конец. Однако нужно рыть могилу. Еще одну могилу на пути великою похода…
Тем временем Кардинал, не расстававшийся с карандашом и альбомом, уже рисовал. За рекой гремел бой, по автостраде мчались машины, а молодой художник был занят своим: он создавал картину «Танкист на смертном одре…»
«Когда закончится война, – думал он, – я буду рисовать тишину. Осточертел мне этот вечный грохот и шум. А тишину можно нарисовать! Неподвижные тополя среди безбрежных полей, цветущий сад, встреча восхода солнца ошеломленным малышом…»
Танкисты быстро вырыли яму. За годы войны каждый из них, – роя щели, траншеи, могилы, – перекопал немало… Комбриг вынул из кармана погибшего партбилет, медальон с домашним адресом и фотографию тонкобровой девушки.
Когда тело Барамия снимали с брони, низко над автострадой показался небольшой моноплан. Это был не санитарный С-5, а обыкновенный «кукурузник» У-2, а на нем летчица и пассажир в танкистском шлеме. Самолет приземлился на озимом поле, в пассажире все сразу же узнали прославленного комбата Бакулина. Он шел навстречу им осунувшийся и словно бы помолодевший, лицо его было испещрено багровыми полосками шрамов, руки еще забинтованы.
Летчица Инна Потурмак доложила комбригу, что санитарная авиация вся в разгоне, поэтому ей приказано было прибыть в его распоряжение. По дороге из штаба армии напросился этот бесплатный пассажир.
Березовский, ни о чем не спрашивая, обнял Бакулина.
– Ну, как вы тут? – опомнившись от первого возбуждения, спросил прибывший.
– Да вот, воюем, – ответил нисколько не удивленный его появлением комбриг.
– Как мои ребята?
– Не подкачали.
– Кто над ними?
– Полундин.
– Ясно.
Комбриг не стал хвалить Полундина, в глазах Бакулина и без того сверкнул ревнивый огонек. Без лишних слов, по-деловому предложил:
– Принимай батальон Барамия. А там видно будет.
– Служу Советскому Союзу!
Посмотрел на желтое, искаженное смертью лицо боевого друга.
– Прости, Давид. Война…
Инна Потурмак подала комбригу пакет:
– Из штаба армии.
Березовский разорвал конверт, пробежал глазами документ, передал Бакулину. Выдержка из Указа: гвардии капитану Барамия присвоено звание Героя.
– Вот что, – сказал Иван Гаврилович летчице. – Не будем мы его закапывать вот так, наспех. Вези в штаб армии. Пускай похоронят как надлежит – со всеми воинскими почестями. И… – минутку подумав, добавил: – Покажи ему Берлин. С высоты.
Березовский говорил о мертвом, как о живом. Вспомнил в этот миг. Мефодиева, Коваленко, других своих побратимов…
Когда Барамия посадили в самолет и крепко привязали к сиденью, летчица, прежде чем запустить пропеллер, подозвала Сашко Чубчика и что-то зашептала ему. Потом сунула в руку солдатское письмо-треугольник. Комбат уловил конец ее фразы: «Только передай, непременно передай, лично!» И только после этого побежала выполнять необычный приказ командира бригады.
Березовский вопросительно взглянул на ординарца.
– Капитану Осика, – сказал Чубчик.
Жизнь и смерть шли рядом.
Тельтов-канал.
О нем столько передумано, переговорено за эти продымленные дни и ночи! Вот он – перед глазами. И восторг, и разочарование. Ничего особенного: обыкновеннейший грязноватый канал. Закованный в бетон, он волнистой линией окаймляет южную границу Большого Берлина между железнодорожными магистралями на Магдебург и Лейпциг.
Местечко Тельтов сейчас представляло собой сплошную пустыню раздробленных камней, битого кирпича, смятой арматуры, обгоревших «тигров», «пантер», «фердинандов», «блиц-опелей». Кладбище человеческого труда и надежд, изрытое траншеями, издолбленное воронками… Хорошо поработали в эти дни наша дальнобойная артиллерия, бомбардировщики, штурмовики, «катюши».
Но в этом мертвом хаосе все еще теплится жизнь. Теплится лишь для того, чтобы убивать или быть самому убитым.
Гвардии майор Бакулин вывел третий батальон на дамбу, по которой через канал автострада вела в берлинские районы Лихтерфельде, Шенеберг и в центр города. Комбат уже собирался выкрикнуть: «Вперед! Дае-ешь Берлин!», но заметил посредине дамбы глубокую воронку от фугаски, которую танкам не преодолеть. Понял, что представляет собой прекрасную мишень для «кобр», притаившихся на противоположной стороне. Скомандовал задний ход, но батальон сгрудился на узеньком пятачке перед дамбой, возможность маневра равнялась, что называется, пулю. Танк Голубца подошел последним. Лейтенант сообразил, что тут будет много мороки, пока танкисты очистят дамбу, а саперы под огнем противника залатают воронку. Единственный выход искать брод.
Неподалеку отсюда увидел подходящее место с покатым берегом. Дал команду задраиться, захлопнул крышку люка и велел механику-водителю осторожно спускать машину вниз. Заторможенные гусеницы, размалывая бетон, с пронзительным скрежетом медленно и грузно спускались к воде. А Бакулин тем временем взял максимальный разгон и чудом перескочил через воронку – его танк на берлинском берегу оказался первым.
Форсировав Тельтов-канал, они пересекли официальную границу имперской столицы. Комбриг поздравил экипажи по радио. Вдруг танк сильно тряхнуло. Попадание снаряда. Их нащупала «кобра». Будто нарочно, чтобы предостеречь от преждевременного торжества.
– Осколочным! – приказал Березовский. – Прямой наводкой!
Комбриг поднял люк башни. Увидел перекошенную вражескую пушку, возле которой суетились те, кто уцелел. Замахнулся и изо всей силы швырнул гранату. Взрыв, фонтан земли и дыма, кто-то упал, кто-то побежал.
Танк мчался по берлинскому предместью. Охваченный азартом, не думая об опасности, комбриг выбрался на броню, чтобы бить, бить, бить фашистскую нечисть фугасками, лимонками, автоматными очередями.
Когда кончилось горючее и танк замер в каком-то искалеченном сквере, все вокруг горело. И комбинезон на Березовском тоже. Чубчик со словами: «Сейчас, сейчас, товарищ комбриг!» мокрым ватником начал сбивать с него пламя. В скверике был кран для поливки клумб. Электростанция и водопровод в Берлине все еще работали. Танкисты набрали в шлемы воды, обливались ею, с жадностью пили.
Прямо из огня появились два виллиса. Подрулив к скверику, из них вышли в плащ-палатках Маршал Советского Союза, командующий армией и член Военного совета с адъютантами Борисенко и Рогулей. Видно, не только комбрига охватил яростный азарт…
– Кто это здесь носится в аду? – знакомым хриплым голосом спросил маршал. Он положил руку на плечо комбрига, посмотрел на его обгоревший и мокрый комбинезон, весело засмеялся: – Как же вы в таком виде пожалуете к Гитлеру в гости?
Березовский смутился, почесал облупившийся на весенних ветрах нос и тоже пошутил:
– Думаю, что у него вид теперь куда похуже!
– Однако, – торопился маршал, – отдыхать еще не время. – Обратился к танкистам: – Поздравляю с первыми шагами на берлинской земле! – Приветливо махнул рукой, освобождая от необходимости отвечать по уставу, обнял комбрига: – А вас, товарищ Березовский, поздравляю с орденом Богдана Хмельницкого. Как вы думаете, товарищ командарм?
– Так, товарищ маршал, – ответил Нечипоренко. – Кто-кто, а он, – командарм сделал ударение на местоимении, – полностью заслужил. – И к Березовскому: – Поздравляю вас, Иван Гаврилович. Только не думайте, что война закончилась. Впереди, – генерал-лейтенант показал на лабиринт пылающих зданий, – еще много работы…
– А после Германии – Япония, – добавил Маланин. – На наш век этого добра хватит.
Пожали ему руку и скрылись в пожаре.
5
Галя Мартынова с нетерпением схватила письмо, адрес был написан рукой Бакулина. Огромный холл почтамта каруселью завертелся вокруг нее. Петр писал с КП армии. Жив, здоров, возвращается в бригаду. Беспокоится о ней, любит ее!
Хотелось танцевать, смеяться, кричать от счастья. Скорее бы на воздух, на простор! Увидеть Валю, Тамару Денисовну, рассказать им или прочесть вместе с ними эти драгоценные строчки.
Но до конца смены оставалось еще полтора часа. Нужно приглушить свои чувства, свою радость, разделяя радость и горе других. Телеграммы плыли нескончаемым потоком.
Вдруг поток прекратился. Прокатился торопливый гомон, послышались выкрики удивления, очереди людей покачнулись, зашевелились и – растаяли. Воздушная тревога? Почему? Каким образом?
Закрыв окошко, Галя надела шинель и выбежала на улицу Горького. Широкая улица до отказа заполнена людьми. Сверху, со стороны площади Московского Совета, мужчины и женщины, многие с детьми на руках или на плечах, двигались вниз к Манежной и Охотному ряду, что-то выкрикивая и показывая в сторону Красной площади. Галина тоже взглянула туда.
На Кремлевских башнях ярко пылали рубиновые звезды. Почти полторы тысячи дней и ночей прятались они от вражеского глаза под маскировочными чехлами и только теперь засияли вновь. Сначала Галя увидела одну звезду, потом другую, а когда неудержимый людской поток понес ее с собой мимо театрального подъезда, мимо гостиниц «Националь» и «Москва», перед глазами девушки предстало непередаваемое зрелище.
Об этом событии уже узнала вся огромная столица. Толпа вокруг Кремля с каждой минутой разрасталась. Загремели оркестры, зазвучали песни. Люди поздравляли друг друга.
6
Березовский по радио разыскивал Майстренко. «Поэт своего дела» застрял со всем хозяйством где-то в районе Тельтов-канала. Бригада после боев в Лихтерфельде очищала Штеглиц, приближаясь к центру. Враг яростно цеплялся за каждую улицу, переулок, здание.
Перед глазами комбрига возникали эпизоды этого многодневного изнурительного боя. Танкистам и автоматчикам то и дело преграждали путь движущиеся и врытые в землю «тигры», «пантеры», «фердинанды», хитро замаскированные «кобры», пулеметные гнезда, снайперы, охотившиеся с каждого балкона и окна. Но более всего досаждали фаустпатроны.
Так и не разыскав в этом вавилонском столпотворении своего заместителя по тылу, комбриг связался с начштаба Соханем.
– Как дела у Бакулина?
– В батальоне большие потери.
– Когда вступит в бой Полундин?
– Когда понадобится.
– Даю два часа. Где Майстренко?
Ищи иголку в стоге сена.
– Если найдете, поторопите. И Никольского тоже.
– Инженер-майор на железной дороге.
– Что он там делает? Нам нужно обезвредить фаустников. Беда мне с помощниками: один поэт, другой бабник. Не иначе, нашел уже где-нибудь берлинку…
– Он в этих делах мастак! А что там у вас, трудно? – перешел на серьезный тон Сохань.
– Трудно, очень трудно. Тяжелые потери изо дня в день. А сегодня – особенно.
…Т-34 с проломленным бортом. Сквозь пробоину видны искореженные внутренности машины, раненый механик-водитель Потеха и убитый командир взвода Голубец. Молодой коммунист обезвредил двух «фердинандов», которые перекрывали важный перекресток. Но внезапно вырвался третий и вплотную выстрелил в борт.
Эвакуировать мертвых не было возможности. Похоронная команда собирала их, вносила в списки и хоронила в скверах и на площадях. Для братских могил использовали воронки от бомб и снарядов.
А бригада шла вперед, с каждым шагом приближая конец фашистской армии, гибель тех, кто развязал войну.
Наконец комбриг смог выбраться из своей машины. Бой на короткое время затихал, у экипажей заканчивались боеприпасы. Березовский закашлялся от гари и дыма. Видимость никудышная, невозможно понять – день или ночь? А сверху немилосердно печет весеннее солнце. Когда глаза немного освоились, увидел поодаль, за углом здания, группу штабных офицеров. Среди них – о диво дивное! – Семен Семенович Майстренко. Не дожидаясь напоминаний, «поэт» окружным путем провез через пылающие кварталы горючее, боеприпасы, термосы с горячей пищей.
– Семен Семенович, на крыльях?
– Зачем крылья? Ползете ведь как черепахи.
– Ползем… – Березовский смотрел вперед: кварталы, кварталы, кварталы, кварталы. Дома высокие, капитальные. Сколько их еще будет: двести, пятьсот, тысяча?.. – Тут не проедешь пятьдесят километров в сутки…
– Эх, делали и по семьдесят.
– Было. А вот сейчас не так: дают нам прикурить, негодяи, издыхая.
– Отступать-то им некуда.
– Ну да.
Только что затих бой. Танкисты Бакулина и Чижова, автоматчики Осадчего, артиллеристы Журбы очищали соседний квартал, а из подземелий уже выползали похожие на привидения жители. С волчьей жадностью смотрели на бойцов, которые торопливо завтракали.
Комбриг приказал передать берлинцам два бидона с едой и пять буханок хлеба. Разгоряченные боем, подавленные утратой друзей, разъяренные бессмысленным сопротивлением фашистов и к тому же и сами проголодавшиеся, танкисты безмолвно выполнили приказ. Лишь Майстренко недовольно ворчал. Но и он смягчился, увидев, как изнуренные, еле живые женщины хватают еду не для себя, а для детей.
Вместе с Майстренко на передовую прибыли Терпугов и Аглая Дмитриевна. Начмед уже успела оборудовать в одном из подвалов передвижной пункт, где работали без отдыха хирурги.
Из окутанного дымом переулка появился капитан Осика. Без шинели он казался еще более худым и высоким. Доложил комбригу, что в очищаемом квартале обнаружен немецкий военный госпиталь – около двухсот солдат и офицеров, раненных в последних боях. Часть из них в тяжелом состоянии.
«Ну и леший с ними!» – хотел было сказать Иван Гаврилович, но в разговор вмешался Терпугов. Страдая от одышки, Алексей Игнатьевич уже не глотал, а жевал таблетки, чтобы ускорить действие препарата на организм. Однако это не мешало ему энергично настаивать на том, чтобы раненым была оказана немедленная помощь.
– А если среди них окажется убийца моего мужа? – сердито спросила Барвинская.
Ответ был коротким и решительным;
– Даже тогда.
Аглая Дмитриевна подчинилась. Березовский на этот раз промолчал.
Вскоре бой вспыхнул с новой силой. Бакулин докладывал, что впереди зеленый массив – парк или сквер. Подступы к нему заминированы. Просил саперов. У Чижова фаустпатроном подожжен еще один танк. А Никольский как сквозь землю провалился.
Сашко Чубчик сообщил, что связисты уже подтянули линию. Где установить аппарат? Помог майор Тищенко. Разведчики очистили от мин подвал в разрушенном доме. Здание принадлежало филиалу Дрезденского банка, в подвале множество сейфов с деньгами и ценными бумагами.
Через несколько минут там расположился КП бригады. Запертые сейфы стояли вдоль стен. Вскоре их откроют работники особого отдела, сейчас не до этого. Нить связи протянулась отсюда до КП армии. Позвонил начальник штаба армии Корчебоков: почему продвигаются так медленно? Пришлось объяснять, что такое уличный бой, когда танки не имеют простора для маневрирования и на каждом шагу натыкаются на западню. Объяснение лишнее, генерал-лейтенант Корчебоков и сам понимал это, но, как и полковник Березовский, он знал: на войне не существует объективных причин и никакие оправдания не принимаются во внимание.








