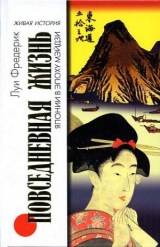
Текст книги "Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи"
Автор книги: Луи Фредерик
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
В Эдо после прихода к власти императора Муцухито государственные службы вынуждены были за неимением лучшего размещаться в старых домах, принадлежащих даймё и сёгунату, в ожидании того времени, когда иностранные специалисты, приглашенные в Японию, построят для них более благоустроенные здания. Монетный двор был закончен в 1868 году; в 1871 году компания Мицуи построила деревянное пятиэтажное здание банка, куда почти сразу же въехал Национальный банк Японии. В 1872 году, после проведения первой линии железной дороги Токио – Йокогама, в районе Симбаси, вскоре ставшим процветающим деловым центром (каковым он и остается по сей день), появился вокзал. С этих пор программа строительства, принятая правительством, непрестанно расширялась, чему немало способствовали архитекторы, прибывшие из всех стран Европы и Америки. Этим, кстати, объясняется огромное разнообразие стилей. При строительстве первых административных зданий мало считались с окружающей средой и с климатическими условиями страны, поэтому работать в этих помещениях было иногда просто невозможно. По мере того как появлялись кабинеты для служащих, возникала новая категория людей, ведущих новый образ жизни. Работающие в этих кабинетах чиновники считали своей прямой обязанностью обставлять помещение столами и стульями и пользоваться ящиками для хранения документов. Служащие сменили традиционную одежду на европейскую, переняли (правда, не без некоторого отвращения) западные привычки, которые, по их мнению, делали их более «современными». Мало-помалу они стали вести двойную жизнь, превращаясь на работе в европейцев, а дома оставаясь японцами. Они не смешивали эти две линии поведения, но поочередно следовали им, накладывая, таким образом, разные цивилизации друг на друга. Эта манера поведения, наблюдающаяся до нашего времени, все шире и шире распространялась в городах и даже в деревнях, где строились административные здания на западный лад; и по мере того как множились государственные службы, увеличивалось количество служащих и чиновников. Поскольку частных предприятий также становилось больше, а они, в свою очередь, строили здания под офисы в европейском стиле, тысячи людей, работающих там, вынуждены были вести эту двойную жизнь, совершенно переворачивающую устоявшиеся традиции.
Даже в самом Токио правительство Мэйдзи было серьезно озабочено проблемой пожаров и предпочитало строить кирпичные дома, чтобы уменьшить эту опасность, поэтично именуемую «цветы Эдо». В 1873 году между Кёбаси и вокзалом Симбаси была построена первая улица, полностью состоящая из кирпичных домов. Она была названа в честь находившегося здесь же Монетного двора, известного также как Гиндза. Эта улица длиной в семьдесят метров имела тротуары и была обсажена деревьями. Но надежды правительства не оправдались, и здания, построенные по проектам англичанина Уотерса, быстро опустели, поскольку не соответствовали потребностям населения. Тогда в них разместили увеселительные заведения, бары и несколько частных школ. После японско-китайской войны 1894–1895 годов облик Гиндзы начал меняться.
В 1912 году в конце эпохи Мэйдзи в Японии была предпринята серьезная попытка реконструкции зданий, прежде всего в крупных городах. Власти снова разрешили строительство деревянных домов, поняв, что дома европейского типа не приспособлены к климату и не могут быть использованы в качестве офисов. В 1912 году в Токио насчитывалось более трехсот тысяч деревянных домов, всего шесть тысяч кирпичных, около двадцати тысяч зданий, покрытых гипсом и две тысячи каменных строений. Город больше был похож на скопление деревень, а не на столицу. Наибольшее число каменных и кирпичных домов было сосредоточено в центре города между Симбаси и Кёбаси. Местная газета в 1894 году так описывала этот оживленный квартал: «Торговцы в Нихомбаси работают в домах с плохим освещением, покрытых гипсом, и придерживаются устаревших взглядов на предмет торговли. Поэтому этот квартал с его темными домами в старинном стиле сохраняет колорит Эдо и ностальгию по этому времени…»
Действительно, многие в Нихомбаси еще жили в традиционных домах. Но вместе с тем торговцы и люди сходных с ними профессий обставляли одну комнату в западном стиле, со стульями и со столом, чтобы принимать в ней гостей и клиентов и в то же время сохранить во всем остальном доме привычную хозяевам уединенность. В крупных городах дома быстро разделились на две части: одна, «западная», предназначалась для приема гостей, другая, выполненная в традиционном стиле, представляла собой жилые комнаты. Сама жизнь японцев, таким образом, распалась на два пласта: внешний и внутренний. В то же время некоторые богачи пытались сплавить стили, строя совершенно новые дома с мраморным входом, винтовыми лестницами, европейской ванной и т. д., украшенные картинами и статуями. Кое-где имелись даже банкетный и бальный залы, камины в нескольких комнатах, как, например, в доме, принадлежащем Сибусава Эйити, описание которого поместили в «Токио Нити Нити симбун» от 24 июня 1888 года. Помимо всего прочего, обеспеченный хозяин позволил себе устроить винный погребок.
Но все же эти огромные здания, где японский стиль, смешиваясь с западным, часто образовывал довольно-таки безобразное сочетание, были редкостью. Клод Фарьер приводит описание одного из таких домов – салона маркизы Ёрисаки из Нагасаки: «Будуар парижанки, очень элегантный, очень современный, и ничем не примечательный, если бы он не находился в 3000 лье от Монсо. В нем ничего не напоминало о Японии. Даже национальные татами —циновки, более плотные и мягкие, чем любое другое покрывало, – были заменены коврами из тонкой шерсти. Стены были обтянуты шелковыми тканями в стиле помпадур, а на окнах – застекленных окнах! – висели шторы дамасского полотна. Вместо классических квадратов из рисовой соломы или из темного шелка – стулья, кресла, диван. Большое пианино занимает целый угол, а напротив входной двери в зеркале времен Людовика XV отражаются (и это никого не удивляет) желтые мордашки мусумэ(по-японски – «девочка»), а вовсе не маленьких француженок».
Необходимо уточнить, что это описание только зала для приемов. И автор далее добавляет, что в целом дом маркизы Ёрисаки был обставлен в традиционном стиле. Это ясно указывает на то, что японцы, даже будучи сильно увлечены европейской модой, все же чувствовали себя не в своей тарелке, если обстановка была для них непривычной.
Богатые семьи, жившие в домах западного типа, сохраняли тем не менее одну или несколько «японских» комнат и всегда заботились о том, чтобы был построен кура —маленькое здание из земли и гипса, с толстыми стенами, без окон, но с массивной дверью, где хранились наиболее ценные вещи. Таким способом многие поколения японцев спасали свое имущество от пожаров и землетрясений, и благодаря этому до нас дошли бесценные произведения искусства, которые иначе неминуемо погибли бы в огне «цветов Эдо», во время войны или природных катастроф. Даже сегодня некоторые частные дома и административные здания не обходятся без кура.
Большинство представителей среднего класса обустраивали одну из комнат на европейский лад, чтобы придать некоторый лоск своей повседневной жизни. Эта традиция жива и по сей день, и нередко наравне с современными строениями из бетона и цемента можно увидеть традиционные дома, в которых всего лишь одна комната обставлена на западный манер.
Как правило, внутри жилище почти ничем не украшали – этого требовал обычай. Только токонома,нечто вроде алькова, имела довольно нарядный вид. В ней находилось несколько предметов искусства, букет, составленный в традиционной манере ( икэбана), какэмонов классическом стиле и образец каллиграфии. В городах кое-кто из числа утонченных интеллектуалов, гордившихся своим тонким вкусом, занимался коллекционированием картин, ширм и прочих произведений искусства, которые хранились в кураи демонстрировались хозяином только друзьям и знатокам. Торговцы и простолюдины, ремесленники и хозяева лавок часто вешали на стены своих домов или магазинчиков образцы цветной ксилографии, так называемые укиёэ,которые к концу эпохи Эдо стали очень популярны и высоко ценились. Эти цветные изображения раскрашивались при помощи трафаретов и отпечатывались вырезанными из дерева брусками. На них были изображены прекрасные женщины ( бидзин), исторические сцены или события современности. Стоили они очень дешево, а иногда появлялись в приложениях к газетам. Эти укиёэ,часто имевшие огромную художественную ценность, презирались образованными людьми как «рисуночки», годящиеся только для развлечения народа. К 1880 году «лубочными картинками» стали интересоваться европейцы, и их цена резко поднялась. Фурудогу,или торговцы антиквариатом, разыскивающие повсюду старинные произведения искусства, заметили интерес европейцев и принялись с жадностью собирать укиёэдля продажи. Некоторые из этих эстампов, особенно подписанные именами великих мастеров Утамаро или Хиросигэ, настолько высоко ценились европейцами, что те, не колеблясь, выкладывали огромные суммы до пятидесяти сэн, что было по тем временам баснословно высокой ценой. Те из японцев, кто владел подобными сокровищами, без особого сомнения продавали их фурудогу.Спустя довольно долгое время японские коллекционеры тоже начали искать укиёэ.Подобным образом были признаны произведениями искусства инро,или «коробочки для лекарств», и нэцкэ.Последние обычно представляли собой прелестные маленькие фигурки со сквозным отверстием, с помощью которых к поясу кимоно прикреплялись приборы для курения. Европейцы, жадные до экзотических сувениров, которые они привозили домой из Страны восходящего солнца, охотно покупали все нэцкэ,какие могли найти. Когда сигареты заменили собой громоздкие курительные приборы, японцам больше не нужно было носить с собой этот аксессуар, поэтому они, не придавая никакой значимости этой «безделушке», продавали ее иностранцам. Торговцы антиквариатом сразу же поняли свою выгоду и занялись поисками этих сувениров, так что цены на них резко выросли. Когда же японские ценители искусства заметили, что эти нэцкэмогут представлять собой большую художественную ценность, было уже слишком поздно, и самые красивые из них, как тлукиёэ,оказались вывезенными за границу, в Европу и в Америку.
В «европеизированных» домах было принято с максимальной точностью воспроизводить все западные обычаи и стиль. В комнатах для приема гостей вешали акварели или картины, написанные маслом, – этой работой стали заниматься некоторые японские художники, копируя западную манеру письма. Но это новое веяние распространялось довольно медленно, и японские коллекционеры предпочитали, как и их предки, хранить свои сокровища в кура,под надежной защитой от огня и грабителей, лишь скупо украшая токономунесколькими любимыми произведениями. Даже в конце Мэйдзи в редком доме стены были увешаны картинами. Гораздо чаще вместо этого на видном месте красовался диплом в рамке.
Японская семья
Понятие семьи в Японии сильно отличается от такового в Китае и Европе, где семью составляют родители, дети, дедушки с бабушками и некоторые более далекие родственники. Хотя кровное родство всегда существовало в Японии, понятие семьи отнюдь не сводится к нему одному. Существует по меньшей мере три концепции семьи, в соответствии с которыми человек принадлежит к сельской общине, к городской общине, к придворной знати или к военному сословию. Та, которая имеет с нашим, то есть с европейским, представлением о семье больше всего точек соприкосновения, была принята среди придворной знати и глав кланов. Представители придворной знати (кугэ)практически все являлись предполагаемыми потомками одного императора: либо прямыми, либо принадлежавшими к боковым ветвям генеалогического древа. Все они составляли привилегированное сословие и, нося разные имена, надеялись, что когда-нибудь именно их род получит верховную власть. Иногда эти семьи так разрастались, что отдельные (наиболее отдаленные) их члены становились просто жителями своей страны без каких-либо привилегий, хоть и продолжали гордиться своим именем. Представители одного рода изначально были, вероятно, жителями одной и той же деревни и выполняли коллективную работу. Позднее их владения накрывали целое княжество, на первое место выходила община самураев, и понятие рода менялось. Жители одной деревни не обязательно принадлежали по рождению к одному клану, в него могли вступать члены другого, и такая смена рода стала обычным делом. Население региона попадало под власть одного главы рода. С приходом нового правления Мэйдзи кланы были распущены, и все чаще и чаще люди меняли деревни, княжества и занимались в деревенских общинах ремеслами, о которых раньше приходилось только слышать. Итак, крестьянская община включала в себя не только кровных родственников, но и тех, кто занимался одной и той же работой. Отсюда следует, что «деревенская семья» была скорее социальной группой, чем семьей, ограниченной общими предками и включающей в себя «слуг» и «клиентов». Японское слово маки,когда-то относившееся к одной линии или к группе племен, постепенно потеряло первоначальное значение и стало применяться для обозначения тех, кто занимался одним и тем же делом, независимо от того, были ли они родственниками или нет, или же представителей одной деревенской общины. Вначале крестьянин, обрабатывающий землю, мог довольствоваться помощью жены и детей. Но когда эти земли, принадлежавшие многим членам «семьи», расширились, появилась необходимость в посторонней помощи. Чужие люди, участвующие в тех же самых работах, что и «семья-ядро», были приняты в род и стали его частью. Чем больше человек включала в себя семья, тем более разнообразной становилась ее деятельность и тем более номинальной – верность главе «семьи-ядра», который одновременно являлся главой всего рода. Только религиозные церемонии позволяли членам рода собираться время от времени всем вместе, для того чтобы воздать почести своему главе. Коллективный труд (во время строительства мостов, дорог, храмов или святилищ), требующий большого количества рабочих рук, также объединял весь клан. Таким образом, японская семья была более многочисленной, чем семья, связанная кровными узами. Она являлась прежде всего группой людей, объединенных общими интересами, где каждый разделял успехи и неудачи в коллективной работе.
Одним словом, традиционная крестьянская община держалась на основе общего труда. Внутри нее тенденция к индивидуализму была еще очень сильна. Кроме того, очень сильной была и семейная солидарность на уровне сотрудничества для работы, которая идеологически была ориентирована на сохранение status quo.
Такие слова для обозначения семьи, как кабанэ, сэй, удзи, мёдзи,употреблялись в основном среди аристократии и до 1870 года не употреблялись простолюдинами. Последние использовали своего рода имена дзокумё, цусё,к которым часто прибавлялись обозначения очередности появления на свет ребенка: таро(первый сын), дзиро(второй сын), сабуро(третий сын) и т. д. Женщинам давали «цветочные» имена или имена других предметов, вызывающих положительные эмоции, которым всегда предшествовал префикс «О», выражающий почтение. И лишь женщины благородного происхождения использовали суффикс «-ко»(ребенок). Но после Реставрации в народе быстро распространилась привычка прибавлять этот суффикс к именам всех молодых девушек, несомненно, чтобы подчеркнуть, что классового различия больше не существует. Поэтому сегодня большинство женских имен в Японии оканчиваются на – ко:Ёко, Сацуко, Миэко, Масако, Рэйко и т. д.
Но у японцев возникали иногда, особенно среди буржуазии, военного сословия, художников и представителей интеллигенции, особые имена с особым значением. Детское имя (ёмё)молодые люди носили до тех пор, пока не достигали возраста взрослого мужчины (этот возраст варьировался от одиннадцати до пятнадцати лет). Имелись еще прозвища ( адзана) или псевдонимы (го, хаймё, гого, гэймё),которые зависели от профессии человека, например, от того, был ли он литератором, поэтом, актером, художником. Существовали почетные имена, дававшиеся посмертно (окурина),и имена, обычные для буддистов ( хомё кайме).И, конечно же, многие японцы имели «тайное имя» ( напори, дзицумё),которым пользовались лишь в особых случаях и которое, по сути, и являлось настоящим именем.
В 1870 году вышел указ, согласно которому каждый должен был выбрать себе фамилию (мё),и большинство людей приняли ту, которая была известна в том месте, где они жили или работали. Этимологически «мё» означает «поле, возделываемое сообща группой людей». И каждая такая группа носила коллективное имя, чаще всего связанное с наделом земли, полем, деревом, ручьем и т. д. Когда эта группа оставляла надел и перебиралась на новый участок земли, она также меняла и имя в соответствии с этим новым участком. Фамилия, таким образом, означала только потомков одного общего предка, а общину объединяли земельные отношения.
Фамилия, принятая в 1870 году, отражала не суть семейных отношений, а скорее принадлежность к относительно ограниченной социальной группе. Эта фамилия могла быть названием местности, где жил и работал человек, или фамилией покровительствующего ему человека, хозяина (для слуги) или начальника (для воинов), а иногда монахи принимали в качестве фамилии название своего храма. Отсюда следует, что эпоха Мэйдзи не изобретала новых имен-патронимов, но пользовалась большим числом уже существовавших, обозначавших более или менее важные социальные группы людей, что прекрасно иллюстрирует чувство, которое испытывают японцы, принадлежащие к одной рабочей группе и ставящие общие интересы выше «семейных», как они понимаются нами. Это одна из важнейших характеристик японского общества, в котором чувство принадлежности к социальной группе по работе сильнее, чем принадлежность к «семье». Только женщины, не так активно участвовавшие в общественной жизни, имели несколько отличное представление о семье, основанное больше на отношениях между родителями и детьми, чем на отношениях мужа и жены.
Это хорошо иллюстрируется выражением «ояко»,которое буквально означает «отношения родителей – детей». Этимологически оно подразумевало участие в работе, часто семейной, но эта концепция была расценена как менее важная, поскольку оякомогло объединять слуг или людей, не имеющих кровного родства, а также «усыновивших» их людей. Глава такой рабочей общины воспринимался как отец ( оя),а остальные члены группы – как дети (ко).Поэтому в японской семье различают отца и детей «по рождению», а также «приемных» детей и «отчима», хотя все они носят одно имя.
Б. Чемберлен говорит, что такое усыновление было принято не только для того, чтобы избежать вымирания семьи и как следствие исчезновения культа предков, но также для того, чтобы контролировать ее рост. Так, человек, имевший больше детей, чем он был в состоянии содержать, мог «одолжить» одного или нескольких бездетному другу. Усыновив кого-нибудь, можно было оставить ему наследство, и это было самым простым способом, потому что отпадала нужда составлять завещание на имя чужого человека. Торговец мог «усыновить» главного клерка, чтобы у того появился личный интерес к торговле. В свою очередь, клерк «усыновлял» сына своего начальника, прекрасно понимая, что должен будет уволиться, когда его «сын» вырастет и сможет заменить своего отца; «усыновленный» же клерк получал взамен определенную сумму денег и мог либо уволиться, либо продолжать работать, как раньше. Если у клерка был сын, то сын начальника мог, в свою очередь, «усыновить» его. Таким образом, в истории управления предприятием чередовались одни и те же имена. Кроме того, очень часто отец «усыновлял» зятя, и тот принимал имя отчима. Это было особенно распространено, если у супругов не было собственных сыновей. В течение некоторого времени после восстановления императорской власти усыновление часто использовалось, чтобы избежать службы в армии, поскольку если сын был единственным, то его освобождали от военной обязанности. Поэтому родители часто предлагали усыновить сына кому-нибудь из друзей, не имеющих детей.
Благодаря этому обычаю усыновления у «родителей» могло быть огромное количество детей, носивших их имя, но по рождению принадлежавших другим семьям. Это осложняло отношения между людьми, но сплачивало их в группы, имеющие общих родителей (ояката),к которым они испытывали уважение и которым были верны до конца жизни. До сих пор в современном японском обществе заметен след подобных семей: часто к главе предприятия его подчиненные относятся как к ояката, а он, в свою очередь, принимает их как коката,то есть своего рода усыновленных детей. Поэтому в наших глазах отношения начальник – подчиненный окрашены в некий оттенок семейственности. Можно провести аналогию с европейским Средневековьем, когда у крестного отца могло быть несколько крестников. Хотя эта тенденция ослабла в период модернизации Японии из-за новых условий существования общества, она довольно сильна и в наши дни.
Как в городах, так и в деревнях существовал обычай устраиваться на работу к тому, кто происходил родом из того же региона страны. Молодые люди вдалеке от родителей и родных мест почти всегда старались создать там, где работали, группы под покровительством ояката.В начале эпохи Мэйдзи для молодого человека, приехавшего в город из деревни, было почти невозможно найти приличное место, если ему не покровительствовал такой ояката(обычно выходец из той же провинции), который играл роль заботливого отца. Некоторые рабочие коллективы сильно разрастались, особенно если покровитель был влиятельным человеком. К тому же это способствовало расширению семьи каждого из работников, которые были связаны между собой зависимостью от общего ояката.«Отец» и «дети» образовывали «большой дом» (хая), имя, которое иногда давалось главе предприятия и которое до сих пор употребляется борцами сумо по отношению к своему наставнику. Поскольку большинство этих покровителей объединялись, либо чтобы разделить сферы работы, либо по финансовым или политическим соображениям, они также составляли нечто вроде конфедерации профессионалов, известной под именем обэя(«большой дом»). Именно обэястояли у истоков первых синдикатов, в которые входили начальники и рабочие одной профессиональной ветви.
Это «чувство семейственности» или скорее «групповой менталитет» запрещали отдельному человеку иметь мнение, отличное от мнения своего ояката, в противном случае ему грозило исключение из группы. От него не требовалось кривить душой, он просто должен был передать свою ответственность лидеру группы, и это объясняет, почему сейчас средний японец с таким трудом берет на себя инициативу даже в самых простых вопросах без того, чтобы не посоветоваться с начальником и коллегами.
Практически полная зависимость членов группы друг от друга и от оякатасильно исказила игру в демократию в эпоху Мэйдзи. Каждый кокатаголосовал лишь по прямым указаниям тех, от кого он зависел. Поэтому могли формироваться большие избирательные группы, что позволяло кандидатам ( оякатаили обэя)знать заранее с большой точностью число голосов, поданных за них. Это отношение « ояката – коката»до сих пор мешает развитию демократии.
У каждого покровителя был, в свою очередь, собственный покровитель, так что совокупность оякатаи кокатаобразовывала нечто вроде пирамиды, на вершине которой находились наиболее влиятельные члены каждой обэя,они же, как правило, – политические деятели, занимавшие важные посты в правительстве. Собрание образовывало нечто вроде партии (тогда этого термина не существовало), основание которой ( коката) лишь отражало взгляды оякатаи, следовательно, наиболее влиятельных обэя.Нечего и говорить, что каждый оякатасчитал себя (и считался) заботливым отцом своих подчиненных и всячески помогал им с работой. Зачастую он даже обеспечивал их жильем и выдавал им одежду. Но он также мог удерживать часть их зарплаты (особенно часто это случалось в начале Мэйдзи), считая это естественным. Это неизбежно должно было привести к злоупотреблениям, так что общественные власти забеспокоились и установили определенный размер зарплат, что значительно уменьшило влияние оякатав экономическом, но отнюдь не в моральном (и в политическом) плане. «Протеже» все еще были безмерно преданы «покровителям».
Такое положение вещей привело к постепенной замене настоящей (кровной) семьи большими «семьями на работе», состоявшими из коллектива. Лишь в самых глухих деревнях, где подобную систему не признавали и даже презирали, все осталось по-прежнему. Часто случалось так, что крестьянин, вернувшись в деревню после того, как узнал нищету и голод, работая на заводе в городе, оказывался отвергнутым собственной семьей как «чужой», как паразит. К нему относились как к человеку, который только и знал, что потреблять, ничего при этом не производя, что усугубляло бедность крестьянской общины.
С освобождением земли и устранением кланов их члены не были более привязаны к земле и, следовательно, к «рабочему коллективу» (выражение заключено в кавычки, поскольку оно не соответствует европейскому), и могли оседать там, где им хотелось. Те, кто не имел покровителя, или те, кто пытался взлететь на собственных крыльях, могли использовать единственную возможность – устроиться рабочими на завод (поскольку для иного вида деятельности требовалось иметь образование) или же искать отношений «ояката – коката».Рабочие жили в нищете, работа, которую они выполняли за смехотворно низкую зарплату, была крайне тяжелой. Люди, нанимавшиеся клерками или прислугой, почти всегда попадали в зубчатые колеса отношений зависимости от своих хозяев. Те, кто чувствовал, что в силах вынести подобную жизнь или изначально имел небольшие сбережения, прилагали все усилия, чтобы воспользоваться этим преимуществом и даже иногда жили в некотором достатке. Другие, более многочисленные, периодически возвращались в свои деревни и проводили там некоторое время, пока не приходила пора вновь идти в город на поиски работы. Чрезвычайно жесткая конкуренция делала текучесть рабочей силы очень высокой и вынуждала людей, если они хотели выжить, соглашаться на самую низкую зарплату. Это постоянное блуждание рабочих из города в деревню и наоборот привело к созданию нового типа общества – общества индустриальной эпохи, когда в отношениях между людьми произошли кардинальные перемены. В то время как в самых отдаленных поселениях еще более или менее функционировала старая система, в городе возникла тенденция к созданию «деревень», которая сплачивала выходцев из одного региона под покровительством все тех же ояката.Крестьяне, с трудом привыкавшие к городской жизни, стали собираться в группы в одних и тех же кварталах, на одних и тех же улицах, делили одни и те же бараки и оказывали помощь таким же, как они, выходцам из деревни.
Особняком стояли богатые предприниматели, которые могли позволить себе отправлять детей в школу префектуры и заботиться об их дальнейшем обучении. Получив диплом, они оказывались перед выбором: работать в городе за неплохую зарплату и, в свою очередь, становиться оякатаили же возвращаться в родную деревню и вести там праздное существование, нанимая рабочих для возделывания полей. Некоторые отказывались обрабатывать землю и становились чиновниками или учителями начальной школы. В любом случае они образовывали семью городского типа, не зависящую от коллективного труда в общине. Женщина сидела дома и не занималась работой вне его, а кровное родство считалось единственно приемлемым. Такие семьи часто вменяли себе в обязанность принимать родственника из деревни и «покровительствовать» ему, приглашать младшего брата, приехавшего в город на учебу, содержать родителей. Все это в значительной мере ослабляло их покупательскую способность и, следовательно, их благосостояние.
Хотя прямого влияния европейских традиций и образа жизни на традиционную японскую семью не наблюдалось, она начала распадаться, уступая место семье западного типа. Это было не очень заметно, потому что групповое мышление не исчезло: оно просто видоизменилось, и муж, единственный, кто зарабатывал деньги, восстанавливал на работе семейную «группу» с отношениями взаимозависимости, которых не было дома. Эта группа представляла собой теперь нечто более абстрактное, чем прежняя «семья на работе». Она скорее была социальной группой, где значимость кровной связи была очень невелика. Можно обнаружить глубокие следы этого группового мышления в современном торговом и индустриальном обществе Японии, проявляющиеся в ношении сотрудниками униформы, знака компании, в практике совместного времяпрепровождения и т. п.
Таким образом, японская городская семья эпохи Мэйдзи, так же как и современная семья, делает акцент не столько на отношениях между супругами, сколько на отношениях между родителями и детьми, которые более эмоциональны, чем отношения мужа и жены. Мужчина, в сущности, представляет собой внешний, «социальный» элемент, зависимый от «рабочего коллектива» и относительно неустойчивый, в то время как замужняя женщина, воплощающая домашний очаг, будущее детей и безопасность престарелых родителей, больше участвует в жизни семейной группы, состоящей почти исключительно из бабушек с дедушками, родителей и детей.
Эта небольшая семейная группа представляла собой экономическое объединение потребителей и не более того, тогда как в предшествующие годы (среди народа) это были производители благ. Замужняя женщина оставалась опорой дома и заменяла теперь главу семьи, которым всегда был мужчина. В период Мэйдзи это старое понятие семьи как «рабочего коллектива» постепенно разрушалось одновременно с изменениями, охватывающими все общество; авторитет отца семейства перешел к матери, которая стала играть роль главной хранительницы очага, чьей основной целью являлась забота о родственниках, о благосостоянии семейного бюджета и образовании детей. Мужчина более не пользовался уважением как «глава рода», но только как отец и «производитель материальных благ», обеспечивающий семью. Зато в этом отношении мать, которая никак не участвовала в производстве благ, стояла значительно ниже его. Между отцом и матерью существовала очень четкая разница в том смысле, что мужчина символизировал «внешнее», «оболочку», а женщина – «внутреннее», «суть». В широком смысле мужчина представлял собой тягу к Западу, а женщина японский консерватизм. Отсюда два образа жизни, фактически две культуры, «мужская» и «женская», которые, не смешиваясь, дополняют друг друга.







