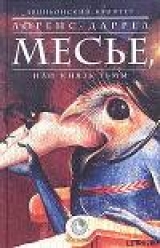
Текст книги "Месье, или Князь Тьмы"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Вскоре над тропой нависли переплетенные ветки, и этот свод надежно защитил нас от обильного снега. Поистине дорога к месту успокоения была слишком извилистой и мрачной, а небо слишком тихим и беззвездным. Наконец показался склеп с разбитыми урнами, грубыми putti[33]33
Изображения крылатых мальчиков, часть традиционного декора.
[Закрыть] и мерзкими кипарисами, при виде которых у меня всегда становилось пакостно на душе – я имею в виду, задолго до смерти Пьера. Ненавижу их, как когда-то их ненавидел Гораций. Мы в нерешительности топтались на месте, потому что склеп был погружен во тьму; но вот старый Жан достал ключ и взялся за железную решетку. Однако заржавевший замок не поддавался, поэтому я предложил старику свою помощь. После долгих усилий нам, наконец, удалось его открыть, и при свете поставленных на землю ламп мы спустились по широким ступеням. Как ни странно, дверь оказалась довольно новой, и замок, по-видимому, недавно меняли, поэтому тут обошлось без всяких сложностей, и мы вернулись за лампами. Наверное, внутри давно не прибирали: пол был покрыт толстым слоем сухих листьев, а в углу валялись дохлые улитки. Вскоре однако от этого запустения не осталось и следа, так как одна из женщин прихватила с собой метлу, и пока мужчины разворачивали гроб, несли его вниз по ступенькам, женщина успела навести чистоту.
Когда склеп осветили, я огляделся. Внутри было очень сыро, но просторнее, чем мне сперва показалось. Надгробия разных времен, довольно много затянутых паутиной приделов и несколько незанятых углублений, к одному из которых мы и направились с накрытым черной тканью гробом. В неровном свете ламп на стенах появлялись то гигантские, то карликовые тени. Отныне Пьеру предстояло проводить здесь все дни и ночи, а мы, его друзья и слуги, пришли сюда, чтобы в последний раз взглянуть на его невозмутимое лицо, а потом уступить место каменщикам. Однако из-за того, что не были совершены общепринятые обряды, у нас возникло странное чувство пустоты. Растерянно переглядываясь, мы начали тайком креститься и молиться за упокой души усопшего. Для аббата же все происходившее было откровенным скандалом. Уперевшись подбородком в грудь, он стоял неподвижно, словно погрузился в глубокое раздумье, а мы трусливо сгрудились за его спиной в ожидании, когда он вернется в мир реальности и даст нам свое пастырское разрешение уйти из склепа. Дурацкая ситуация. Аббат не шевелился целую вечность, но все же в конце концов обернулся и окинул нас невидящим взглядом, как будто его мысли витали где-то далеко. Желая, вероятно, что-то сказать, он открыл рот, но, передумав, захлопнул его, затем покачал головой и тяжело вздохнул.
– А теперь нам пора покинуть его, – сказал он и повернулся на каблуках.
Не знаю почему, но эти слова перевернули мне душу и пробудили чувство вины – скорее всего, из-за того, что я струсил и не пошел в морг проститься с Пьером. Как бы там ни было, едва в натруженных руках одного из работников появились отвертка и медные шурупы, меня охватил ужас. Я понял, что не могу уйти, не взглянув в последний раз на лицо моего друга. Успеют еще заколотить гроб и заложить кирпичами дыру. Я обратил внимание на то, что гроб европейского образца, с открывающейся вверху крышкой, и, не раздумывая больше, бросился к нему – и, уже почти откинув крышку, почувствовал на плече и предплечье чьи-то руки. Священник и нотариус крепко держали меня, а я никак не мог понять, чего они испугались.
– Почему? – в ярости крикнул я, когда они потащили меня прочь.
Однако их непоследовательность нисколько не умаляла их настойчивости, и я вынужден был покорно пройти вместе с ними сначала в дверь, потом на ступеньки. Это было выше моего понимания; но ни о каких спорах и ссорах не могло быть и речи. Поразило меня единодушие нотариуса и священника. В их общем страстном порыве было поистине нечто иррациональное. Что им до того, если бы я увидел Пьера в последний раз – прежде чем его замуруют здесь навсегда? Я был взбешен и ошарашен, но на время смирился и, остановившись на лестнице, стал смотреть на желтое озерцо света. Ветер постанывал в ветках деревьев. Наконец послышался стук молотков, и шурупы встали на свои места. Один за другим поднимались наверх участники похорон со своими лампами и фонарями. На обратном пути, пока мы шли через лес, наша процессия поредела. Беше шагал рядом со мной, аббат – по правую руку от него. Какое-то время нотариус молчал, но вскоре, видимо, почувствовав, что нас угнетает отсутствие привычного словесного обрамления, со вздохом произнес:
– Человеческая жизнь! До чего же она коротка и хрупка.
Священник упорно молчал, демонстрируя незаслуженную обиду. Мы не услышали от него ни слова!
Сложенный во дворе костер постепенно затухал под непрекращающимся снегом, но в зале полыхал камин, от которого в тот мрачный вечер на нас повеяло теплом и весельем. Священник и нотариус (печально знаменитые персонажи французской жизни) облюбовали стол подальше ото всех и погрузились в чтение бумаг, вынутых Беше из видавшего виды портфеля: свидетельство о смерти, разрешение на похороны, еще что-то в этом роде, может быть, завещание. Короче говоря, они погрузились в свои дела. Я устроился сбоку от камина. Старый Жан принес кувшин с подогретым вином и расположился рядом, а у наших ног легла охотничья собака Эльфа, любимица всех обитателей шато. Мы молчали. Время от времени Жан искоса поглядывал на меня, словно собираясь что-то сказать, но продолжал молчать – как будто не мог подобрать нужных слов, чтобы выразить свои чувства. В доме стояла привычная тишина, разве что скрипели перья и шелестела бумага. Уступив неожиданному порыву, я спросил:
– Жан, почему мне не позволили посмотреть на Пьера? Почему все промолчали? И вы тоже?
Вопросы были чисто риторическими, и я не ждал вразумительного объяснения от старого Жана – мне просто захотелось с кем-нибудь поделиться своим горем, вот и все. Он же посмотрел на меня с явным недоумением, словно ему задали дурацкий вопрос, ответ на который всем известен. Тогда, ничего не понимая, я повторил:
– Почему?
Довольно долго он не сводил с меня пристального взгляда; потом сказал:
– Вы же сами знаете, что смотреть-то было не на что. Головы нет. Так сказали люди из морга. Вы же знаете – и месье адвокат знает. Он знает?
Его слова были для меня как гром среди ясного неба. Оглушительный гром… Нет головы!
– Потому они вам и не позволили, – продолжал старик. – Подумали, что вы про голову позабыли.
Видимо, у меня был такой ошарашенный вид, что он посмотрел на меня с нескрываемой жалостью. Не сразу мне удалось взять себя в руки и освоиться с мыслью, что мы хоронили труп без головы. Но почему? Что все это значит? Если нотариус и священник знают, то почему не сказали мне? Но, возможно, все это вздор – возможно, старый Жан что-то недопонял или недослышал, вот ему и померещилось несусветное.
И я на всякий случай спросил:
– Вы сами видели?
Он снова печально на меня посмотрел и кивнул.
– Её точно нет?
На сей раз он кивнул, не скрывая удивления. Я отпил большой глоток вина, потом все же спросил:
– Но почему вы уверены, что это Пьер?
Теперь и у самого Жана был совершенно ошарашенный вид; по-видимому, ему и в голову не приходило, что это мог быть не Пьер. Однако лицо его почти сразу прояснилось, словно он что-то припомнил.
– Да из-за правой руки, – сказал он. – Из-за шрама.
Я сразу понял, о чем идет речь, а он, собравшись засучить рукав, продолжил:
– Нам показали руку.
Несколько лет назад, катаясь в Давосе на коньках, Пьер серьезно поранил правую руку. Кстати, задетые сухожилия постоянно напоминали о себе: рука не очень хорошо его слушалась. Не узнать шрам было невозможно. Очевидно, когда привезли обезглавленное тело, шрам предъявили как неопровержимое доказательство. Рассказывая, старый Жан воспользовался провансальким выражением, которое обычно в ходу у мясников; освежевывая кролика, они оставляют в неприкосновенности уши в качестве опознавательного знака, что тушка действительно кроличья. У меня мурашки поползли по спине.
Наверное, в тот момент мне следовало самым решительным образом потребовать у Беше объяснений. В конце концов, они могли оказаться абсолютно банальными и простыми. Надо было спросить, но меня одолело смущение, почти pudeur.[34]34
Стыдливость (фр.).
[Закрыть] Я бросился в уборную, и там меня вывернуло наизнанку. А нотариус и священник вполголоса продолжали совещаться.
Совещание их длилось не так уж и долго. Вдруг, встав из-за стола, Беше подал мне знак, что пора в обратный путь. Я подошел, чтобы попрощаться с аббатом, который выглядел измученным и удрученным, но смотрел на меня с нескрываемым любопытством. Беше сокрушался о снеге и тумане. Почему я не спросил? Не знаю. Я молча вышел следом за ним во тьму, обняв на прощание старого Жана, его жену и чад и пообещав в скором времени вернуться в шато. Они строили фантастические планы насчет возрождения хозяйства, а у меня не было ни малейшего сомнения в том, что у них ничего не получится. Да и одна только мысль о возвращении в осиротевший дом причиняла невыносимую боль. Мы сели в машину, и влажные клочья тумана замельтешили в лучах света; но это был добрый знак, предвещавший, несмотря на северный ветер, скорое тепло. Едва мистраль задует вдоль долины Роны, как воздух становится морозным, а небо прозрачным, словно стеклянным – его голубой купол поднимается высоко вверх.
– Слава богу, похороны позади, – сказал сразу сникший нотариус, крутя руль старенькой машины. – Да еще такие. Должен заметить, я очень любил Пьера, но частенько его не понимал. Ну а что касается шато… не представляю, как они выкрутятся с налогами. С цифрами Пьер был не в ладу, голова у него была забита совсем иным.
Услышав про голову, я решился задать вопрос, который все время вертелся у меня на языке.
– Если уж вы заговорили о голове, мой дорогой друг, – ответил Беше, – то я взял на себя смелость, не посоветовавшись с вами, это сделать… короче говоря, я распорядился снять caput mortuum.[35]35
Голова мертвеца (лат.), то есть, посмертная маска.
[Закрыть] Зато вы завтра же ее получите. – (Вот и объяснение!) – Смею надеяться, вы простите меня за спешку. На то были причины. Во-первых, я полагал, что чем быстрее мы его похороним, тем лучше, в особенности для вас. К тому же, завтра я на целый месяц уезжаю на Сицилию отдыхать, поэтому хотел покончить с бумагами. Ненавижу незавершенные дела, а в моей профессии, знаете ли, некоторые тянутся до бесконечности… – Он пыхнул сигаретой и искоса поглядел на меня. – Надеюсь, сегодня вам удастся по-настоящему выспаться, – добавил он, – ведь мы все уладили.
Неожиданно я почувствовал себя старым, немощным, вконец выдохшимся.
На мокрых авиньонских улицах накрапывал дождик, свет фонарей слегка мерцал, словно они были окутаны газовой тканью. Мрачный перезвон часов на ратуше долетел до моего слуха, когда Беше остановил машину под деревьями на главной площади. И очень даже хорошо, что нотариус не повез меня к самому отелю. У меня появился повод пройтись. Пожелав ему счастливого пути и пожав руку, я остался один и с наслаждением подставил лицо под теплые капли дождя. Совершенно разбитый и вымученный, я вернулся в отель довольно поздно и стал тяжело подниматься на свой этаж. Но едва я успел одолеть один лестничный пролет, как проснулся ночной портье и бросился за мной вдогонку. Оказалось, прибыл джентльмен из Англии и ждет меня в моем номере, заказав виски с содовой. Это мог быть только Тоби, и сердце у меня радостно екнуло – наконец-то он в Авиньоне.
Взбежав по лестнице, я торопливо миновал мрачный коридор и ворвался в комнату; там я обнаружил похрапывающего гиганта, расположившегося поперек кровати. Очки он поднял на лоб, и они чудом удержались там, а вот купленный в дорогу детективный роман уже валялся на полу. Ох уж, эти очки! Едва ли есть на свете другие такие, которые бы так часто терялись, бились, оказывались забытыми. Непонятно, как они вообще не рассыпались на кусочки, ведь все их детали держались вместе исключительно благодаря изоляционной ленте, правда, пригнанные друг к другу с поразительной аккуратностью.
– Тоби!
Тоби пошевелился, но не проснулся, лишь почмокал губами. Вся его громоздкая фигура являла собой образчик типичного преподавателя-холостяка: неопрятный дождевик, давным-давно лишившийся пояса, ботинки, похожие на лодки, с носами, загнутыми вверх из-за сушки возле конфорок – после многочасовых прогулок по сырости. Ношеные-переношеные брюки в коричнево-желтых пятнах, так как их хозяин, по-видимому, недавно бродил где-то по глине – потому, небось, и не ответил на мою телеграмму. Опять путешествовал пешком. Его багажа в комнате не было, разве что детективный роман, значит, Тоби сначала снял номер, оставил в нем веши, а уж потом пожаловал ко мне. Во сне он поразительно походил на Роба Сатклиффа, ей-богу, их запросто можно было принять за близнецов, и уж в любом случае, за родных братьев. Два близоруких великана с буйными белокурыми шевелюрами и бесцветными ресницами, два мастера смеха и непоправимых оплошностей, это были наши Гог и Магог. Глядя на Тоби, я невольно видел перед собой и Роба тоже.
От моего гостя здорово несло виски, но стакана я что-то не заметил. Тогда я прошел в ванную комнату, где и обнаружил полупустую бутылку и до половины наполненный стаканчик для зубной щетки, – мне стало понятно, как Тоби впал в свинское состояние. Настроение у меня резко улучшилось оттого, что теперь нас двое, и я решил отметить его приезд. То есть тоже выпил виски и возвратился в спальню, вознамерившись предъявить права на собственную постель. Однако Тоби спал как убитый, и мне пришлось дважды выкрикнуть его имя:
– Вставай, Тоби!
Он сделал несколько движений, напомнив постепенно просыпающегося питона – отдельные части его могучего тела поменяли положение, как бы развернулись, хотя Тоби продолжал спать; потом он вытянул ногу, застонал, привстал, но опять рухнул на кровать и обмяк, как спущенная шина. Наконец Тоби открыл глаза и стал сонно пялиться на украшенный херувимами потолок, явно ничего не соображая.
Догадавшись, что он не знает, где находится, я великодушно решил списать его забывчивость на усталость и виски.
– Тоби, это я – Брюс.
Тут он проснулся и неожиданно подскочил – с такой силой, что мог бы, наверное, при желании, достать до потолка, а то и протаранить его. Потом, уже прочно стоя на ногах, он схватил меня за руку и отрывисто, словно заполняя телеграфный бланк, проговорил:
– Наверно, я опоздал? Телеграмму доставили в колледж – я путешествовал по Германии – неожиданно – хотя я ждал чего-то такого – сам не знаю – и вот – как все вышло – самоубийство – обычное дело – проклятье.
– Дурной сон, – сказал я.
Тоби кивнул и, удалившись в ванную, плеснул на себя холодной водой, чтобы окончательно проснуться. С ожесточением растирая лицо и фыркая, как ломовая лошадь, он вернулся, сел на край кровати и уставился на меня.
– Самоубийство, – произнес он после долгого молчания, словно в первый раз подумал об этом, и погрозил мне толстым пальцем. – Брюс, ты ведь не принимал его галиматью всерьез, правда? Я об Аккаде и гнусных догматах, которыми он вечно нас потчевал. Ты никогда не думал, что это серьезно – а я думал. И не мог спокойно смотреть, как Пьер клюет на все это.
Пора было остановить его разглагольствования – хотя бы ради бедняжки Аккада.
– Пусть у нас нет разумного объяснения, но зачем же обвинять в происшедшем египтян – тем более Аккада. Они ведь против самоубийства, и Аккад постоянно об этом говорил.
– Ты зашел не так далеко, как Пьер, правда? Ты всегда останавливался на краю. Откуда тебе знать, Брюс?
– А ты вообще не приближался к краю, но все же считаешь себя вправе строить предположения.
Я огорчился и разозлился. Кому нужны подобные теоретизирования перед лицом неодолимой смерти, тем более смерти Пьера?
– Ты уж прости, – в задумчивости прикусив кончик большого пальца, проговорил Тоби, очень похожий в это мгновение на печального слона. – Я только хочу понять причину, толкнувшую его на это. Хотя какая может быть причина? Депрессия или болезнь, вот и весь выбор.
– Да.
– Осенью он обследовался у врачей – может быть, костоломы нашли у него заболевание не острое, но смертельное, вроде рака или болезни Ходжкина, это ведь тоже что-то злокачественное, с лимфой связано? А что, вполне возможно… Я тебе надоел?
Надоел. Хотя с моей стороны это было несправедливо. Я и сам осознавал, что выпускаю пар, разряжаюсь. Мне хватило ума извиниться, и Тоби ответил добродушной всепонимающей улыбкой, тем самым облегчив мне переход к рассказу о последних новостях, о визите к Сильвии и о похоронах в Верфеле. Слушал он с мрачным видом, изредка вздыхал и многозначительно качал головой.
– Роб обычно говорил: «За несчастьями людей всегда кроется определенная философия, даже если они об этом не знают». Видно, он был прав. Не злись. Случайностью тут не пахнет.
Вот откуда улыбка на лице Пьера, подумал я и от души порадовался, что Тоби опоздал и не просветил полицейских своим теоретизированием. Я достал увеличенные фотографии, которые мне дал инспектор, и Тоби, разложив их на кровати, наклонился над ними, как я понял, расчувствовавшись, ибо он торжественно высморкался в грязный красный платок. Однако извлечь из них что-нибудь существенное, вроде разгадки устремленного на дверь приветливого взгляда, оказалось не под силу и ему. Не знаю. Бывает, придумываешь себе секреты там, где их нет. Мне припомнились золотые окурки и отчаяние Сильвии в тот вечер, когда произошло несчастье. Наверное, и это разъяснится, когда к Сильвии вернется разум – если вернется.
Допив наконец свой виски, я раздвинул шторы и стал смотреть, как подкрадывается рассвет, забрезжив над покрытой рябью рекой и беспорядочным скоплением городских крыш, где уже хлопали крыльями сонные голуби. Меланхоличные колокола отбили очередной час.
– Надо поспать.
Зевая и потягиваясь, Тоби встал. У меня возникло ощущение, будто я делаю первые шаги в незнакомом мире, ибо все в нем круто изменилось, включая все величины и координаты.
Мы договорились встретиться в десять часов в холле, но я спал так крепко, что не услышал стука горничной, а когда спустился вниз, то портье вручил мне записку: Тоби сообщал, что отправился в кафе «Дюранс» съесть croissant[36]36
Круассан, рогалик (фр.).
[Закрыть] и выпить кофе. Я без труда нашел его, полусонного, за столиком, освещенным утренним солнцем; Тоби в упоении любовался уголком, с которым у него было так много связано – главной площадью. Ох уж эта романтическая площадь и уродливый Памятник Погибшим в окаймлении покалеченных оловянных львов. Никакого воображения! Памятник окружали прекрасные мощные деревья, прятавшие в своей тени череду полудомашних кафе и ресторанчиков, в которых можно нежиться день, отпуск, жизнь. Отныне глядя на это место, я обречен видеть и призрак Пьера, который волчьей крадущейся походкой, прихрамывая, идет к табачному киоску, и рядом с ним Сильвию, словно ножны, вплотную прижатую к его боку. Она всегда с гордостью льнула к нему, если они шли куда-нибудь вместе. У берегов греческих островов так же невинно и чувственно ходят парами маленькие морские коньки… Мой друг погрузился в дрему или просто не желал расставаться с приятным оцепенением, которое всегда охватывало его в любимом городе.
– Ах, Авиньон! – тихонько воскликнул он, обращаясь в равной степени к небесам и ко мне.
Точно так же некоторые восклицают: «Ах, детство!» Еще один день, присоединенный к длинному гобелену, сотканному его памятью. Тоби знал, каков Авиньон в любое время года и в любое время суток, летом и зимой, возможно, лучше нас всех. Пока мы отсутствовали, Тоби по несколько месяцев проводил в шато, роясь в архиве. Пьер предоставил в его распоряжение все документы, имеющие отношение к истории тамплиеров, предмету magnum opus[37]37
Великий труд (лат.).
[Закрыть] Тоби – «работы, которой предстояло лишить гадкого профессора Бэбкока ореола невинности и обеспечить мне как медиевисту королевский трон в Гарбо-колледж». Понятно, что Бэбкок рассматривал тамплиеров и загадочную историю ордена с позиции, прямо противоположной той, которую занимал Тоби, и судьба старика была предрешена, ибо Тоби почти завершил свой великий трехтомный труд, в который включил многие не издававшиеся прежде материалы из верфельского архива. Будучи жертвой исторического вируса, Тоби не мог смотреть на город, не думая при этом об исторической перспективе, так сказать, о временных пластах, заключенных в архитектуре. Здесь не было ни единого уголка, который не вызывал бы у него восхитительные грезы и живые ассоциации.
– Мне можно повидаться с Сильвией? – спросил он наконец. – Или это нежелательно?
Я ответил, что как раз очень желательно, его визит наверняка пойдет ей на пользу.
– Сегодня вечером, если хочешь. Мне только нужно позвонить Журдену и предупредить его.
Однако едва я об этом подумал, как на душе стало тяжко – я вспомнил о ее плачевном положении, да и моем тоже. В Авиньоне время словно останавливалось, и все равно страдания разума и плоти мучили нас. Более того: здесь я оказался вроде как на правах сироты – ибо разорвал все связи с внешним миром и приехал в Авиньон на постоянное житье. Немногие мои вещи тоже должны были вскоре прибыть, включая ящики с книгами и картинами. Недалеко то время, когда мне придется задуматься о будущем – то ли остаться и жить тут, в полной зависимости от душевного состояния Сильвии, то ли бежать куда-нибудь, оправдавшись нездоровьем? Конечно же это было бы предательством, но если человека припереть к стенке, он еще и не на такое окажется способен. Тоби не терзали никакие сомнения.
– Тебе, конечно же, надо жить в Верфеле, – твердо произнес он. – Ты не можешь бросить Сильвию. А почему бы вам не отправиться вместе, скажем, в морское путешествие?
Увы, я не чувствовал в себе достаточно сил для чего-то подобного, ведь мне пришлось бы денно и нощно сторожить Сильвию, вечно боясь fugue[38]38
Бегство (фр.).
[Закрыть] или, не дай Бог, кататонии.[39]39
Кататония – психическое расстройство, характеризующееся паталогической заторможенностью.
[Закрыть] Неужели жить тут? (И бродить в одиночестве по темным дорогам, когда наступает вечер, начинают путаться мысли, и свирепствует холодный дождь, северный, с ревом хлещущий, который заливает весь мир, – я всегда только и делал, что думал о недуге Сильвии. Месяцами напролет.)
Я заказал вино. И вот оно мерцает передо мной на солнце. Не стоило пить с утра «Тавель», но я никогда не мог устоять перед его цветом и вкусом. Верный себе Тоби прихлебывал anisette.[40]40
Анисовый ликер (фр.).
[Закрыть] Этот могучий гигант действовал на меня успокаивающе. Наверное, мне было бы легче вернуться в шато, если бы он согласился поработать там пару месяцев. Может, его присутствие помогло бы мне приспособиться к новым обстоятельствам?
Итак, мы сидели и наблюдали за сценками из жизни Средиземноморья, разыгрывавшимися у нас перед глазами, и наблюдали с удовольствием, потому что они подтверждали незыблемость здешних устоев и антуража. Несколько рабочих безуспешно пытались устранить неисправность в одной из механических фигурок, отбивавших молоточком время на старинных башенных часах. Наконец две фигурки – в половину человеческого роста – дернулись пару раз и немного продвинулись вперед, чтобы двумя ударами отметить полдень – изволив сделать уступку мастерам, бранившимся по-черному, но ничего не понимавшим в устройстве часов. Жаль. В исправном состоянии эти часы замечательно украшают площадь – маленькие человечки шагают по циферблату и крошечным молотком отбивают время. Но иногда часы останавливались, и мы в третий раз наблюдали, как их чинят, правда, на сей раз безуспешно. Немного погодя, горе-мастера стали спускаться с башни и уже одолели полпути, как вдруг, словно подтрунивая над ними, фигурки прошагали требуемое пространство и без понуканий отбили полдень (или полночь). Смачно выругавшись, рабочие добродушно погрозили им кулаками.
Вся эта бесполезная, но уютная суетня несколько меня взбодрила. Очевидно было, что монтерам не справиться с механизмом старинных часов, и придется призвать на помощь опытного мастера. Обратно в отель мы с Тоби шли молча, поразительно умиротворенные банальной городской сценкой, холодноватым, но приветливым солнцем и хорошим вином. Я позвонил в Монфаве и поговорил с Журденом, которого приезд Тоби очень обрадовал, этого я и ожидал.
– Она часто его вспоминает и жалуется, что ее комнаты пропахли его табаком. Пусть он сегодня покурит трубку. Нет, пока никаких изменений не заметно. Что еще? Ах, да. Из морга прислали гипсовую маску Пьера, снятую то ли médicin-légiste,[41]41
Медицинским экспертом (фр.).
[Закрыть] то ли его помощником. Заберете, когда приедете.
Понемногу все начинало улаживаться – или мне так казалось из-за дружеского участия Тоби, из-за того, что похороны Пьера уже позади? Во всяком случае, я стал гораздо спокойнее после утра, проведенного с Тоби, после наших с ним прогулок по городу, заходов в книжные магазины и долгого разглядывания исторических реликтов. Тоби каждый раз учиняет досмотр городу, словно хочет убедиться, что все на прежнем месте, что Авиньон еще воюет за сохранение своего поэтического облика, хотя весь мир давно вырос из подобных сантиментов. Мы ходили и болтали, не замечая, как бежит время, а потом вернулись в отель, чтобы немного отдохнуть. Едва наступили сумерки, мы наняли fiacre и отправились в Монфаве, причем Тоби покорно курил свою вонючую трубку в виде бычьей морды и размышлял о том, что нам уготовано будущим.
Оделась она довольно небрежно – в длинную, вышедшую из моды узкую юбку и обмоталась разноцветными блестящими шарфами – эксцентрично, если угодно. Своей очевидной дезориентации во времени и пространстве она придала тропическое великолепие райской птички.
Мне стало отчаянно больно, потому что это напоминало пародию на здравый смысл. Или это был ребяческий каприз? Едва ли. Сильвия ждала нас, по крайней мере, меня – ведь Журден, наверняка, предупредил ее о нашем визите – и вот надела красный, из бархата, карнавальный cagoule,[42]42
Капюшон с прорезями для глаз (фр.).
[Закрыть] в прорези которого, не мигая, смотрели глаза, как будто сверкавшие злобой. Кто знает!
– Наконец-то! – воскликнула она. – Только не надо никаких угадываний.
Когда Сильвия махнула рукой – жалкая карикатура на властный жест, мне пришло в голову, что она похожа на доморощенную актрису, играющую в трудной пьесе. Вставая со стула, она произнесла:
– В конце концов, здесь все мое. Что хочу, то и делаю, разве не так?
Тоби с медвежьей грацией потопал к ней, бормоча на ходу:
– Ну, конечно.
И обнял бархатного зверька.
– Я узнала тебя, – сказала Сильвия, – по табаку. И тебя, Брюс, тоже узнала.
Многообещающее начало. Однако мы были настороже, вероятно, потому что не совсем поверили ей. Удивленная нашим скептицизмом, Сильвия процитировала своего брата:
– Вот и Тоби в ботинках, как лодки, и с гусарскою хваткой – держись!
Мы обрадовались: в самом деле узнала его. Мы засмеялись. Мы были в восторге. Тоби в поисках воспоминаний, которые, как проторенная тропинка, могли бы вернуть ее в реальный мир, направился к роялю и стал одним пальцем наигрывать мелодию за мелодией. Результат превзошел все ожидания. Сильвия хохотала и хлопала в ладоши, а после, усевшись за карточный стол, разложила пасьянс. Мне тотчас припомнились зимние вечера в Верфеле. Вот Тоби возвратился с обычной прогулки под дождем, вот он устроился возле камина, и вскоре от него начинает идти пар. По другую сторону – Роб Сатклифф. Оба курят свои дьявольские трубки. Пьер прикорнул на диване – слишком много выпил за ланчем и накануне засиделся допоздна. Дождь шуршит ветками деревьев, стучится в окна, булькает в водосточных трубах. Пьер спит. Два великана, ехидничая, спорят о тамплиерах. Я обстругиваю палку. Охотничьи собаки храпят, подрагивая всем телом. Так проходит один из тех долгих вечеров, когда заточение из-за плохой погоды всем в радость. Сильвия раскладывает пасьянс. Перед ней записная книжка Роба, из которой она время от времени читает что-нибудь вслух, хотя никто не обращает на нее внимания.
– Наше «я» – это всего лишь более или менее связное представление о самом себе. Осознание собственного «я» одновременно иллюзорно и реально и совершенно необходимо для счастья, если, конечно, необходимо самоё счастье.
Тоби, громко сморкаясь и не оборачиваясь, кричит:
– Ах этот бяка Ницше!
Примерно такую же сцену мы теперь и пытались разыграть, правда, без Пьера и Роба. Ниточка совсем тоненькая, однако, выдерживает, не рвется. Наклонив голову и изображая сосредоточенность, Сильвия прислушивается к мелодии, звучащей под пальцем Тоби.
– Помнишь Аккада? Он обычно говорил нам: «Быстрее. Быстрее. Минуты одна за другой укорачивают часы, а мы едва прикоснулись к Великой Тайне». Да, дорогой Брюс, я прилежно старалась спешить, как он велел, но потеряла опору. Мне же всегда грозила «старушка неврастения с устрашающе растопыренными пальцами». Помнишь, так говорил Пьер? А теперь Журден возомнил, будто что-то понимает, но он ничего не понимает. У медиков – всегда презумпция понимания, так уж принято.
В этом я сам давно убедился. Вскоре она поднялась из-за стола и принялась ходить по комнате, словно репетируя какую-то пьесу. Маски на ней уже не было, и глаза озорно блестели. Сделав вид, будто наливает виски с содовой в стакан, Сильвия подала его Тоби, и он, поблагодарив ее, сделал вид, что пьет, а потом поставил стакан на крышку рояля. Закурив сигарету, – уже настоящую – она почти тотчас бросила ее в горящий камин, и этот нетерпеливый жест привлек мое внимание – на некоторых обгоревших клочках бумаги я узнал почерк Пьера.
– Ты жжешь письма Пьера? – спросил я.
Сильвия замерла, прижав руку к груди. Через миг,
словно демонстрируя нам свою полную адекватность, она вдруг упала перед камином на колени, расплакалась, потом стала вытаскивать из огня сморщившиеся листки и разглаживать их на коленях.
– Зачем я это сделала?! – кричала она. – В них нет ничего такого, что надо скрывать, совсем ничего такого!
Да уж, ничего такого в них точно не было. Я забрал у нее полусгоревшие листки и, усевшись, стал их по порядку складывать, а она вновь вернулась к своему пасьянсу. Вскоре я заметил, что записи сделаны не только рукой Пьера. Витиеватый женственный почерк Сатклиффа, тем более его замечательные чернила, не узнать было невозможно. Вырванные из блокнота странички обычно валялись повсюду, и определить, когда какой был исписан, не взялся бы никто.
Встреча на току, сражение со смертью и любовью, как у византийского богатыря Дигениса
После забастовки на железной дороге были обнаружены странные вещи, например, гора срезанных роз на запасном пути
Интуиция не имеет памяти, она выбивается из колеи, из накатанных размышлений и логики
опять изнурительный сон со зловещими аллегорическими фигурами и еще одним «сном во сне», про соборы, в мокрых ботинках сидящие ночью в голубой воде каналов
письмо к Пиа, написанное во сне с помощью азбуки Брайля
из всего этого жуткого хаоса, Пиа, я пытаюсь сотворить новую и, возможно, последнюю мою книгу. Пол в студии устлан фрагментами этой грандиозной головоломки
когда эпоха уходит в море и рассеивается в волнах, то, что от нее остается, остается по чистой случайности; пятая часть древнегреческих драм, десятая часть елизаветинских – вот и все. Так о чем печалиться?
Дети очень милы и не страдают бахвальством, за что им надо благодарить лишь самих себя.
Язык – вещь замечательная, и без него мы как без рук, но в то же время это самое зловредное изобретение человека, оно разрушает тишину, обрывая лепестки разума. Чем дольше я живу, тем более стыжусь.
Без печали нет любви, как нет массы без гравитации.
Механизм причинно-следственной связи могуществен и математически неопровержим даже для человека с незаурядным умом.
Я читал эти фрагменты грандиозной головоломки, то есть незаконченного романа Роба, страницы которого устилали пол в верфельском архиве, а Тоби продолжал безжалостно, как дятел, долбить клавиши, стараясь извлечь нужную мелодию.








