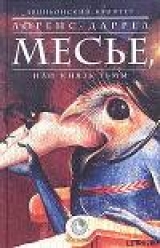
Текст книги "Месье, или Князь Тьмы"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Меня поразил энтузиазм Пьера в отношении этого идеализма, сулящего райское угощение, однако он вычитал в послании Аккада гораздо больше, чем я сам. Неужели духовная лень и праздное любопытство застили мне свет? В любом случае, от всего этого мне не по себе, и я вспоминаю слова Пиа: «Если всерьез во что-то веришь, ни за что не будешь об этом говорить».
Вчера, сегодня, завтра – куколка времени, которая превращается в бабочку движения и смерти. Связи просматриваются в снах куда яснее, чем наяву. На этой неделе я написал длинное письмо Пиа и отправил его на адрес кафе «Собор» на Монпарнасе. А вдруг? Два или три раза она привиделась мне, но в реальных ситуациях, которые, проснувшись, я попытался всерьез проанализировать. По-видимому, подобно многим женщинам, в области чувств она осталась ребенком. Во многих отношениях – типичная девочка-жена. Иногда все дело в физической недоразвитости, которая влияет на психику. У подобных женщин обычно маленькая, узкая, эластичная матка, как у девочки; великолепной формы груди, но маленькие – лишь намек на материнское начало. Бедра тоже не по-женски узкие; худенькие изящные ноги и руки; выражение лица и весь облик определенно инфантильные. За столь невинной внешностью и поведением может скрываться любая патология. Как за невинным пристрастием к криминальным сюжетам – склонность к насилию.
Среди прочего я зафиксировал историю большой театральной корзины, которую мы много лет всюду таскали с собой. Мало того, что Пиа запрещала в нее заглядывать, но нельзя было даже упоминать о ее существовании, жена моя только краснела и бледнела, если я вдруг начинал ворчать из-за ее размеров или веса – например, когда мы отправлялись в морское путешествие. На ней была бирочка «белье». Я послушно молчал и никогда не спрашивал, что в корзине, тем более никогда не заглядывал в нее. Я же человек чести. А потом, когда наши отношения дали трещину, и в постели Пиа стала какой-то заторможенной (я не знал, что она уже познакомилась с Трэш), старая ивовая корзина сама себя выдала. И как вы думаете, что в ней было?
Если честно, куда-то уходя, я почти не сомневался, что Пиа тут же откроет ее, ведь корзина эта вечно маячила посреди спальни. Ладно, говорил я себе, если ей так нравится копаться в белье, пусть, меня это не касается. Один раз, дело было после скандала, у меня сгоряча вырвалось, мол, уезжаю до понедельника. Но на вокзале мне стало невмоготу, и, схватив такси, я помчался домой мириться с моей любимой мучительницей. И знаете, что я увидел?
Пиа сидела на полу перед ярко горевшим камином. Корзина стояла рядом – открытая. А вокруг на бархатных разноцветных подушках сидели большие и маленькие куклы в ярких народных костюмах. В прелестных миниатюрных чашечках был настоящий индийский чай. Мое театральное появление – я едва не плакал от раскаяния и любви – ужасно смутило ее, она побледнела и не в состоянии была говорить. Увидев кукол, я понял: вот они мои истинные соперники… меня охватила лютая ярость.
– Вот оно что, – прошипел я.
К горлу подступила горечь всех наших прежних бесплодных ссор. Я и сам толком не знал, что меня поразило в ее детских играх, но был твердо уверен в необходимости избавиться от маленьких гомункулов, которые стояли между нами. Схватил одну куклу, бросил ее в огонь, потом другую, третью. Я увидел себя в зеркале – суровый немецкий профессор. Пронзительно закричав, Пиа лишилась чувств, а я продолжал жечь ее кукол, в которых, как я теперь понимаю, была заключена память о прежней жизни, о детстве. Это было хуже убийства. Я вел себя, словно маньяк, ничего не соображал, весь во власти сжигавшей меня ревности. Наверное, так ведут себя завоеватели в отданном на разграбление городе. Бедняжка смотрела круглыми от ужаса глазами на великана-людоеда, который рвет на куски ее воспоминания и бросает их в камин; и не выдержала, упала в обморок… Я осквернил самые заветные мечты ее детства.
Всю ночь она пролежала неподвижно, а когда утром очнулась, у нее открылась такая злая горячка, что местный врач заподозрил тиф или менингит. Бледный, с потными ладонями, я сидел возле ее кровати и молил простить меня. Однако она не обращала на меня внимания и не размыкала веки, проваливаясь все глубже и глубже в горячую тьму, которая убаюкивала ее и могла, если бы не выдержало сердце, унести в вечную тишину. Вот так я внес свою лепту в ее болезнь – возможно, стал самой главной ее причиной. Неуклюжий громадный увалень Сатклифф, собственной персоной, он, я.
Когда Пиа пришла в себя, сразу бросилась в глаза резкая перемена. Ее ничто не интересовало, она стала вялой и говорила только о старости и смерти. И как будто в самом деле постарела лет на десять. Вокруг глаз неожиданно появилось множество морщинок, я решил, что это из-за успокоительных таблеток. Однако и ее характер тоже изменился – отчасти из мести, отчасти из тоски по сожженным игрушкам – ее «я». И это состояние длилось довольно долго. Кожа у нее стала жирной, а прекрасные светлые волосы – тусклыми и почти перестали виться. Появились периоды клептомании, потребовавшие усиленного медицинского вмешательства. Они-то и привели нас в Вену, где (слава Богу!) мы много узнали, но все же недостаточно, чтобы спасти наш брак, наверное, подвергавшийся опасности с самого начала, благодаря дару доброй феи, которая разделила нас на мужчин и женщин… Я вдруг остался один, совершенно один. Правда, потом как будто все стало по-прежнему – на самом деле, совсем по-другому. Нельзя вернуть прошлое. И как раз тогда мне стали бросаться в глаза те черточки ее характера, на которые прежде я не обращал внимания. Помог новый взгляд на вещи, обретенный благодаря доктору Радостному. Скажем, вот такая: Пиа никогда не могла пролежать в моей постели до утра. После любовных ласк она обязательно уходила на свою кровать. Пустяк, мелочь, но и это, и многое другое стало важным после Вены, откровения которой не только меня воодушевляли, но и вгоняли в уныние. Думаю, потому, что я понял, насколько ограничена система старого доктора, хотя в небольших пределах она срабатывала изумительно. Из нее не могла и не может получиться философская доктрина, определяющая человеческую жизнь. Зато как рычаг, как средство воздействия она великолепна и не уступает такому замечательному изобретению нашего времени, как двигатель внутреннего сгорания. Такая вот история.
Легко ли узнать свою даму на портрете под множеством несмытых детских ее изображений? Под первым, вторым, пятым слоем белил? Может потребоваться вся жизнь, а там… или умрешь, наконец, узнав, или будешь как-то жить дальше.
Ну да, из-за наших несчастий мы отправились в Вену и нашли старого доктора с его мудрыми и прекрасными формулировками, который не позволял себе лицемерных утешений, вторгаясь в глубины подсознания. Мы быстро учились, но чем больше узнавали, тем меньше надеялись, тем больше отдалялись друг от друга. Меня покоробило, когда Пиа сказала, будто влюбилась в меня, потому что мой запах напоминал ей отца, а потом я вспомнил, как она хватала мою мокрую от пота рубашку (я любил греблю, я и теперь иногда беру лодку, чтобы потренироваться) и, закрыв глаза, прижимала ее к носу, изнемогая от восторга. Ничего лестного для меня в этом не было. Ее отец, старый и глухой как пень, посол на пенсии, жил в Танжере, иногда ездил на своей машине, но в основном проводил время за кункеном или бриджем. Доброкачественная опухоль в организме дипломатии, по службе продвигался, благодаря закону тяготения и льстивым любезностям. Бедняжка Пиа! Мне помнятся и другие, куда более трогательные мелочи. Когда я ругал ее за что-то, сильно обременявшее ее совесть, она вставала лицом к стене и, закрыв ладошками глаза, плакала. Далеко не сразу я понял, какая длинная цепь детских проступков стоит за этим. В другой жизни, в давние времена, няни или родители, наказывая, ставили нас в угол, и стоило ей заслышать злые слова, она тут же признавала свою вину и шла в угол. А у меня комок застревал в горле, такая она была несчастная…
Наверное, мне захотелось умиротворить богов и успокоить виноватую совесть, когда на прошлой неделе я выложил все это старой герцогине. А потом жутко злился на себя: ведь явно хотел этими откровениями добиться ее сочувствия! Ей, впрочем, хватило мудрости, отвечая мне, написать совсем о другом, об уроках игры на банджо, которые герцог заставил ее брать; и об его отчаянном страхе перед скукой. Почему-то он решил, что светские беседы это великий грех, и когда приезжали гости, уходил в дальний конец сада, велев сказать, что молится. Вот почему его стали считать набожным католиком…
Своего рода искуплением было и то, что я принял приглашение Тоби и поехал к цыганам, чьи грязные вонючие таборы окружали Авиньон снаружи – вход в город им был запрещен. Лежа на гнилой соломе в объятиях цыганки, я смог четче сформулировать свое представление о прошлом, – о котором мне напомнила пришпиленная к подушке, будто для колдовского обряда, цыганская кукла. Она отсылала меня снова к Пиа и странным мыслям о близости, которые пробудил во мне терпеливый волшебник по фамилии Радостный. В коробке с куклами (как в коробке с шоколадными конфетами) прятались некрофильские мысли и настроения, вызывавшие преувеличенный страх перед могилами, трупами и т. д. Эти страхи сублимировались в любовь к статуям, восковым фигуркам, портретам, то есть к любым мертвым объектам, притягательность которых в их беззащитности. Труп не может себя защитить.
– Послушай, – кричал я спящей цыганке, – если труп не может себя защитить, то и спящий тоже не может!
На кострах варили еду. Здешние цыганские поселения так давно лепятся к городским стенам, что, кажется, вросли в них. Цыганки, эти хищные вороны, одеваются, как райские пташки, и ведут пещерный беспутный образ жизни, не давая себе труда выучить хотя бы слово по-французски или уча ровно столько слов, чтобы суметь предсказать судьбу под мостом, хотя их главное занятие – быстрая и приятная случка с клиентами.
Итак, я в Авиньоне; серая городская ночь опускается на пыльные, утоптанные призраками бегавших тут днем детей, площадки для игр… Я иду между пустых скамеек и проволочных ограждений, на которых не желают расти розы. Здешние сады не похожи на ухоженное великолепие на мысу, откуда к тому же открываются прекрасные виды. Но сейчас они казались мне приятнее – они были более современными.
Окаймленные столетними крепостными стенами, вздымаются черные крыши, но, улавливая под разными углами свет, чешуйки черепиц становятся то терракотовыми, то табачными, то фиолетовыми: временами город очень похож на коричневый, с корочкой, пирог на каменном блюде. А теперь покоричневел и воздух, разные оттенки бурого мерцают в тенях на траве, и, точно веснушки, коричневые пятнышки испещряют лимонную кору неподвижных платанов. И всю эту картину обрамляет быстрая река, которая торит извилистую дорогу к некрополю Арля. Когда-то, судя по словам историка Тоби, трупы с похоронной мздой бросали в стремительный поток, а возле Алискана их вылавливали и, как полагается, предавали земле. На берегах Роны, где я прогуливался, стояли шатры и палатки бродячих торговцев игрушками, цветными лентами, леденцами, соломенными шляпами, шалями, а также товаром, необходимым в крестьянском хозяйстве: веревки, колокольчики для овец, решета, упряжи, вилы, удобрения, опылители, плуги. Одежду тут продавали старинную, синего цвета, какую издавна носят виноградари, не забывали о шляпах от солнца и больших ивовых вилах, для производства которых в деревнях делают ивовые шпалерники, например, в Сове.
Естественно, цыгане тоже были тут, шныряли повсюду в своих живописных лохмотьях и звенящих побрякушках, ловя зазевавшихся клиентов, суеверно осенявших крестом их грязные ладони; воровали или совокуплялись прямо под кустами на речном берегу. Хотя мы сравнительно далеко от моря, машины и поезда привозят свежий улов к нашим дверям, и в Авиньоне можно полакомиться средиземноморскими деликатесами. Правда, старые пыльные дороги отпугивают современный транспорт, так что в сравнении с более цивилизованными прирученными пригородами Ниццы и Монте-Карло мы наверняка производим впечатление отсталых, погрязших в пыли веков. Ну и пусть. Зато здесь все достовернее, у всего есть основа и стиль. Да и места тут красивее, благодаря своей относительной непричесанности и неухоженности.
Во время праздников и гуляний под знаменитым разрушенным мостом, который обитатели Верфеля воспринимают как некое символическое сооружение, танцуют вполне реальные профессиональные танцовщики, на праздники и в отпускное время. Устраивают здесь и знаменитые игры с быком: «сорви-кокарду», в точности такие, как на критских вазах, кто-то недавно это обнаружил. Это развлечение гораздо более гуманно, чем испанская коррида, ибо быка не убивают; опасности подвергается человек, весь в белом. Буквально за минуты огораживают цыганскими повозками круг – вот вам и арена, и места для зрителей. За лето мы успеваем вдоволь наглотаться красной пыли и выпить столько красного вина, что оно удержало бы на плаву целую канонерку. Иногда, при вечернем освещении, кажется, что Средневековье было не так уж и давно – и скорее это реальность, а не абстракция. Стены с бойницами смеются беззубыми ртами, гримасничают, словно деревенские увальни Брейгеля. Высоко поднимаются в ночное небо массивные, безобразные фабрики Бога, похожие на сломанные лобзики. В зеленых водах большого фонтана в В., который пульсирует в ритме петрарковской поэзии, безмятежно играет и плещется блестящая форель, пока не попадает под багор юных бездельников. Темнеет. Я ищу среди палаток юного Тоби, который не перестает изумлять меня своими возлияниями; наверняка околачивается возле какой-нибудь винной лавки, где потчуют бесплатно, рекламируя местные вина и заключая прямые сделки. Тоби уже перебрал. Он едва держится на ногах, но стакан из своей лапищи не выпускает. Под мышкой у него последний Персворден, довольно потрепанный и весь в песке (мы утром купались). Хоть я и тщеславен, но не держу на него обиды, ибо П. единственный в сегодняшней Англии приличный писатель, и я с радостью, как говорится, отдаю ему пальму первенства. Тоби замучила икота, и он пытается избавиться от нее единственным известным ему способом – льет себе в глотку вино.
Иногда достаточно одной-единственной спички, чтобы поджечь стог сена, и одного слова – чтобы воспламенить мозги. Пьер непременно хочет повидаться с Аккадом, когда тот в следующий раз приедет во Францию, хочет расспросить его о тайнах секты. Кстати, и Тоби после нашего обсуждения вдруг понял, как ему подступиться к своей работе. В сущности, я не сообщил ему ничего нового о гностических верованиях, однако он усмотрел в них ключ к решению старой наболевшей проблемы с тамплиерами – в чем их грех, почему они погибли? Тоби вдруг осенило: ересь, которая довела их до могилы, как раз и есть гностицизм. Эта гипотеза придала некую форму и осмысленность разрозненным документам, скопленным в верфельском архиве. От одного только предположения, что он на пути к теории, достойной докторской диссертации, Тоби охватил такой восторг, что он беспробудно пил трое суток. Выбравшись в город, мы то встречали его, то теряли из вида; и при каждой следующей встрече он выглядел все более пьяным, все медленнее передвигался, и все вдохновеннее чудил. Когда Тоби напивается, невозможно предугадать, что он сотворит. Например, может остановить единственное в городе такси и крикнуть:
– Гони вон за тем неврозом!
Или продекламировать нелепый стишок:
Яблочко мое налилось-поспело,
Проказница-Ева, давно пора за дело.
Ну и конечно же Байрон – он считал, что похож на Байрона, и постоянно разговаривал с воображаемым Флетчером – правда, как правило, в постели.
– Флетчер!
– Слушаю, милорд.
– Отрекаюсь от себя.
– Да, милорд.
– Флетчер!
– Слушаю, милорд.
– Передай герцогине мои наилучшие инстинкты.
– Слушаю, милорд.
В его взбаламученных мозгах одна мысль налезает на другую, но ни одну ему не удается додумать до конца.
– О мудрейший, я не вижу смысла быть самим собой, – произносит он нараспев.
А потом добавляет:
– Огромную тушу британского мяса и хрящей по имени Сатклифф надо держать в собачьем ошейнике. Он преступно напился и примкнул к инженерам греха. Чума на эту вечно шляющуюся задницу и потрескавшиеся лапы. Свобода воли – это иллюзия, дорогуша, так же, как абстрактное эго, скажем, тамплиеров. Кто заставил их такое учудить? До последнего мгновения они не знали о гневе нимф.
Или он просто растягивается на уличной скамейке и засыпает, словно какой-нибудь бродяга, вместо подушки сунув под голову «Эссе» Персвордена. И только предрассветным холоду и сырости удается разбудить этого заросшего щетиной охальника и отправить в «Принц-отель» или назад в шато.
– Мой совет Робину Сатклиффу таков, – говорит он и декламирует, чертя пальцем решетку в воздухе:
Увидел утку – и стреляй,
Постели ради – вирши оставляй,
Ведь наказанье-то пойдет
Потомству бедному в зачет.
– Флетчер!
– Слушаю, сэр.
– Заклинаю тебя пуповиной Воскресшего Господа, принеси мне соды.
– Сию минуту, милорд.
Далеко-далеко, под бамбуковой кровлей, там, где летают пестрые тропические птицы и где отдыхают великие филологи, она, возможно, все еще ждет меня. «Милый, Бирма – это ловушка, – было в письме. – Мне кажется, я схожу с ума».
Слоняясь по старому городу, возле рынка я наткнулся на несколько тележек с книгами, и среди них отрыл очень старое жизнеописание Петрарки (MDCCLXXXII), которое я читал и перечитывал в общественных парках их преосвященств. Лучшего прощального подарка для Сильвии не придумаешь. Я не настолько очерствел сердцем, чтобы не преисполниться внезапным сочувствием при словах анонимного биографа поэта:
J'ai cru d'ailleurs que dans un temps оù les femmes ont Fair de ne plus se croire dignes d'être aimues; оù elles avertissent les hommes de ne pas les respecter; оù se forment tant de liaisons d'un jour et si peu d'attachements durables; оù l'on court aprus le plaisir pour ne trouver que la honte et les regrets, on porrait peut-etre rendre quelque service aux Moeurs, et rapeller un Sexe aimable a l'estime qu'il se doit si l'on offrait a ses yeux, d’aprus l'histoire, le module d'un amour dùlicat, qui se suffit a lui-même et qui se nourit pendant vingt ans de sentiment, de vertus et de gloire.[115]115
Впрочем, я подумал, что во времена, когда женщины, похоже, больше не считают себя достойными любви, когда они уведомляют мужчин, что не уважают их, когда завязывается так много мимолетных связей и так мало длительных привязанностей, когда все ищут удовольствий, находя лишь стыд и сожаления, можно было бы оказать услугу нравам и призвать прекрасный пол к уважительному отношению к самому себе, явив его очам образец нежной любви, самодостаточной и живущей в течение двадцати лет чувством, добродетелью и славой, а такие образцы истории известны (фр.).
[Закрыть]
Бедняжка Пиа! Неожиданно я перенесся мыслями на берег Женевского озера, где в первый раз встретился с бледной худенькой девочкой в белых перчатках на пуговичках. Зонтик, ботинки с узкими носами, соломенная шляпка. В Женеве она заканчивала школу, и по воскресеньям ее вместе с другими девушками выводили гулять парами по набережной. Она была очень бледной и очень худенькой, поэтому даже чересчур зауженный в талии костюм висел на ней, как на вешалке. У меня было назначено свидание, уж не помню с кем, и я сидел в маленьком уличном кафе, когда она, улыбаясь подруге, проходила мимо, но в ее взгляде было что-то еще, более сложное, пробудившее мой интерес – интерес, который усиливался, пока я наблюдал, как она, лакомясь, словно кошка, ест мороженое. Потом, сколько бы я ни узнавал о ней, меня ничто не удивляло, – словно я с самого начала понял все: как грустно и одиноко ей жилось в больших посольствах, где ее окружали только гувернантки и учителя и совсем не было детей ее возраста. Младший брат еще не мог составить ей компанию. После прозябания в посольстве даже строгая женевская школа казалась ей восхитительной, а предоставляемая воспитанницам скромная свобода – почти опасной. Я отправился следом за девушками, и из случайной реплики узнал, в какой церкви они молятся по воскресеньям. В следующее же воскресенье я туда явился, дабы вместе с ними отдать долг Всевышнему, а через воскресенье передал ей записку с приглашением на обед, сообщив название моего отеля. Для пущей важности я приписал, что в скором времени приму монашеский постриг, но ни на одно мгновение даже мысли не допускал, что Пиа примет мое приглашение. Однако Пиа, приходя в себя после всего пережитого, наслаждалась карнавалом свободы в степенной и мрачной Женеве. Лишь однажды в своей жизни она проявила не свойственную ей, почти отчаянную храбрость: воспользовавшись черным ходом, она тогда перелезла через невысокую изгородь… Я не поверил своим глазам и был совершенно выбит из колеи, не хуже старика Петрарки.
Le Lundi de la Semaine Sainte, a six heures du matin, Pétrarque vit a Avignon, dans l'église des Religieuses de Saint-Claire une jeune femme dont la robe verte était parsemée de violettes. Sa beauté le frappa. С'était Laure.[116]116
В понедельник на страстной неделе в шесть часов утра Петрарка увидел в церкви женского авиньонского монастыря Сен-Клер молодую женщину в зеленом платье, усеянном фиалками. Ее красота поразила его. Это была Лаура (фр.).
[Закрыть]
Такие приключения всегда кажутся поначалу простыми и незатейливыми. А потом приходит беда. Но может быть, кому-то везет. Может быть.
Старый доктор в Чехии как-то сказал герцогине:
– Я всегда думал о себе как о запасном ребенке, запасном голосе, запасной шине. Люди обращаются ко мне только в горе. Счастьем с врачом никто не делится.
– Флетчер!
– Слушаю, милорд.
– Подай мне лиру.
– Сию минуту, милорд.
– И чего-нибудь бодрящего. Мне немного не по себе – то ли сплин, то ли обыкновенное похмелье. Немного метилового спирта, пожалуйста.
– Сию минуту, милорд.
Лосося мы коптим живого,
Живого жарим каплуна.
Со мною милость Христова,
За веру она мне дана.
(Тоби не мог сдержать рвавшихся из него стихов, когда стоял перед папским дворцом.)
Пир одиночества – слишком жирная диета для такого человека, как я. И все же пришлось к ней привыкать. Пьер сказал:
– Люди, утратившие способность влюбляться, могут ослабнуть, изнемочь и подсознательно выбрать болезнь, которая заменит пистолет.
Он прав. Несмотря на новейшие свободы, взаимонепонимание в любви остается неизменным. Акт – часть духовной жизни, и плоть лишь подчиняется его целительным судорогам и амнезии. Ну да, теперь вообще лечись – не хочу, благодаря Мари Стопе. Воистину молодые заполучили ключ от кладовой, они могут каждое утро лакомиться на завтрак яблочным пирогом и сливками, а всю ночь – пирожками и пивом. Какого черта я предъявляю непомерные претензии жизни, ведь у меня под боком все цыганки Авиньона? Одно слово – дурак. Помнится, мне хотелось кричать:
– Я люблю тебя.
Но она закрыла мне рот, и я чувствовал свое дыхание в ее ладошке…
Вечерами я подолгу мылся в своей комнате с зажженным камином; кстати, большая сидячая ванна пригодна для чего-то более современного, чем просто мытье. Медленно выжимая губку, я согревал свое тело. После – бродил в освещенном лабиринте старого дома, определяя нужное направление по далеким звукам рояля. Свет играл на бокалах с вином. Сколько еще продлится для них эта жизнь – в унисон с равномерным биением верфельского пульса? После обеда мы играли в карты или читали. Я чувствовал, как меня завораживает тяжелая дремотная пассивность и что мне приятно подчиняться инерции здешней жизни. Тоби обвинял меня в эгоизме за то, что мне было плевать на социальные проблемы, но ведь эти пресловутые социальные проблемы не подскажут, как утишить боль, как избавиться от одиночества, как избежать отчуждения, удовлетворить потребность в любви. Когда-то я пару месяцев был без памяти влюблен в грязную, немытую, постоянно зевавшую француженку, от которой несло, как в метро в разгар лета. Из-за перенесенного в детстве менингита у нее были замедленные реакции – она растягивала слова, и непослушные мускулы в уголках рта придавали ей необыкновенную прелесть и тайнственность. Комитет по спасению чего-то там не может любить, общество – тем более, а та девица одарила меня невероятным счастьем, которое давало ощущение нежданного чуда. Я рассказал о ней Пиа, и она с терпением, свернувшимся внутри нее, словно котенок, слушала меня, не произнося ни слова. Потом я снял с нее новую соломенную шляпку и благодарно перецеловал все украденные у солнца веснушки. В те дни у меня было легко на сердце, и свои письма я подписывал: «Всего хорошего, наилучших мучений, Роб». До чего же я был наивен!
«Моя философия такова: люди, которые причиняют слишком много беспокойства, должны быть взяты под стражу и пущены на мыло». (Тоби. Последние три слова он проорал, стукнув увесистым кулаком по столу.)
Что до Трэш, то ее терракотовая красота говорила сама за себя, что этот пудинг хорош, было ясно и без пробы. Те места, где ее кожа отливала сливовым цветом, она слегка припудривала – и была похожа на греческую вазу, присыпанную костяной муки. Утром, еще не одевшись, она занималась тем, что называла своей Распевкой, вставая при этом на цыпочки и вздымая руки к небу:
Маленькую болонку в одежке из алого бархата назвали в честь Пиа. Она с удовольствием ходила на задних лапках, и стоило показать ей хлыст, немедленно возбуждалась. Когда же она умерла, то ее, расслабив сфинктеры, со слезами хоронили при луне. Ах, прелестное колдовство темной дамы рыданий![118]118
Явный намек на «смуглую леди сонетов» Шекспира.
[Закрыть]
Пытаюсь объяснить Пьеру, что поток сознания состоит из слишком болезненных фрагментов осознанного, связи между которыми подчас весьма слабы, когда свободные ассоциации скачут от одного фрагмента к другому, наподобие квантов. Он не верит, что искусство больше не дневник, а история болезни. В любом случае, «поток сознания» – некорректный термин, ибо он предполагает нечто текущее между берегами. Млечный Путь – это уже точнее. Сознание – это нечто липкое и вязкое. Послушай, Трэш, дорогая моя, прыгни на луну, сверкни черными ляжками! Любовь Пиа поможет тебе, она спасет обе твои прелестные ямочки.
Бедняжка Робин по ночам молчит
И думает, увы, мой разум спит.
На пустынных плато своего одиночества он чувствует, как у него на щеках высыхают холодные морские брызги. Не отрываясь, он вглядывается в глаза бурана, но ничего не видит за медленно падающим снегом.
– Тоби, как только ты начинаешь думать о сиюминутном, художник в тебе уступает место гражданину. Делай свой выбор.
Но я злюсь на себя за то, что попался в сети ненужного спора. Никогда не надо ничего объяснять, достаточно намека.
Брюс сказал:
– Когда мы были моложе, книги даже физически воздействовали на нас. Помню, «Серафита»[119]119
«Серафита» – рассказ Бальзака, написанный под влиянием идей Сведенборга, в основе сюжета – миф об андрогине, двуполом существе.
[Закрыть] так разволновала Пьера, что он, задыхаясь, отбросил ее и убежал на улицу, а там стал кататься по траве, как пес, чтобы избавиться от настигшего его видения совершенной любви, соединившей его с сестрой.
Да уж, когда человек молод, нужна трепетная поэзия. Это потом начинаешь понимать, что в любви не меньше костей, чем в рыбе – красота бесстыдна и сладостна или спокойна и скучна, как Пиа:
Поцелуй похож на интервал между двумя математическими точками, на кончик горящей в темноте сигареты. Однажды, когда мы пили обыкновенное земное вино, я попросил Пиа рассказать, как ей с Трэш. Сильно покраснев, она долго молчала, не сводя с меня глаз и в задумчивости морща лоб. А потом сказала:
– Тело Трэш пахнет свадебным тортом.








