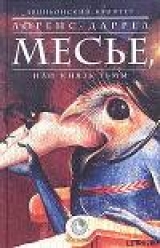
Текст книги "Месье, или Князь Тьмы"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
В тени деревьев, по-солдатски выпрямившись и сложив на груди руки, нас поджидала сиделка-немка в серой униформе, не сводившая глаз с двери, из которой мы должны были рано или поздно появиться. Один раз Сильвия написала на стене пустой бальной залы в Верфеле: «Quelqu'un en gris reste vainqueur».[6]6
Кто-то в сером остается победителем (фр.).
[Закрыть] В ту минуту она наверняка думала о долговязой и суровой стражнице ее рассудка.
Слава богу, церковь никуда не делась, да и площадь почти не переменилась. Мой взгляд сразу же отыскал знакомое место под деревьями, где раньше было многолюдно, а теперь лишь несколько пожилых мужчин катали boules.[7]7
Шары (фр.).
[Закрыть] Остановив fiacre, я на минутку вошел в церковь, ведомый не столько конкретной целью, сколько сонной тишиной, и посидел немного на нашей скамейке, не сводя глаз с картины на стене, свидетельницы наших свиданий и бесед. Потом мои мысли вернулись к Сильвии, и мне захотелось, если получится, телепатически передать ей чуточку здешнего печального покоя. Я закрыл глаза и некоторое время считал вдохи и выдохи, мысленно воссоздавая ее облик – то ли как мишень, то ли как икону. Мне явилась порывисто, но уверенно двигавшаяся фигура, узкокостная, гибкая, в несколько старомодном, по обыкновению, платье и почти без украшений. Вызвать ее образ, «фантом», в сером сумраке маленькой церкви оказалось совсем нетрудно. И тогда я попытался спроецировать на нее понимающую, думающую и заботливую часть себя, которая была выше моего «я» и хитрых уловок разума. Да-да, я видел ее, и мне припомнилось еще одно рассуждение Аккада, которое я тихо повторил: «Определенная текстура есть даже у смерти, и большие философы еще при жизни входили в тот мир, который она собой воплощает, чтобы соединиться с ним, пока продолжали биться их сердца. Они колонизировали мир смерти». Когда Аккад произносил нечто подобное, словно цитировал какого-то забытого поэта-гностика, Сильвия, не помня себя от восхищения, протягивала к нему руки и говорила: «О, милый Аккад, сделай так, чтобы я поверила, пожалуйста, сделай так, чтобы я поверила».
В отличие от брата, она, как и я сам, отличалась неспособностью к вере, что и помешало нам слишком углубиться в непроходимые дебри гностического мира; ну а Пьер чувствовал себя в нем, как рыба в воде, и лишь старался не стать чересчур назойливым фанатиком.
Время шло к вечеру, и солнечные лучи в последнем усилии зажигали огнем платаны. Я, прервав воспоминания, вернулся к экипажу.
– В «Монфаве-ле-Роз», – приказал я.
Кучер странно посмотрел на меня, не зная, выражать мне сочувствие или не выражать; но, возможно, его просто разбирало любопытство. Образ розы придает безумию некую особую окраску. Вот и авиньонское просторечное «tomber dans les roses», шутливая переделка выражения «tomber dans les pommes»[8]8
Упасть в обморок (фр.).
[Закрыть] означает сойти с ума и попасть в то серое заведение. В прохладных вечерних сумерках мы ехали навстречу Сильвии. И я пытался представить, как она, в каком состоянии.
На посторонний взгляд это были всего лишь две обветшавшие от старости комнаты с высокими потолками в вечной паутине, тем не менее, вид имевшие довольно величественный, поскольку их не подвергали никаким переделкам. Переселяясь в Монфаве, Сильвия всегда занимала их, и комнаты всегда ждали ее, так что теперь уже казалось, будто они ей принадлежат. Ей позволили перевезти сюда из шато элегантную мебель, ковры, картины и даже большой гобелен из бывшей бальной залы. Поэтому, входя к ней, я неизменно испытывал приятное изумление, словно попадал в райский приют, полный покоя и красоты, до этого миновав довольно неказистые основные корпуса и далее череду длинных белых коридоров со стерильно чистыми стеклянными дверями, на которых краской были написаны фамилии врачей. К тому же, в комнатах Сильвии огромные окна-двери выходили прямо в сад, и она практически все лето жила на свежем воздухе. Это была жизнь привилегированного узника, и только когда наступала ремиссия, Сильвия возвращалась в обычную жизнь. Однако комнаты оставались за ней, и даже в ее отсутствие их обязательно прибирали и проветривали.
Сильвия работала под огромным, когда-то ярким, но со временем потускневшим гобеленом: охотники, трубя в рога, преследовали олениху. Загнав ее и оставив свой трофей грумам, они галопом мчатся мимо расположенных по диагонали туманных озер и романтических островков к холодным итальянским небесам, там, на горизонте, словно вышедшим из-под кисти Пуссена или Клода.[9]9
Клод, Лоррен (1600–1665) – французский живописец и график.
[Закрыть] Олениха же, вся в слезах, тяжело дышит и истекает кровью. Отсутствие перемен меня успокоило. Все тот же прелестный старинный письменный стол португальских мастеров, ящики которого украшены ручками из слоновой кости; раритетный бюст Гонгоры;[10]10
Гонгора-и-Арготе, Луис де (1561–1627) – испанский поэт.
[Закрыть] увеличенный и вставленный в рамку автограф Андре Жида над пианино.
Грустно улыбаясь, рядом стоял Журден с ключом в руке, давая мне время освоиться. Взгляд мой наткнулся на связку рукописей и кучу записных книжек на ковре – словно они выпали из разорвавшегося пакета.
– Трофеи из комнаты Пьера, – пояснил Журден, проследив за моим взглядом. – Полицейские разрешили это взять в надежде, что она обнаружит что-нибудь важное. Но пока ничего. Похоже, она видела Пьера последней, понимаете? Пойдемте. Поговорим потом.
Сильвия ушла и теперь лежала на широкой кровати с тяжелым, красновато-синим балдахином, не пускавшим внутрь свет, прямо на покрывале. Глаза ее были закрыты, но она не спала. Об этом говорили движения ее любознательных пальцев – которые, похоже, медленно проигрывали гамму ля минор, неловко, с остановками, словно первый раз. Мы вошли почти бесшумно, но я сразу, благодаря многолетним за ней наблюдениям, понял, что Сильвия знает о нашем приходе, учуяла нас, как это бывает у зверей. Впрочем, ничего таинственного в нашем появлении не было, ведь она ждала меня. Почти машинально я опустился на одно колено и коснулся пальцем белого запястья, потом шепотом позвал ее. Она улыбнулась, и, повернувшись, долгим поцелуем нежно поцеловала меня в губы, однако глаз не открыла.
– Брюс, наконец-то, Брюс.
Но прозвучало это так, словно я привиделся ей во сне. Потом, переменив тон, она негромко, но отчетливо произнесла:
– Здесь все пропахло жженой резиной. Надо сказать Журдену.
Журден незаметно потянул носом, а она стремительно продолжала:
– Мне кажется, на самом деле, меня раздражало, как он ест. Тоби всегда так ел. Бедняжка Тоби.
Я взял ее за руку и, забывшись, спросил:
– Тоби уже приехал?
Не отвечая, она приложила палец к губам.
– Ш-ш-ш. Никто не должен нас слышать. Скоро он приедет. Он обещал. – Сцепив пальцы, она с озабоченным видом уселась на кровати, все еще не открывая глаз. – Дневники Пьера. Их так много, что мне не разобраться. Слава богу, Брюс, ты приехал. – У нее дрогнули губы. – Вот только запахи резины и серы… даже не знаю, какой хуже. Теперь я в твоей власти, Брюс. Кроме тебя, никого не осталось, кто мог бы меня сгубить. Ты сам убьешь меня, Брюс, или доведешь до самоубийства? Я должна знать правду.
– Ну что ты…
– Я должна знать правду.
Наконец-то она разомкнула веки и с улыбкой поглядела на нас – немного плаксиво, но в общем, взгляд был спокойным, и мне стало чуть-чуть легче. Удивительно, как ей удавалось выползать из своей болезни, стоило мне объявиться после долгого отсутствия. Так из морских глубин выплывает ныряльщик. Еще минута – и она опять лежала лицом к стене, теперь уже рассуждая вполне здраво:
– Вина за путаницу отчасти на мне, но вообще-то мы все виноваты. Ужасно стать полем битвы трех «я».
Я прекрасно понимал, о чем речь, но однако же молчал, не снимая пальцев с жилки у нее на запястье, с этого драгоценного хронометра пульса.
Сильвия вздыхала, однако довольно скоро ко мне – в который раз – вернулась уверенность, что непостижимым для меня самого усилием воли я потихоньку возвращаю ее в реальную жизнь. Весь фокус был в контроле (не всегда срабатывавшем), механизм которого мне хотелось понять, чтобы использовать это действо как сеанс терапии. Я пытался внушить себе, что рядом со мной она не сразу, но понемногу забывает о своем безумии. Всему, что она говорила, даже полной чепухе, я старался придать реальный смысл и тем самым побуждал ее к осмысленной речи. Приходилось делать вид, будто все, сказанное ею, имеет смысл, но, собственно, так оно и было, вот только добраться до сути этого смысла мне не всегда удавалось, словно суть тонула в осмысленности, как залитая водой лодка.
Нет ничего более противоестественного, чем любить человека, впавшего в безумие, пусть даже временное. Ответственность, напряжение, страх – это тяжелая ноша, уже хотя бы потому, что в периоды помрачения и истерии непомерно велика угроза самоубийства или убийства. Человек, любящий безумного, вынужден постоянно следить и за своим разумом, ведь рано или поздно каждый из нас понимает, как ненадежен его мозг. Постоянно наблюдая безумие, волей-неволей приближаешься к нему. Оказывается, лишиться рассудка легче легкого, и здравомыслие начинает представляться чем-то временным и ненадежным. Пока я проворачивал в голове эти тяжкие рассуждения, она говорила:
– Вроде бы все закончено. Но все ли? Жили-были три негритенка… потом их стало два. Я боюсь тебя. Что нам делать, Брюс?
Вопрос был задан совершенно осмысленно, и я решил этим воспользоваться.
– Ты была с ним? Как это случилось? Он действительно сам?
Она тихонько вздохнула и закрыла глаза, вновь уходя в забытье, в это изумительное убежище от назойливой реальности, а я почувствовал себя дураком – оттого что не дождавшись подходящего момента, спросил о самом важном. У Журдена хватило такта отвернуться. Едва мы услыхали легкое посапывание, как он, пожав плечами и стараясь не шуметь, потянул меня из спальни, напоминавшей подводную лодку, в сторону кабинета.
Но я довольно долго не уходил, почти осязая окружавшую меня тишину, наблюдая за Сильвией и прислушиваясь к ее все более глубокому дыханию, пока она пребывала в искусственном, навеянном лекарствами, небытии. Журден тоже терпеливо ждал; милый человек с немного косящим взглядом, который придавал ему грустно-осуждающий вид, отчего его улыбка обычно была тронута печалью. Даже летом он носил темные плотные костюмы, хотя наверняка задыхался в них, белые рубашки с жесткими воротничками и широкие галстуки, больше похожие на шарфы. Шепнув, что вернется за мной к обеду, он на цыпочках вышел из комнаты. Посидев еще немного с Сильвией, я последовал его примеру. Очутившись в соседней комнате, я вынужден был собрать разбросанные по ковру письма и записные книжки. Так Пьер всегда обращался со своими бумагами: все в полном беспорядке – всё еще в процессе работы, вплоть до последнего афоризма! Можно было подумать, что это спятивший барахольщик рылся в кучах старых концертных программок, городских карт, брошюрок, записных книжек и писем. Я кое-как все это рассортировал и аккуратно сложил, однако мне пришлось нелегко. Среди писем, в конвертах и без конвертов, оказалось много моих и Сильвии, которые она посылала мне, а я потом переправлял их ему – вот так я относился к нашему союзу, с моей точки зрения, обязывавшему нас делить друг с другом все, даже самые личные переживания.
Я нашел несколько писем Пьера к Сильвии, все – на его любимой бумаге с печатью легендарного «Outremer». (Я заметил у нее на пальце его печатку с этим ребусом. Пьер не без иронии называл себя «последним тамплиером», ведь девиз «Outremer» символизировал не только прошлое его семьи, ибо Пьер происходил из рода де Ногаре,[11]11
Имеется в виду Гильом де Ногаре (ок. 1265–1313), канцлер и хранитель печати Филиппа Красивого, сыграл важную роль в подготовке разгрома ордена тамплиеров в 1307 г.
[Закрыть] но и его тамплиерскую гордость заморскими деяниями ордена. Именно поэтому наше романтическое путешествие на Восток было таким захватывающим – в известном смысле даже историческим. Ему казалось, будто он возвращается к корням великого предательства и раскола в христианстве. Пьер поклонялся Богу тамплиеров. Он верил в узурпатора трона, Князя Тьмы.)
Сидя в зеленом кресле, я размышлял о Пьере, перебирал бумаги и мечтал. «Перед лицом подобного зла прилично ощущать лишь творческое отчаяние», – сказал однажды Пьер, и, когда я ответил улыбкой на столь высокопарное утверждение, рассердился. Я листал страницы дневника, на которых были перечислены все, кто приходил к нему в последние дни перед смертью. Неужели он сам дал сестре печатку? Когда я потряс «A Rebours»,[12]12
«Наоборот» (фр.).
[Закрыть] роман Гюисманса, на ковер выпало еще несколько писем. В одном, адресованном мне, Пьер рассказывал о рецидиве. «Когда это приходит, Брюс, ей всюду слышится мой голос, в роще, в трубе отопления, в комарином писке; я будто бы кричу: «Где ты, Сильвия?» А потом вдруг раздается кошмарный вопль: «Я убил мою сестру!» Она в ужасе. А мне что делать?»
Рецидивы не совпадали ни с фазами луны, ни с собственными биологическими ритмами Сильвии. Их не удавалось ни предсказать, ни предупредить. Если мы навещали ее вдвоем, она узнавала только одного Пьера. Мне попалось на глаза длинное бессвязное письмо, которое она написала мне, но адресовала брату. «Милый, тебя нет слишком долго. Скоро мой день рождения, и я слышу запах каждого следующего дня, который неохотно сменяет предыдущий. Знаю, ты не приедешь, и все же делаю вид, будто это не так. Вот и сегодня я весь день ждала тебя, облачившись в великолепную, без единого шовчика, эйфорию. Волны запаха миндаля действуют мне на нервы, и я плакала и плакала, пока не заснула и не вернулась в реальную жизнь. Теперь, когда плод созрел, я знаю, что люблю тебя. Брюс, дорогой, тот след пятничного мужчины, что был на песке, теперь появился у меня в комнате. Даже Журден видит его, поэтому я ничего не придумываю. Помнишь, Пьер – Дитя Пятницы?[13]13
Намек на английскую поговорку: «рожденный в пятницу щедр и пылок».
[Закрыть] Мой милый, говорят, ты возвратился из Индии, а мне ни слова. Почему? Наверняка, у тебя есть причины, и все объяснится, когда ты приедешь. Прости, если я слишком назойлива.
Мне не терпится послушать твои рассказы об Индии… Какая она? Спокойная? Голодающая, облившаяся Богом и усеянная испражнениями? Я, кажется, знаю. В каждом остановленном дыхании детоубийство, в каждой улыбке таинственное право на внутреннее одиночество. Давным-давно. Когда я была там, то знала: у моего хрупкого небытия время полнолуния. Яснее всего мне помнится аромат магнолии. Это аромат глубокой печали, такой желанный. Однако, запертая в первоклассной гостиной собственного мозга, я начинаю роптать. Вчера мне разрешили притвориться, и я пошла в ту церквушку поздороваться с людьми, нарисованными на стенке. А сегодня ночью мне показалось, будто Пьер ходит в соседней комнате, но, когда я прибегала, его там не было. Этот дом, эта пародия на дом, полна необычной печали. Журден тоже это чувствует. Он все еще здесь, все еще говорит, что пора на пенсию; и привередлив, как прокаженный. После его ухода остается запах сигарет. И йода.»
Каждую фразу я мысленно проверял на звук, одновременно пытаясь представить, как она, неловкая и нескладная, сидит в пятом приделе церквушки в Монфаве под тремя написанными маслом волхвами. За ее спиной на стене мемориальная доска с датой смерти забытого священника. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу ее.
Погрузившись в воспоминания, я забыл о той, которая спала в соседней комнате, и даже не сразу узнал Журдена, когда он постучал по стеклу, привлекая мое внимание. Наверное, я задремал, сказалась усталость после долгой дороги. Тем не менее, я тотчас вскочил и побрел за доктором через все здание в холостяцкую квартиру, где в полной мере проявлялась неслабеющая страсть Журдена к живописи. Там я заметил новые приобретения.
Желая, так сказать, подчеркнуть свой общественный статус, он надел любимую английскую куртку из фланели – видимо, время учебы в Эдинбургском университете было лучшим в его жизни. Вина были подобраны тщательно и любовно. Еда – легкая и изысканная. Довольно долго мы, не произнося ни слова, что позволительно только старым приятелям, потягивали коньяк и улыбались друг другу.
– Мне не терпелось спросить, что вам известно о происшедшем, – с вымученным смешком произнёс наконец Журден, – но, вижу, вы хотите задать мне тот же вопрос.
Доктор был прав; я как раз намеревался спросить его, что за дьявол вселился в Пьера. Журден знал о наших с Пьером планах насчет отставки и всего прочего, и я мог говорить с ним откровенно. Я всегда подозревал, что Журден влюблен в Сильвию. И верно поэтому, как человек на редкость щепетильный, едва возникала необходимость в курсе легкой психотерапии, он направлял ее к другому врачу. Опасался, что после этих сеансов Сильвия начнет его побаиваться. Или не хотел испытывать неизбежную ревность?
– Тогда позвольте мне рассказать, как обстоят дела на сегодняшний день, – проговорил он, едва мы приступили к еде, и тяжело вздохнул. – Почти год назад, когда Пьер вышел в отставку и поселился в отеле, чтобы в ожидании вашего приезда быть поближе к Сильвии, все как будто складывалось в соответствии с вашим планом, о котором он дважды и с энтузиазмом мне рассказывал. Сильвия отреагировала на грядущие перемены несколькими прекрасными ремиссиями – словно и не болела никогда. Радости Пьера не было границ, и они проводили вместе целые дни, гуляли по городу, разбирали у него в отеле письма, играли в карты – вам ведь известна его страсть к картам. Всю последнюю неделю… ну… перед своим немыслимым поступком… он лежал в постели с легкой простудой, ничего серьезного. Прочтите его дневник, и увидите, как много людей у него перебывало, но, судя по всему, последней была Сильвия. Около семи вечера за ней приезжала сиделка и привозила ее сюда. Разумеется, в том, что последней Пьера видела его сестра, нет ничего странного. Странно другое. Когда за ней приехали, она была очень подавлена и почти ничего не соображала. Напрашивается вывод: то ли Пьер уже сделал последний шаг, то ли сообщил, что собирается его сделать. Во всяком случае, Сильвия – знала. Согласитесь, то, что она ни разу не пришла в себя, весьма подозрительно. И сиделка запомнила интересную подробность – будто она (Сильвия) была очень напугана и винила себя в смерти Пьера, так как в тот вечер сама приготовила для него снотворное. И, возможно, ошиблась в дозировке. Пустой пузырек стоял на тумбочке возле кровати, где его, естественно, нашли бравые полицейские, потребовавшие вскрытия трупа. Сам он отравился или его случайно отравила Сильвия? Вот в чем вопрос.
– «Случайно» звучит лучше. Теперь мне спокойнее.
– Да уж. Никогда не подумал бы, что он собирается сводить счеты с жизнью. К сожалению, мне не удалось предотвратить вскрытие, однако я побывал у prefet,[15]15
Префект (фр.).
[Закрыть] и он уверил меня, что если не появятся новые факты, подтверждающие насильственную смерть, происшедшее будет квалифицировано как несчастный случай. Это поможет избежать затруднений с похоронами. Я навестил также чудаковатого дядюшку Пьера, аббата из Фулька, и он окажет нам моральную поддержку, если полицейские станут слишком докучать. Вам известно, что аббат получил разрешение на похороны в верфельском фамильном склепе? Надеюсь, к завтрашнему вечеру все будет улажено. Ну вот, больше рассказывать нечего. – Журден положил руки на стол и впал в глубокую задумчивость. – Возможно, это Сильвия, – проговорил он. – Если так, то мы должны настаивать на непреднамеренном убийстве. Несчастный случай. Да, так и оно и было, скорее всего.
Меня, как ни странно, успокоил его рассказ, ведь до сего момента смерть Пьера казалась мне совершенно необъяснимой. А теперь все встало на свои места, и когда полицейские получат конкретные результаты вскрытия, все опять пойдет своим чередом. Можно будет заняться похоронами. Тем не менее, пока Журден говорил, я, словно воочию видел длинный небрежный разрез от груди до mons pubis.[16]16
Лобок (лат.).
[Закрыть]
– А Тоби? – вдруг жестко спросил Журден. – Какого дьявола он не приехал?
На этот вопрос у меня не было ответа.
– Мы телеграфировали ему в Оксфорд. Наверно, не успел еще или, как обычно, путешествует по Германии… Не знаю.
Журден кивнул и тут же, чертыхнувшись, вскочил.
– Совсем забыл. Я ведь взял у полицейских фотографии. На них комната Пьера, какой ее застали инспектор и medicin-legiste.[17]17
Судебно-медицинский эксперт (фр.).
[Закрыть] Конечно, шум отчасти оттого, что он умер в «Принц-отеле» – какого дьявола Пьер не поселился, например, в «Бристоле»? Из экономии? Ведь это maison de passe.[18]18
Дом свиданий (фр.).
[Закрыть] У него были тайные пороки, о которых мы не знали? Так или иначе, если в «Принце» что-то случается, полиция тут как тут. Потому и все эти вопросы, фотографии и прочее. К тому же, он оказался любителем quat… гашиша… чем доставил большое удовольствие фараонам. А больше, в сущности, ничего интересного.
Сообщая это, Журден открыл тяжелый черный портфель, лежавший поначалу рядом с софой, и достал из него конверт с еще влажными фотографиями. Блестящие снимки липли к рукам. До чего же прекрасны были эти натюрморты, изображавшие неубранный номер Пьера. Журден выложил их на зеленый карточный стол, подвинул два кресла и принес большую лупу, чтобы я мог получше разглядеть обстановку да и самого постояльца, лежавшего на кровати в той самой позе, в какой его нашли полицейские. У меня перехватило дыхание, когда я начал перебирать снимки. Журден продолжал тихо рассказывать, стремясь выложить как можно больше подробностей необъяснимой трагедии:
– На пустом пузырьке осталось несколько отпечатков пальцев. Среди них есть и отпечатки Сильвии. Это важно. Вам ведь известно, что Пьер принимал большие дозы люминала в качестве успокоительного и снотворного. Его-то и найдут у него в желудке.
Пьер лежал на боку, подтянув колени – почти в точности повторяя позу младенца в утробе матери; одеяло было откинуто, по-видимому, он собирался встать. Смотрел он прямо в объектив фотоаппарата, в сторону двери, и с радостным удивлением улыбался вошедшему, явно довольный его появлением. На фотографии, сделанной при помощи вспышки, четко было изображено красивое породистое лицо и яркие синие глаза, сиявшие, словно сапфиры. Он был в старой белой ночной сорочке с монограммой на груди. Мне как будто показали кадр из фильма, по которому невозможно было понять, что на самом деле собирался сделать Пьер; не исключено, что он вовсе не вставал, а как раз наоборот, с удовольствием ложился в постель и улыбался кому-то на прощание.
Одну руку (хорошо было видно крепкое запястье фехтовальщика) он протянул к ночной тумбочке, собираясь не то выключить свет, не то взять книгу, а может быть, сигарету. Я схватился за лупу, чтобы получше разглядеть мелкие детали. Ближе к кровати лежал роман. Рядом с ним – часы, поодаль стояла серебряная пепельница, и из нее торчал эбонитовый мундштук. В другой пепельнице, побольше, куча сигаретных и сигарных окурков. Я сразу узнал сигары, которые курил Пьер. Вообще же в номере царил хаос. Повсюду чайные чашки, банки с джемом, цветы, пакетики с благовонными палочками, иллюстрированные журналы и горы книг и писем.
– Похоже, там совсем не убирали, – заметил я.
Журден пожал плечами.
– «Принц», – сказал он, словно это все объясняло.
По правде говоря, зная неаккуратность Пьера, я не видел в беспорядке ничего особенного. Шкафы у него никогда не закрывались. И хотя он всегда был немного денди, его гардероб не отличался разнообразием, но зато свидетельствовал о пристрастии Пьера к вещам, сшитым на заказ в Лондоне. Двух средних размеров сундуков вполне хватило бы для всех его пожитков, другое дело книги. Пьер жить не мог без книг, без множества книг. Потому ему и понадобились самодельные, сбитые из ящиков, основательно прогнувшиеся полки. На стене висела его любимая, написанная маслом картина с изображением нашей троицы. В желтом гамаке под платанами, вся в солнечных бликах, Сильвия с охапкой цветов на коленях. По одну сторону от нее Пьер с дамской соломенной шляпой в руках, словно только что поднял ее с земли, по другую, прислонившись к дереву, стою я с сигаретой в зубах. Небо чистое-чистое, каким оно бывает только когда дует мистраль. На нем ни облачка, и оно кажется твердым, будто из эмали. Пока я перебирал снимки, на меня накатила слабость, и комок застрял в горле. Но в глаза мне не бросилось ничего необычного. Единственным недостающим украшением могла бы быть знаменитая карта смерти, которую Пьер составлял в последнее время и которая подтверждала его намерение писать о своем близящемся конце. Но об этом после. У меня устала рука. Да и мысли надо привести в порядок. Что-то не дает мне покоя. Что?
После обеда Журден поехал со мной в отель. Увидев сквозь стеклянную дверь, что вела в патио, двух мужчин, он хмыкнул. По неодолимой скуке, которую они выражали всем своим видом, обреченно куря сигареты, я почти угадал, кто это такие – еще до того, как доктор назвал их имена.
– Старик Беше, нотариус, и полицейский инспектор Толон. Наверно, хотят, чтобы вы взглянули на номер в отеле.
Я стал прощаться.
– Держите со мной связь, – сказал Журден, тряся мою руку.
Я обещал.
Потом открыл стеклянную клетку и, войдя в патио с пыльными пятнистыми пальмами, представился обоим мужчинам – по крайней мере, одному из них, ибо несколько лет назад Пьер познакомил меня с Беше. Мы обменялись соболезнованиями, со стороны Беше вполне искренними, потому что он действительно любил семью Пьера. Как всегда Беше пыхтел и сопел, и когда ему не хватало слов, размахивал руками.
Это немыслимо, это несчастный случай, повторил он несколько раз, тогда как тщедушный полицейский, который в гражданском костюме выглядел крайне непрезентабельно, решил оставить свои сомнения при себе.
– Подождем, – спокойно проговорил он. – Завтра получим результаты вскрытия и вернем тело в морг, в chapelle ardente,[19]19
Помещение, где устанавливают гроб (фр.).
[Закрыть] где с месье де Ногаре смогут попрощаться родственники.
У меня душа убежала в пятки при одной мысли о подобном свидании, хотя это и недостойно медика – мне ли не знать? Беше же принялся подробно рассказывать о процедуре похорон, описанной в завещании. Его весьма смущали некоторые детали, ибо Пьер настаивал на похоронах без отпевания и после захода солнца, то есть при свете факелов, но в семейном caveau[20]20
Склеп (фр.).
[Закрыть] – рядом с предками.
– Ужасно неприлично, – сказал Беше. – Что подумает аббат? Еще решит, не дай бог, будто Пьер был атеистом.
Толон тяжело вздохнул, и я понял, что он испытывает самые что ни на есть антиклерикальные чувства.
– Очень неприятно, – сетовал старый нотариус, роняя пепел на мятый костюм и крапчатый галстук-бабочку.
– Атеистом-то еще ничего, – задумчиво произнес я. – Пьер ведь состоял в египетской секте гностиков, а они уж точно отступники… Видимо, в этом и кроется причина столь необычных распоряжений насчет похорон.
Теряя терпение, Толон спросил, не могу ли я взглянуть на номер, в котором умер мой друг. Он-де пока опечатан полицией, и вдруг какая-нибудь мелочь подскажет мне, что там стряслось на самом деле. Идти мне не хотелось, но и отказ был невозможен. Несмотря на очевидное нежелание сопровождать нас, Беше (суеверный, как все средиземноморцы, когда дело касалось смерти друзей) позволил учтивости взять верх над остальными чувствами и согласился совершить небольшую прогулку через площадь до «Принц-отеля». Мне же хотелось скорее покончить с тем, чего все равно нельзя было избежать.
Наступила ночь. Светила луна. Золотой фонарь с надписью «Принц-отель» покачивал легкий ветерок. От старости здание разрушалось, в нем стоял запах пыли и засоренной канализации. Мы поднялись на второй этаж. Толон сломал сургучную печать на одной из дверей, и мы оказались в просторной, но душной комнате. Не зажигая света, инспектор пересек ее и открыл балконную дверь, после чего вернулся и щелкнул выключателем. Засиженный птицами балкон выходил в разросшийся и уже давно не плодоносивший сад. Наверняка Пьер просиживал тут морозные зимние вечера, глядя, как понемногу гаснет день над Авиньоном, и город, словно парусник, разворачивающийся боком к ветру, вплывает в тревожные сумерки. Если смотреть отсюда на плотную мозаику из коричневых черепичных крыш, то кажется, будто Авиньон сползает вниз в широкую зеленую реку, несущую свои воды в сторону Арля и Алискана,[21]21
Алискан – античный некрополь неподалеку от Арля.
[Закрыть] его разрушенного некрополя. Как я теперь, Пьер мысленно плыл по реке к морю, а потом вновь поворачивал на север…
В здешних красивейших местах нет уголка, который не был бы исследован нашей троицей во время пеших или верховых прогулок, а еще были поездки на разбитой телеге, запряженной пони и нагруженной всем необходимым для обустройства походного лагеря. Летними ночами, когда мы сидели вокруг сложенного из маслиновых веток костра на каком-нибудь поле вблизи Ремулена или Арамона, луна, похожая на апельсин-королек, висела над рекой, ожидая нашего возвращения. Маленький, чванливый и сварливый Авиньон въелся мне в душу. Меня передернуло от боли, и я вернулся в комнату, где двое моих спутников всем своим видом выражали дружеское участие, втайне надеясь, что я оценю его и сообщу что-нибудь стоящее. Однако мне ничего такого не приходило в голову.
– Тело унесли, но в комнате ни к чему не прикасались, – кроме стаканов и пузырька со снотворным, с которых сняли отпечатки пальцев.
На ближней стене висела так называемая «карта смерти», составленная моим другом. Заметив, что Беше с нескрываемым волнением изучает ее, я подошел, чтобы по мере сил объяснить, что к чему.
– Здесь имена умерших друзей. По-моему, Пьер придавал большое значение их смерти, по крайней мере, он часто повторял, будто каждая из них научила его чему-то новому, чего он еще не знал о феномене смерти. Кстати, он собирался обобщить свои знания в философском эссе. Это связано с сектой гностиков, в которой он состоял.
Мое объяснение прозвучало не очень убедительно и даже довольно глупо, но это было хоть что-то в сложившейся тупиковой ситуации. Беше фыркнул и надел пенсне.
– Да, да, да, – с досадой пробормотал он, ибо не выносил разговоров о смерти.
Всю свою жизнь, состоявшую из множества рутинных занятий, он распланировал таким образом, чтобы избегать мыслей о собственном постепенном приближении к концу. Толон же, родившийся намного позже нотариуса, был из другого теста. Большая желтая карта не лишила его покоя.
– Я переписал имена, – сообщил он, и мне стало ясно, что грозное досье будет им осмыслено и переосмыслено.
– Стало быть, все они умерли? – с отвращением спросил Беше.
– Да.
– А почему карта такая странная? Похожа на змею.
– Змея и есть. Эта маленькая секта считает, что смерть похожа на Змею, в честь которой названо созвездие. Она символизирует процесс и даже само время.
Беше чуть не застонал от всех этих сложностей. Поглядев на его испуганное лицо, я понял, что продолжать не стоит. К тому же слова мои едва ли были ему понятны.
– Во всяком случае, так мне говорил Пьер, – торопливо произнес я, пока нотариус, вздыхая, тер свой длинный нос защитника крайних взглядов.








